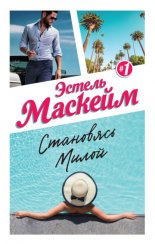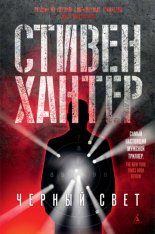Отрочество Панфилов Василий

На очередное Агапиевское сморканье трубно ответил осёл, вставший посреди узкой улочки, и демонстрируя всем свою ослиную натуру.
Прибыли мы к пароходу незадолго перед самым отходом, споткнувшись было о препятствие в виде греческой таможни. Несколько плохо выбритых мужчин в несвежей, и кажется – не полностью комплектной форме, оживились при виде нашей процессии.
Чемоданы, саквояжи и…
– Индюшка, – твёрдо ответила Зоя, – всего одна! Надо же тебе что-то кушать в дороге! Совсем немножечко домашней еды.
Она вцепилась обеими руками в большую корзину, наподобие тех, в которых на Юге переносят арбузы. Я открыл было рот… и закрыл обратно, обречённо вздохнув.
Вещи мои громоздились на таможне горой, а вокруг толпились Папаиоанну. Кто из нас отправляется, а кто остаётся, разобраться оказалось не так легко.
– Что это? – поинтересовался таможенник – благо, я уже научился понимать здешний диалект греческого.
– Книги, – ответил за меня Агапий.
– А это… – служивый взялся было за следующий чемодан.
– И это книги! Каждая книга с автографом автора! Уважаемые люди…
Гостеприимный мой хозяин разразился речью в лучших традициях Цицерона и Демосфена, заменяя недостаток ораторского мастерства богатой фантазией, мимикой и жестикуляцией. Не без удивления я понял, што являюсь очень важным лицом, и чуть не связующим звеном между Афинами и Петербургом.
Да-да! И от действий нерадивых таможенников, не понимающих суть дипломатии, может рухнуть мост дружбы между Элладой и Россией.
Прониклись ли таможенники пламенной речью, или были привычны к такой манере изъясняться, не знаю. Выдержав дружный напор провожающих, они проштемпелевали документы и пропустили меня на борт.
– Тревожно мне за Егора, – кутаясь от сквозняка в оренбургскую шаль, проронила Мария Ивановна, отложив вязание, – не слишком ли ты застращал мальчика?
– Хм, – Владимир Алексеевич оторвался от газеты, и некоторое время сидел молча.
– Не слишком, – сказал наконец он излишне уверенным тоном, – проблемы с Голядевой и её покровителями достаточно весомы, даже и с учётом моих связей. Он замечательный молодой человек, но очень уж резкий. Даже я в ево годы… хм…
– Нет, – решительно подытожил Гиляровский, – полезный опыт! Немного испуга, отсутствие привычной среды и дальнее путешествие научат его быть более осмотрительным.
Выразив своё мнение, он сердито зашелестел газетой, прерывая бессмысленный разговор. В конце концов, путешествие – лучший способ проветрить мозги!
Соседями моими по каюте оказалась троица репортёров из французских газет. Я было впечатлился, но оказалось, што это типичнейший для Франции типаж умственно ленивых людей, имеющих достаточную ренту, с которой можно не думать о хлебе насущном.
Получив несколько невнятное образование, они вяло плетутся по жизни, ведя полубогемный образ жизни. То без особого жара учатся живописи, то уезжают за впечатлениями в Африку.
Попутчики мои выбрали стезю репортёров, получив удостоверения прессы ради самоуважения, но не будучи репортёрами профессиональными, командировочные от редакций получили самые символические.
– Так вы тоже репортёр, Жорж? – обрадовался Сент-Пьер, вялый кокаинист лет тридцати, с подорванным здоровьем и молоденьким сердечным другом под руку. Таким себе кокетливым, чуточку прыщеватым, жопастым парнишечкой, явно моложе семнадцати, Андрэ.
– Тоже, – вздохнул я, пытаясь не обращать внимание на подсознание, ворчащее што-то сильно нехорошее. Мужеложцы и мужеложцы, эка невидаль… Ко мне не лезут, ну и ладно.
Третий мой попутчик – язвительный крепыш двадцати двух лет, постоянно бравирующий своими студенческими похождениями и мышцами. Жан-Жак без особых на то оснований мнил себя «опасным малым» и покорителем женских сердец.
Впрочем, несмотря на все эти особенностями, поладили мы нормально, и неплохо сошлись за карточным столом. Так сошлись, што до самого Порт-Саида почти и не вставали.
Ну так и грех жаловаться! Ни много, ни мало, а почти тыщу франков я себе в бумажник положил.
– Вы как хотите, господа, – сказал я по прибытию в порт, вставая из-за стола, – а я решительно настроен прогуляться!
– Я с тобой, – отозвался Жан-Жак, – в самом деле! Какое-никакое, а приключение!
Порт-Саид показался мне достаточно интересным городом, с типично европейской колониальной архитектурой и местным колоритом, вроде европейски одетых туземцев, пальм и парочки встреченных верблюдов. Сделал несколько интересных кадров, и оживившийся Жан-Жак потянул меня в трущобы, за настоящей экзотикой.
В иное время я бы сто раз подумал, но сонный мозг не склонен к критическому мышлению. Следуя за французом, делаю время от времени небезыинтересные снимки, и вяло отмечаю, што трущобы становятся…
… всё более аутентичными.
Улочки всё уже, народ одет всё менее европейски, и белых людей вокруг, ну ни души! А эти всё нахальней, обступают. Чуть не вплотную!
... ловлю чужую руку в кармане, и как не раз уже бывало на Хитровке – пальцы на излом…
… перестарался.
Хруст. Визг. И пострадавший, араб лет под двадцать, тычет в меня острой железкой, зажатой в здоровой руке. Бешеные глаза, оскал нечастых зубов, и искреннее желание убить.
Шаг назад, уклон… блокировать рукой...
Успеваю заметить, но не почувствовать, кровавую полосу, прочертившую мне предплечье.
… замах… шаг назад и вбок... натыкаюсь на одного из аборигенов... места для маневра больше нет!
Тычок… блокирую, снова… и выхваченной из кармана навахой вскрываю горло. Как барану.
Хрип булькающий. И кровь веером – на лицо.
Тридцать седьмая глава
… и тишина может быть оглушительной. А потом — взрыв негодования, ярости, бешенства!
— Р-ра! — молотом по ушам, чуть не до разрыва перепонок. И рожи вокруг – пасти оскаленные, с тёмными глазами, белеющими от ярости до полной льдистости. Взметнулись палки, дабы покарать…
… шаг, и вот я с отобранной суковатой палкой бью одного из бесноватых в грудь приёмом из штыкового боя. Сильно бью, не дозируя, не жалеючи. Немолодой бородатый мужчина обвисает на палке, и тут же – второго по голове, опережая замах.
Без размаха, только штоб успеть первым. Осел тот наземь, кровь меж пальцев растопыренных строится, глаза бездумные в никуда устремил.
Дробью барабанной парирование прозвучало, ан не все и успел, часть на плечи да предплечья принял, крутанувшись для мягкости. Только зашипел сквозь стиснутые зубы.
Больно! Руки отсушены так, што не просто синцы, а мал-мала не переломы. Как только оружье не выпустил, и не знаю. На морально-волевых.
И близко! Нависли надо мной, вот-вот лавиной рухнут… Ужом извертелся, и по рукам загребущим ножом — н-на! Палкой тычок в подрёберье одному, в пах на возврате второму, да ногой в коленку третьему.
Не жалеючи, но и без силы особой — на скорость, штоб только отбиться. Вьюном завился, и какая там тактика! Какое хладнокровие! Рефлексы, на тренировках вбитые, да в драках отточенные.
Помню только, што главное – голову беречь, потому как если попадут, то всё. Я не баран-баранистый, головой ворота не пробиваю! Я ею думаю.
Затем пах беречь надо, позвоночник, коленки, живот… А мясо, так и Бог с ним! Нарастёт.
Отваливаются с охами и ахами покалеченные, ширше стало вокруг. Перехватываю палку за самый конец, и раскручиваю её в некоем подобии фланкирования, скользком цепляя самые наглые из бородатых морд. Морды, да коленки, да по рукам тянущимся. С хрустом!
Шире вращение, ещё шире… Толпа расступается, как воды морские перед Моисеем. Отхлынули.
Краем глаза вижу француза, бегущего из трущоб. Просто факт, без эмоций и выводов.
В одной у меня руке палка, в другой нож, предплечья кровят, под ногами труп… Ан нет, отсучил своё ногами, теперь всё — труп.
Молчание… потом кто-то из толпы начинает скандировать на арабском. Раз, другой, и вот уже они подхватывают, выкрикивая дружно… што-то там.
И теснят. Палки выставили, рожи оскалили, и разом все двигаются. Шаг, ещё шаг…
Чувствую себя волком в передвижном зоопарке, но куда я денусь? Иду, внимательно следя, штобы граница пустоты оставалась неизменной.
Запах. Пахнет зоопарком. Знаю, што мусульмане должны содержать себя в чистоте, но эти, судя по всему, не знают. Или понимают чистоту как-то иначе. Тяжёлый звериный дух людей, ночующих в одном помещении с верблюдами и козами.
Долго ли… показалось, што очень, и вот я уже перед воротами дома побогаче, а толпа – полукругом. И крики, крики, крики…
Наконец, ворота отворились, вышел немолодой, разом вспотевший полный мужчина, и начался бешеный диалог на арабском, прерываемый скандированием. Взмётывающиеся в воздух кулаки и палки, злые слова. Не понимаю ни словечка, но здесь не надо быть лингвистом, штобы понять суть.
Крови жаждут. Справедливости. Так, как они её понимают.
Кто это? Бог весть. Мужчина косится на меня одним глазом, не отрывая второго от вожака этих, самоорганизовавшихся. Разговаривает, пытаясь соблюсти важность, и одновременно для меня – страдальческая гримаса человека, вынужденного участвовать в чём-то против воли.
Несколько раз попытки сказать мне што-то на английском, и сразу – взрыв негодования из толпы!
Склонённая голова, вздох, распрямлённые плечи, и вот он уже не вытащенный из дому человек, а важный чиновник. Несколько резких фраз, и восторженные вопли толпы, от которых у меня мурашки и волосья дыбом во всех местах. И такая-то тоска смертная накатила…
« – Не дамся, — пульсирует мысль, – забьют так забьют, но лучше так, чем на кол сесть или на верёвке повиснуть.»
Так же, скандируя, толпа повлекла меня куда-то. Чиновник этот со мной, не отстаёт, только смотрит иногда взглядом побитой собаки, и только што низко опущенным хвостом не виляет, подметая дорожную пыль.
Высокий забор, будочка на воротах, и облегчение. Тюрьма. Не убьют. Не сразу.
Горячечный разговор чиновника со стражем на воротах, спешно прибежавший начальник – худой, но с брюхом, будто смеха ради засунул бурдюк под натянувшийся мундир, даже и пуговицы разошлись на разожралом животе. Тюремный чин принимает самый начальственный вид, и чувствуя за спиной поддержку вооружённых подчинённых, разговаривает с толпой через губу, крайне высокомерно.
Шаг за ворота тюрьмы, и они захлопываются с грохотом, и будто даже крики стали в разы тише. Тоска…
А начальник лопочет што-то на плохом английском. Настолько плохом, што понимаю только — просят пройти и… чего-то подождать.
Невысокие бараки с двух сторон, с толстенными стенами и многочисленными дверьми. Забранные решёткой маленькие окошки без стекол, и жар. Каменные ли это бараки, или глинобитные, а накалены так, што чуть не до дурноты.
И запах. Зверинцем пахнет из окошек. Давно немытыми телами, больными желудками и зубами, протухлой едой, испражнениями и абсолютной безнадёгой. Ад!
Но нет, мимо ведут, вижу только любопытные рожи местных уголовников, расплющившиеся об решётки. Нож и палку тюремщики отбирать даже и не пытаются, будто признают право…
… и надежда, угасшая было чуть не напрочь, вспыхнула с новой силой. Убежал француз!
По трусости или нет, а уже -- знают. Как там дальше повернётся, неизвестно, но – знают.
И плечи будто сами – р-раз! Грудь колесом, и пошёл фланирующей походкой молодого человека из хорошей семьи. Полицейские и до того не без почтения, а теперь у них в головах будто рычаги какие-то переключились, и такая даже нотка подобострастия в поведении. Не конвой, а стража почётная, телохранители при знатном и благородном мне.
Канцелярия… именно так почему-то вылезло в голове при виде небольшого двухэтажного здания, резко контрастирующево с бараками. Тут тебе и отделка узорчатая по фасаду, и несколько чахлых пальм с пожухшими листьями, и даже какая-никакая, а плитка перед входом. Культура!
Вооружённый часовой у входа вытягивается в подобии стойки смирно, лупая на меня любопытными карими глазами. Прохладный, в сравнении с межбарачным адом, холл, ступеньки на второй этаж, резные перила.
Кабинет просторный, с полотняными навесами над окнами от неистового солнца, с небедной мебелью. И этот… начальник. Суетится.
Фельдшера прислали, раны обмыли и перевязали. Воды, сока гранатового под руку поставили. А я кушетку увидел, и не спрашивая… спать…
Только голова коснулась, как чуть не сразу – будят. По солнцу понимаю, што вот ни разу не сразу, но сонному организму это не докажешь. Усталость только, да отупение совершеннейшее, и всё тело болит.
В кабинет уже заходят какие-то… местные сперва, спинами вперёд и беспрерывно кланяясь. За ними важно держащиеся европейцы самово разгневанново вида. Глаза горят, усы щётками жёсткими топорщатся. А негодования-то сколько! Скандал! Белого человека посмели…
Теснота! В ни разу не маленький кабинет набилось чуть не двадцать человек, и все на нервах. Эмоции как ток электрический – чуть ещё, и искры в воздухе проскакивать начнут.
Духота разом, несмотря на окна открытые. Запахи табака и алкоголя, благовоний и одеколона, потных тел и ваксы.
Забирали меня из тюрьмы ажно с целым английским консулом, цедившем сквозь зубы всякое о возомнивших о себе туземцах. Так через зубы, што ажно желваки катаются, и лицо белыми пятнами. Гневен!
– Право на самооборону священно, а тем более – белого человека от обезьян! – как выплюнуто, и взгляд холодно-бешеный на тюремщика. Да на руки мои глаза переводит, где сквозь бинты кровь проступила.
Начальник кланяется, и извиняется. Потеет за троих, воняет псиной. А у меня… не знаю, двойственность какая-то. С одной стороны приятно быть кем-то таким… ну, над толпой. А с другой – вроде как и с гнильцой приятность эта.
Обещаю себе обдумать, но потом, и задвигаю эту мыслю с гнильцой в дальний угол сознаний. Потом… Сейчас у меня – ну никаких мыслей! Спать хочу… и этот… стресс!
Да и консул… он как бы и за меня, но глаза такие рыбьи, да с душком притом, што ясно – за меня он только тогда, когда против местных туземцев. А если против англичанина, так и сам обезьяна.
Зато капитан моево пароходика – именинником! Усы дыбятся, походка у кота перед дракой. Он! Вытащил! Своего! Пассажира! Вот так именно, большими буквами на лице, чуть не даже написано.
А действительно ведь он. Жан-Жак первым делом к нему, а капитан Лефевр… или Ле Февр? В общем, поднял вооружённый экипаж и пассажиров из добровольцев, и к консулу! Поступок, как ни крути.
Вон, французские боевые пидорасы в толпе европейцев, морды самые решительные. Чувствуют себя героями, будто и в самом деле…
Обрываю дурные мысли. Помогли? И спасибо! А как, почему, да ёрничанье это – к чорту!
– Ты на Жан-Жака не сердись, – вертится вокруг меня этот… жопастенький, как нельзя сильно напоминающий бабу, хлопочущую вокруг побитово мужика, пусть даже и чужово, – ему руку сломали, потому и не полез дальше в драку.
Киваю, киваю…
Наскакивает… глаза горящие, в руках блокнот с карандашом, и вопросы, вопросы… Репортёр.
Их тут много, на пароходе-то. Казалось бы, ну какое дело французской общественности до паломничества кайзера в Святую Землю? Ан есть дело, и куда как побольше, чем самим немцам! Так выходит.
Репортёров французских в Палестине уже больше, чем всей свиты кайзера, а едут ещё и ещё. Почему? Французы! Понимают, што это – геополитика, и никак иначе! Глобальная.
Тик-так… в Европу приходит Немецкое Время. Лучшие товары – Пруссия. Лучшая армия – Прусская. Лучшая наука – Прусская.
И – узко им в Европе. Маршируют по Африке прусские солдаты, осваивают Южную Америку трудолюбивые немецкие колонисты, помогают Османской Империи военными советниками и кредитами. А теперь и Палестина… тик-так! Прусское время!
Каждая французская газета провинциальная, и чуть не листки информационные, норовят из первых рук… И едут репортёры и «вроде как репортёры», любопытствующие и просто туристы. Тревожатся. Понимают.
А я спать хочу! Только сперва помыться: кажется, будто и от меня теперь – зверинцем несёт. Думать – потом!
Отвечаю машинально на вопросы, и только вялая мысль бьётся в голове…
« … а не наговорю ли я лишнево?»
... и как оказалось сильно позже – наговорил-таки. А точнее, не столько даже наговорил, сколько за меня – додумали.
История небезынтересная, но в общем-то рядовая для здешних диковатых мест. Случается… да всякое случается!
Другое дело, што не каждый раз в Приключение прямо или косвенно оказывается замешано сразу пара десятков французских репортёров. В основном «вроде как…», но ситуацию это скорее усугубило.
Там, где опытный шакал пера накропает заметку в пару строк, «вроде как…» пишут эпос уровня Гильгамеша. Особенно если сами каким-то боком поучаствовали. Спутники Героя. Отблески славы.
… но об этом – сильно потом.
Тридцать восьмая глава
Проснулся с колотящимся сердцем, што чуть не рёбра перемалывает в труху. Руки трясутся, а в поту чуть не плаваю, хотя в каюте не так штобы и жарко.
Сон… всего лишь сон…
… кровь в лицо из распоротого горла. Веером. Долгонько ещё будет сниться мне это, ох и долгонько!
И ведь виновен тот араб, как ни крути, а — виновен! Сам в карман полез, никто не заставлял. Сам ножичком тыкать начал. Как ни крути, а самозащита чистой воды.
Но вот снится же… Снова, снова и снова, раз за разом. Зубы эти через раз, глаза бешеные, железо калёное в руке, а потом — кровь. Который раз уже за ночь просыпаюсь в поту холодном.
Полежав немного, повёл плечами, да и встал, одеваясь тихохонько, да глядя с раздражением на этих… ишь, парочка! Раздражение глухое… пришлось напоминать себе, што эти — в первых рядах с револьверами за мной пришли. И пусть настоящей опасности в оккупированном Египте для них никакой и не было, но всякое бывает. Полыхает иногда всякое, народно-освободительное.
Вот, как меня… забили бы, ей-ей! Просто потому, што белый. Оккупант. Враг. И попробуй, разъясни каждому тонкости. Да и захотят ли слушать?
На палубе прохладно и ветрено, остатки душевной дурноты быстро растрепались под морским ветром, как и не было. Потянулся со вкусом, похрустел суставчиками, да глянул на часы: скоро светать начнёт, можно уже и не ложиться. Проветрюсь немножечко, да и назад – умываться и зубы чистить, да в гальюн, а там и завтрак.
Палуба слегка подсвечена огнями – ни много, ни мало, а ровно в плепорцию — штобы работа работалась, а по сторонам не глазелось. Редкие моряки занимаются своими морскими делами, не обращая внимания на пассажиров. Привыкшие.
На палубе я не одинок, ещё кому-то не спится. Вон, зевает с подвывом во всю бегемочью пасть мордатый эльзасец, вцепившись в поручни одной могучей лапищей, а второй ероша роскошную чёрную бороду.
Курит со смаком парижанин, ухитряясь выглядеть невообразимо светски и крайне неуместно на палубе захудалого судёнышка.
Пароход не новый, семидесятых ещё годов постройки, а проект ещё более старый. Трубы, мачты, паруса и угольная копоть, оседающая на паруса, палубы и пассажиров.
Сейчас трубы не чадят надсадно, роняя на палубу мелкие частицы дрянного угля, пахнущево чем-то кисловатым и едким. Не скрежещет двигатель, не лязгают многочисленные механизмы, и только изредка хлопают грязно-серые полотнища парусов на ветру, да покрикивает команды боцман, умело вплетая ругательства на десятке языков.
Несколько часов, и подойдёт пароход к пристани Хайфы, сойдут на берег пассажиры, выгрузят товары, и снова — по кругу. Афины, Крит, Порт-Саид, Хайфа, Бейрут, Измир, Афины. Снова и снова…
Настроение сделалось философским, и даже дурной сон начал отходить в прошлое.
– Не спится, Жорж? — поинтересовался с ленцой как там его бишь… Альфонс, точно! Отпрыск благородново семейства, хотя гляжу я на него, и благородново там, ну вот ей-ей, ни на йоту! Средний рост, среднее телосложение, а морда такая себе, што и сильно ниже среднево. Даже и не лицо. Морда как есть!
Вот глянешь на таково, и в голову сразу мифы древнегреческие. Те самые, в которых с козочками да с лебедями. То ли мама ево с конём, то ли папа с козой… В общем, сразу видно – скотина! С родословной.
Самомнение только што, да образование недурственное. Наверное.
Тоже «вроде как». В газетки иногда пописывает, и говорят, иногда даже и печатают, н-да… Где-то там служил, чему-то учился, и вообще – широко известен в очень узких кругах. Не совсем понятно, чем именно, но и не очень-то интересно.
– Не спится, – отвечаю на так… лишь бы от вежливости, штобы не портить отношения на ровном месте. Ну, не нравится человек… мне много кто не нравится, так куда деваться?
— Неужто кошмары? – и даже будто изумление, такая себе подковырочка. Морда перекосилась так, што ну вот один в один – козёл будто, жвачку пережёвывающий. Челюсть узкая в одну сторону, усы сикосем по всей роже.
— Они самые, Альфонс, они самые, -- пропускаю мимо ушей. Он подковыривает, а я вот не подковыриваюсь.
– Было бы из-за чего переживать, – взмах рукой, такой себе небрежный, – я в Алжире этих обезьян не один десяток пристрелил. Бах! И нету! Уши только иногда отрезал, если охота интересной была. Или уши.
Он засмеялся механически, и я понял наконец, што курит он разу не табак. Тьфу ты! Пропащий совсем человек! Вот так вот, ночью встать… или он просто не ложился? Скорее всего. Ну тогда ещё туды-сюды, может и не совсем.
Так-то многие в этой среде нет-нет, да и позволяют себе излишества. Насмотрелся.
На Хитровке таких полно, да и среди знакомых дяди Гиляя, н-да.. Артистическая среда ети её мать! Богема! Не все, сильно далеко не все, но и за грех не считается ни разу.
У аристократии так каждый второй, не считая каждого первого. Не кокаин, там опиум курят, или морфием балуются. Сам, правда, не видел. Не допущен в эмпиреи, так сказать.
– Поверьте мне, Жорж, – с ноткой ностальгии сказал француз, – человек – лучший охотничий трофей! Такой азарт! Выследить эту хитрую тварь – помня, что у неё тоже есть оружие, и главное – человеческий разум!
– Почти человеческий, – поправляется он, – хе-хе! А потом – приклад к щеке, и ты прицеливаешься, унимая сладкую дрожь предвкушения. Выстрел! И двуногая дичь падает наземь.
Жму плечами выразительно, не желая вступать в дискуссию.
– Ничего, – и по плечу меня, да руку там и оставил, – какие твои годы! Научишься! Я в шестнадцать лет совсем ещё щенком был, а потом ничего, натаскали! В борделе-то хоть был?
– Мне тринадцать, – перебиваю его, потому как чуйка пошла, што как начнёт вывалить всякое… пошлое. Вовсе уж.
– Кхе… что? – и морда лица такая неверящая, хорошо видная под красноватым светом восходящего солнца.
– Тринадцать, – повторяю, – с половиной, просто вытянулся сильно после болезни. Чумой отболел, лежал долго.
– Кхе…
Рука наконец-то убирается с плеча, и взгляд такой задумчивый. Главное, молчит.
За завтраком Альфонс подсел к нам, по-приятельски здороваясь с Сент-Пьером. Вон, жопастик даже заревновал. Тьфу ты…
На Хитровке на жопошников насмотрелся, потом тоже… всякое видел. Казалось бы, ну и чорт с ними! Пока не лезут. Ан нет! Одно дело просто знать, и другое – когда вот этак, вблизи, когда не отвернуться.
Поели, и за кофе Альфонс выложил на стол коробку.
– Это вам, Жорж, – сказал он, подвинув её небрежно по скатерти.
Хм… открываю, и вижу револьвер прекрасной работы. Марка незнакома, но подгонка деталей отменная, а ухватистость-то какая! Аккурат под мою руку, тридцать второго калибра.
– Благодарю, – не стал я отказываться.
– С историей оружие, – продолжил Альфонс, – снял с одного… хм, трофея. Удивился изрядно, всё-таки тот совсем дикий был – даже и не козопас, а козоёб, хе-хе-хе! И такое оружие. Откуда, как…
Он выразительно пожал плечами. Сейчас, при дневном свете и отошедший от действия наркотиков, Альфонс уже не кажется бастардом сатира, а просто – некрасивый мужчина, держащийся с большим достоинством.
– Действительно, – невпопад сказал Жан-Жак, задумавшись о чём-то своём.
Позже, в каюте, он подарил мне дерринджер, на што я отдарился ножом, тем самым. Судя по довольному виду Жан-Жака, сделал я всё верно. Простенький дерринджер, да на украшенную серебром наваху из Толедо, оно уже то на то и есть, ежели по деньгам, да ещё История впридачу.
Это мне брезгливо взять в руки ЭТОТ нож, потому как эмоции и сны, а ему – интересное оружие в коллекцию. Самое то для рассказов млеющим феминам.
Вид Святой Земли всколыхнул во мне давно забытые религиозные чувства, и я забормотал молитвы, не отрывая глаз от приближающейся на горизонте полоске земли. В своём поступке я оказался не одинок, религиозные чувства охватили, пожалуй, едва ли не всех пассажиров.
Молился так, да думал о всяком божественном, пока не причалили, да не поставил стопы свою на Землю Святую…
– М-ме-ее! – дурниной заорала коза, сорвавшаяся с верёвки, – М-ме-ее!
Религиозный экстаз пропал, и тут же пришло чувство вины, собственной греховности. Потом стало смешно, и просто – земля, без всякого экстаза.
Холмистая, с редкой растительностью, с выжженной почвой, на которой растут только нечастые деревья, да жёсткая даже на вид трава, годная только козам да верблюдам. Как есть верёвки, хоть сейчас садись, и канат плети.
Но красиво! Пейзажи и правда библейские, будто знакомые с самово детства… Хотя о чём я! Канешно знакомы!
Гефсиманский сад, гора Кармель, Синай… это и многое другое – разом библейские сказки, и история с географией! Каждый камень… не знаю, сколько врак, сколько правды, но интересно – страсть! Я не я буду, а облажу всё, што только можно облазить, а што не вполне льзя, но не очень гонят – тоже!
Остро пожалел об утрате фотоаппарата. Такие снимки! Карточки, канешно, и так купить можно, да открыток полным полно. Но штобы самому… эт совсем другое дело!
Ну, хоть рисовать умею. Не штобы и совсем хорошо, но лучше, чем никак. Или купить?
Я задумчиво подёргал себя за мочку уха, представляя здешние цены, и сопоставляя их с собственным бюджетом. Владимир Алексеич дал мне денег на дорогу, да плюс символические командировочные и выигранные на пароходе франки, но… мало, как есть мало.
Непростая дорога, да недавнее пребывание кайзера, да куча репортёров с любопытствующими. Ого, как высоко должны были подскочить цены! Особенно на всякое репортёрское и жильё.
– Вам есть где остановиться? – ненавязчиво осведомился Альфонс, прерывая мои размышления. Он што, решил меня вроде как под опеку взять?
« – Дойче камараден» – откликнулось подсознание вовсе уж странным, без какого-либо перевода.
– У темплеров[57], – отзываюсь, приглядывая за улыбчивым, дочерна загорелым немолодым арабом, грузящим мои чемоданы на повозку, запряжённую осликом. Араб похож на пересушенную урючину, и поразительно уместен на этой выжженной земле. Такой же выжженный, пыльный, пахнущий травами, оливковым маслом и немного – потом.
– Однако, – не без удивления отозвался один из знакомых пассажиров, ненароком подслушавший беседу, – связи у вас, молодой человек!
Чуть улыбаюсь в ответ – да, связи… Не рассказывать же, што они хоть и есть, но немножечко не такие.
Улыбчивый долговязый Вильгельм, с ещё не сошедшими юношескими прыщами, из немецкой колонии Одессы, у которого я учился играть на аккордеоне – из меннонитов. Не друг, но приятель, а его отец каким-то боком партнёр дяди Фимы.
У меннонитов – родственные и религиозные связи с темплерами, а у дяди Фимы партнёрские с меннонитами, и вполне ожидаемо – с местными, палестинскими жидами. Несколько телеграмм прямо с вокзала, и – ждут.
– У кого останавливаетесь? – похоже, Альфонс решил взять надо мной што-то навроде шефства. Называю адрес, и тот кивает – дескать, запомнил.
Смущённо кашлянул тот самый, ненароком подслушавший, и я, повернувшись, развожу руками. Понимающий, но несколько резковатый кивок головой… с жильём здесь большие проблемы, да…
– Кармель Штрассе, – говорю арабу, и тот, всё такой же улыбающийся, похлопывает ослика по боку. Дёрнув боком, тот вывалил на дорогу содержимое кишечника, и затопал по пыльной дороге, мелко семеня аккуратными копытцами.
Напевая што, араб двинулся вперёд, ведя ослика в поводу, глядя вокруг незамутнёнными глазами человека, не задумывающегося о хлебе насущном. Вертя головой по сторонам и пытаясь запечатлеть глазами каждый дюйм, я двинулся за ним.
И совершенно детские эмоции навалились на меня. Будто мне годика три, и пролетевшая бабочка – чудо, каждый камешек под ногами – сокровище. Нагибаясь украдкой, я трогал травинки и приседал, разглядывая переползающую дорогу гусеницу. И камешки… не удержавшись, подобрал-таки с дороги круглый окатыш, попавшийся мне под ноги. На память.
Тридцать девятая глава
«Самодисциплина, которая включает в себя удаление от карт, танцев и театра, умеренность в еде, питье и одежде»
Никогда не думал, што это так… душно. Пиетизм[58] у темплеров не возведён в абсолют, как ранее, вплоть до удаления от мирских развлечений вообще, а также клятв, войн и судебных разбирательств. Говорят, ныне их учение более рационально-гуманистическое, но даже и представить не смог, а каково же было раньше?!
Заповеди основателя[59], положенные на фундамент лютеранства, привычны тем, кто с детства вырос в этой несомненно благочестивой, но несколько затхлой атмосфере. Будто комната с навсегда заколоченными окнами, полная запахов тлена и нафталина, в которой вместо проветривания хозяева жгут благовония. И улыбки снисходительные на предложение открыть форточку, впустив свежий воздух.
Давит! Вот ей-ей, могильной плитой на грудь тяжесть каменная, стылая.
Как гостя приняли, ничево плохого сказать не хочу. Да и в чужой монастырь со своим уставом… всё верно, всё так.
Но и жить по чужому уставу — до рвоты, до полного неприятия! Бог присутствует в их жизни постоянно, и кажется иногда педелем гимназическим. Не бегать! Не шалить! Не…
… и запись в журнал.
Я — гость. Отдельная чистенькая комната, обставленная с очень по-немецки. Накрахмаленное до острых складочек постельное бельё, занавесочки, фикусы, ковры, салфеточки с вышитыми мудрыми изречениями.
Стерильность абсолютная, не в каждой операционной такая, уж я-то знаю!
И деликатность. Немецкая, то бишь таранная, когда хозяева закрывают глаза, но так закрывают, што чуть не с грохотом лязгающей по брусчатке гаубицы. Или замечание — вежливое, как они это понимают.
Не в полной мере живу их жизнью, сильно не полной. Самым што ни на есть краешком, насколько это вообще возможно в окружении тех, кого можно назвать только – сектантами.
Хватает, и так хватает, што хочется себя за ворот рвануть, будто горло пережато. Духота эта духовная и Бог-педель. Неизбывно.
Даже спать когда ложусь, кажется мне, што витает в комнате кто-то незримый и следить строго, а правильно ли я сплю? По Завету?
В каждом шаге разности эти, в каждом вздохе. Даже и само построение фраз, вворачиваемые цитаты из Библии, жестикуляция. Инаковость, тщательно взлелеянная и культивируемая.
И снисходительность постоянная, от людей Посвящённых и Приближённых… чему-то там и кому-то. Они Выше. Всегда, неизменно. По факту.
Начинаю понимать, почему их не слишком-то любят местные жиды. И арабы. И… да собственно, никто из тех, кто живёт с ними бок о бок.
Издалека когда, то наверное, жизнь их выглядит правильной. Праведной. Житие библейское, с поправкой на современность.
Вблизи… да собственно, также, но – иначе. Личное благочестие и религиозные переживания, оно вроде как и хорошо, но только когда не в перебор.