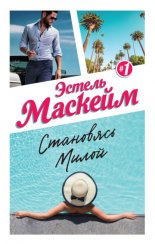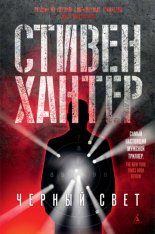Отрочество Панфилов Василий

Двадцать седьмая глава
« — Здравствуй на многие лета, брат мой Санька. Пишу тебе, как выдалась свободная минутка. Вернулся только из немецкой колонии, сбросил с плеч аккордеон, повесил куртку на вешалку, да и сел за письмо.
Душа моя разрывается на части — сил нет, как соскучился по тебе, Мишке, Владимиру Алексеевичу, Марии Ивановне и Наденьке.
Поверишь ли, даже сэр Хвост Трубой снится иногда. Подойдёт этак, боднёт башкой своей лохматой… дескать, скоро ты в Москву прибудешь-то?
Скучаю и по улочкам Московским, вплоть до каждого проулочка трущобного. Звон колокольный, стены Кремля, акающий московский говорок сниться. Бывает, что и гуляю во сне по улочкам, ставших мне роднее родных. Просыпаюсь, и слёзы на глазах.
Рвётся душа моя к вам так, что будь крылат – вот ей-ей, только взмахнул бы крылами, и к вам! Совсем уже скоро сяду на поезд, и отбуду в милую моему сердцу Москву, тотчас по отбытию затосковав по Одессе. Так вот, брат. Сердце навечно пополам.
Знаю уже, что буду видеть во сне Одессу с её набережной и каштанами в цвету, изменчивое и любимое море, Фиру, тётю Песю, Лёвку, Косту и всех-всех-всех, ставших для меня родными и близкими.
Хочется иногда придумать что-нибудь этакое, чтобы махнуть этак крылами, и в Одессе через пару часов. Не знаю пока ещё, как подступиться, но твёрдо уверен — небо будет нашим!
Есть у меня идеи крылатые, Санька! Есть! Но для этого нужна либо всемерная помощь государства, на что я совершенно не рассчитываю, зная безмерно дурное управление, либо деньги. Много денег!»
Шквалистый порыв ветра ударил в окно, заставив задребезжать стекло, за которым, отчаянно размахивая крылами, задом наперёд пролетел обалделый голубь, теряя перья и остатки и без того невеликих мозгов.
— Ма-ам! – раздался восторженный детский голосок, перекрывший шум ветра, – Смотри! Ма-ам…
Не выдержав пронзительного по-кошачьи мамканья, подошёл к окну. Ну да, ожидаемо… Мелкие Кацы, раздобыв где-то кусок драной парусины, подпрыгивали, вцепившись в углы, и пролетали несколько метров, заливисто хохоча.
– Ма-ам!
– Ой вэй! — показалась на пороге мать чумазого семейства, всплёскивая заполошно руками, — Живо домой! У всех дети как дети, на счастье и гордость, а у мине босяки на позор уже сейчас, а не когда подрастут! Домой!
— Ну ма-ам… – дружно, на редкость пронзительными противными голосами.
– Домой! – а голосок! Сразу ясно, што дети родные, и им есть куда расти по противности и пронзительности.
«Погода в Одессе отличная! Лёгкий октябрьский ветерок колышет кровлю домов, мимо пролетают мелкие домашние животные и дети до восьми лет…»
— Егор! -- в дверь отчаянно замолотили, – Впусти, пока нас вместе с Кацами не унесло! Откладываю недописанное письмо и спешу к двери.
– Ух! – бесцеремонный Боря Житков, в гимназической фуражке по самые уши, и весь посинело съёжившийся, зябко проскакивает внутрь, – Ну и погодка! Ставь самовар, иначе наша смерть от переохлаждения будет на твоей совести!
Коля Корнейчук, весёлый, болтливый и немножечко стеснительный, трясёт мне руку, после чего начинает морщиться, и громогласно чихает, отвернувшись в сторону, и накрыв платком крупный нос.
– Моё почтение, – Володя-Вольф Жаботинский более сдержан. До этого мы виделись только в редакции, да и то мельком.
Несколько минут спустя мы уже за столом, у горячего самовара, поглядывая в окно на разошедшуюся погоду. Небо заволокло тучами так нешуточно, что пришлось зажечь керосинку, несмотря на раннее совсем время.
С неба начали срываться первые капли, и вот уже поток воды хлещет наискось во все стороны разом, ища малейшую щёлочку. Дико завыл ветер, задребезжали оконные рамы, в комнате резко похолодало.
Не желая разводить огонь во время бури, я поспешил раздать пледы.
– Без церемоний, – повторяю ещё раз, специально для Жаботинского, с которым едва знаком, – все сладости через тётю Песю закупались, так што наверное кошерное. Более или менее. Мы пили чай и говорили о пустяках, глядя на разбушевавшуюся непогоду.
Чуть погодя Вольф оттаял, и начал интересно рассказывать о Швейцарии и Италии, где он подвизается корреспондентом «Одесского листка», сотрудничая так же с «Одесскими новостями» и рядом других изданий. Рассказчик он отличный, информацию подаёт ярко, выпукло и чаще всего ёмко.
Он старше нас всех, но не особо задаётся. Командные нотки проскакивают, но скорее рефлекторно, без попыток игры в вожака стаи.
Коля постоянно перебивает его, и в один момент Вольф не выдерживает, затыкая его выпечкой. И смеётся! Оттаял, значица, совсем другой человек стал.
– Вот так вшегда, – вкусно прочавкал Коля, – шлова не даёт шкашать!
– Шкашать! – передразнил его Жаботинский, став вдруг из серьёзного корреспондента молодым совсем парнем, озорным и весёлым, – Прожуй сперва, сказитель!
– С детского сада знакомы, – прожевав, и тут же потянувшись за новой булочкой, пожаловался Коля, – и поверишь ли, тогда уже тираном был! Самым старшим в нашей группе был, и с тех пор и привык командовать.
– Никак греческий? – перескочил он с темы, заметив учебник новогреческого с закладками, – Учишь?
– Угу, – и хвастаюсь, – ещё и турецкий! Вцепился бульдогом, по четыре часа в день занимаюсь.
– Не слишком? – Коля не из первых учеников, и его такое рвение немножечко пугает.
– А как ещё? Либо несколько лет без особо толка, либо почти што полное погружение, и месяца через три ты уже начинаешь говорить. Пусть на уровне «моя твоя», но и то. Газеты читаю, ну и с носителями языка. А куда деваться? Мне ж Синод дорогу к знаниям перекрыл, а со знанием языков не репортёром или учителем, так хоть в конторке припортовой пристроиться можно.
Коля, которому и была адресована эта подача[42], хмыкнул задумчиво, но отвечать не стал. Буря прошла, как и не было, на небо выкатилось умытое холодной водой яркое солнце, а по улицам Молдаванки потекли ручьи грязной воды. Вездесущая детвора, воображая себя путешественниками и отважными моряками, с незамутнённым энтузиазмом детства принялась осваивать водные просторы, пуская самодельные кораблики.
Выбравшись с Молдаванки, троица друзей закатала штанины обратно. Жаботинский вскоре окликнул извозчика, покинув компанию.
Корнейчук и Житков, никуда не торопящиеся, побрели неторопливо по умытым одесским улочкам.
– Знаешь, – сказал Борис, повернувшись к другу, – я сегодня впервые позавидовал. Мальчишка ещё совсем…
Коля не отозвался, только вздохнув в ответ.
– Знаешь, – сказал наконец он после долгого молчания, – я думаю, что некоторым просто дано. От Бога, или от природы, уж не знаю. А есть… просто.
– Хочется думать, – незамедлительно ответил Житков, – что мы – не просто.
– Хочется, – эхом отозвался Корнейчук, – и знаешь? Давай не будем просто!
Крепкое рукопожатие скрепило договор, и почти тут же Николай заулыбался.
– Я вот представил, что лет через сколько-то кто-нибудь скажет о нас – завидую я им! Столько успели! Представляешь?
– Не очень, – честно признался Борис, улыбаясь во весь рот.
– Вот и я – не очень! – засмеялся друг, – Но ведь даже великие делали когда-то первые шаги!
– Пошли, – развеселившийся Борис пихнул его в плечо, – великий!
Вылетев за ворота Училища стайкой воробьёв, мальчишки постояли недолго вместе, почирикали, да и фр-р! Упорхнули. Разлетелись по сторонам.
Воротившись домой, Санька помылся, поел, но мыслями всё время возвращался к произошедшему. Показалось? Или как тогда, в Одессе?
Решительно открыв альбом, он карандашом начал набрасывать лицо преследователя.
«– Может быть преследователя» – поправил он себя мысленно, – «а может просто, паранойя» Анфас, профиль левый, правый… Шаржировано подчеркнуть какую-либо особенность внешности или поведения.
Одного, потом второго, третьего. Одни и те же люди. В определённое время, в определённых местах. Меняются иногда, меняется одежда. Так? Не так? Посмотрим…
Неделю спустя Санька твёрдо уверился – не показалось. Намётанный художницкий глаз видит многое, да и кое-какие уроки опекуна оказались к месту. Не то штобы он сильно интересовался сыщицкими темами, но нахватался. А как не нахвататься, с таким-то окружением?!
Альбом заполняется потихонечку, портреты топтунов в маскировке и без. Профиль. Анфас. Под каждым – замеченные привычки, какие-то особенности. Где чаще всего меняются, где ково заприметил.
Тревожить опекуна лишний раз Саньке не хотелось, у тово сейчас своих проблем – во! По самое горлышко!
– Я на Хитровку, – предупредил он Марию Ивановну, – этюды рисовать.
В восторг женщина не пришла, но привыкла уже к своему беспокойному семейству.
– Осторожней, – тихо попросила она мальчика, застёгивая верхнюю пуговицу специального «Хитровского» пальто, – погоди!
Обсыпав его щедро персидской ромашкой, отпустила наконец.
На улице Санька не вертел особо головой, но держался настороже. Крутанувшись вокруг да около площади, высмотрел знакомое лицо, и к нему.
– Здоров, Котяра!
– Даров! – обрадовался уголовник, жамкая руку, – Сам как? Как Егор?
– Сам прекрасно, Егор скоро прибудет, – отрапортовал Санька.
– Дела пытаешь, аль от дела лытаешь[43]?
– Этюда рисовать, – беззаботно отозвался Санька, не отрывая глаз от Котяры. Заулыбавшись ответно, уголовник хлопнул его по плечу, но глаза остались колючими, булавошными.
– Ну, пойдём! Покажу натуру!
… – эти, значит, – посерьёзневший Котяра пролистнул альбом без лишних глаз, – не… не встречал. Не наши. Сильно не наши. Могут быть гастролёры, но што-то я сильно сумлеваюсь. Говоришь, прям-таки сливаются с толпой?
– Ага! Если б не глаз пристрелянный, то хрена с два заметишь!
– Тэк-с… – уголовник присел на корточки, – да ты делай, делай свои этюды! Вроде как я прям така натура, што натурней некуда!
– Сливаются, говоришь, – повторил он, – этак-то либо москвичи могут, да притом не всякие. Одессу могём исключить. Интересы одесские, они могут сколько угодно, но не одесситы, ручаться могу. Совсем другой народец там, ну да не тебе рассказывать!
– Два варианта, – Котяра для наглядности растопырил пальцы, и тут же начал сворачивать самокрутку, – Первое – варнаки из староверов. Есть и такие, не пучь глаза! Не то што годами, а поколениями работать могут, а с Хитровскими только краешком пересекаться. Шито-крыто! Кому надо, те знают, а кому не надо, те в могиле… н-да.
– Второй, – он затянулся наконец, – полиция, да не абы хто… понял? И какой вариант хужей, я даже и не знаю! Куды вляпался-то?
– Если б я знал, – задумчиво ответил Чиж, – подозреваю, што это Егоркин вляп, у него всё по-взрослому. К нему не могут, так через меня. В Одессе к нам подбирались, да не смогли.
– Ну-ка! – насторожился Котяра, – Рассказывай!
Санька сперва рассказал, а потом и нарисовал лица топтунов, и уголовник уверенно опознал корноухово.
– Полиция, – сладострастно сощурив глаза, констатировал он, – уже интересно! Говоришь, Егорка ево покалечил? Силён! И без последствий, што и вовсе интересно! Молчок! С чево бы? Тут хватать под белы рученьки за нападение на сотрудника, да… н-да…
Он задумался, присев сызнова на корточки, а Санька, чувствуя зло и приключенисто, хлопнул решительно себя по карману.
– Деньги есть! Пустить Федькиных огольцов, и пусть следят за следунами! Да ты через своих дружков што-ништо разузнаешь. А?!
– Деньги – сор, – Котяра встал, неприятно улыбаясь, – да и дружок мне Егорка, а промеж друзей принято помогать.
– Да и, – он оскалился совершенно безумно, – накрутить хвоста полиции? Работаем, Саня!
Двадцать восьмая глава
Рваные свинцовые тучи заволокли серо-стальное небо, закрывая холодное, блеклое осеннее солнце, тускло пробивавшееся через туманный воздух. Небесный свет в последний раз отразился от полированной стали паровозного бока и угас. На перроне разом потемнело и похолодало.
Порывистый ветер с запахами моря и паровозной топки, злым псом вцепился в одежду, норовя добраться до тела. Рвёт подолы платьев и сюртуков, скуля и завывая.
— Всё, маменька, прощайте, — немолодой осанистый господин с окладистой русой бородой, придерживая шляпу, расцеловывал грузную старушку, одетую с неуместной кокетливостью и изрядной безвкусицей.
– Да, да… только Витеньку ещё раз поцелую, — отозвалась та рассеянно, не выпуская руки сына, — Витя…
Долговязый парень в студенческой шинели и крохотной фуражке, еле умещающейся на коротко стриженом затылке, терпеливо снёс старушечью ласку. Только юношеские его редкие усики будто обмякли разом, да давленые алые прыщи стали ещё унылей и безнадёжней.
– Коля… – всхлипнула, распахивая объятия. Младший из внуков шагнул навстречу с самым тоскливым выражением лица, даже и не думая скрываться. Поцелуи, перемежаемые объятиями, слёзы на дряблых морщинистых щеках.
– Всё, матушка, всё! – осанистый господин решительно вырвал сына из старческих объятий, колыхнув внушительным брюхом, — Гудок уже был, слышали?
Отстраняюсь от окна с чувством неловкости, будто подглядывал в замочную скважину за чужой жизнью.
— Пишите! Пишите чаще! Витенька, Коля…
Гудок, и состав мягко тронулся, за окном поплыли пейзажи и старушка, машущая платочком с самым отчаянным выражением на заплаканном морщинистом лице, сморщившемся от неслышимых рыданий.
— Уф, – осанистый господин вошёл в купе, вытирая платком взопревший лоб, – и каждый ведь раз такая история!
– Добрый день! — платок, неловко комкаясь, отправился в нагрудный карман, шляпа приподнялась над лысеющей головой с тщательно зачёсанной, напомаженной прядью волос, плохо прикрывающую плешь, -- Филиппов, Иван Ильич! Потомственный почётный гражданин Москвы и личный дворянин. Мои сыновья – Виктор и Николай.
– Панкратов Егор Кузьмич, – привстаю я, – мещанин города Трубчевска, что в Орловской губернии, житель Москвы.
– Э-э… – потомственный почётный гражданин подвисает от явного несоответствия возраста и уверенного, взрослого поведения.
Семейство рассаживается, негромко переговариваясь. Николай, дрыщеватый узкоплечий гимназист примерно моих лет, тотчас занимает стратегическую позицию у окна, устранившись от разговора. Пейзажи за окном занимают его куда больше светской беседы со случайным попутчиком. Уткнувшись лбом в чистое стекло, он отчаянно зевает, бездумно глядя в никуда.
– А вы, простите за нескромный вопрос, – мучаясь любопытством и потея от собственной невежливости, осведомляется Иван Ильич, зачем-то поправляя манжеты, – чем занимаетесь?
– Репортёр.
– Ах, репортёр… – у Филиппова явственно отлегло от сердца, – вы уж простите, меня несколько смутил ваш юный вид при отсутствии гимназической формы. Репортёр, надо же… Как интересно! И с какими же изданиями вы сотрудничаете, если не секрет?
В глазах чистое, незамутнённое любопытство, приправленное быстро тающей неловкостью. На смену ей скоро придёт дорожная развязность, весьма частая у людей такого типа. Опыт…
– «Одесские новости», «Одесский листок», «Московский листок», «Русские ведомости».
– Как же, как же! – радуется тот, колыхая животом,– Имею честь, да-с… Солидные издания!
– В основном заметки на Османские темы, – предупреждаю я следующий вопрос, – так же фельетоны и карикатуры из жизни одесситов.
– Как же, как же! – Иван Ильич обращается уже вполне на равных, он уже решил для себя вопрос с возрастом, определив меня как «маленькую собачку». Во время болезни я изрядно вытянулся, а на лице, пусть и вполне детском, выделяются серьёзные не по возрасту глаза.
– Сигару? – панибратски предлагает он, напрочь отбросив недавнюю неловкость.
– Не курю, – отказываюсь я.
– Зря, молодой человек, очень зря! – произносит мой попутчик самым наставительным тоном, – Очень полезно для лёгких, медики рекомендуют! А я, с вашего позволения…
Он закуривает, и по купе поплыли облачка сизого, едковатого дымка.
– Для астматиков, кхе-кхе! – запоздало поясняет попутчик, щуря небольшие глаза под кустистыми бровями и морща мясистый нос-картофелину.
… – по делам наследственным, изволите ли знать! – Иван Ильич многословно рассказывает о запутанном, практически детективном, деле о наследстве.
В нём фигурируют родные и приёмные дети, кузены и кузины, двоежёнство одного из дядюшек, побег из дома с гвардейским офицером матушкиной кузины и прочее в том же духе.
« – Бразильский сериал» – отзывается подсознание, впадая в коматозное состояние. А попутчик говорит, говорит, говорит… Подробности эти излишни, но Ивана Ильича это ничуточку не смущает.
– … с трудом превеликим сыновей от учёбы отпросил! Вы и не поверите, в какие высокие эмпиреи пришлось забраться ради этого! – он явственно гордится собой, – Да-с, пришлось. Де-юре дело о наследстве не требовало личного их присутствия, зато де-факто сказалось самым положительным образом!
– Может, в картишки? – прерываю я монолог.
– Ну… – лоб моментально потеет, в глазах заплескалась опаска и недоверие.
– Не на деньги, – понимаю я заминку, – на мелкие желания. Помяукать там, погавкать, зайчика изобразить.
– Вот как!? – сероватый уже платок промокает лоб, – Зайчика, значит… хе-хе… Забавно.
– Я б сыграл, – оживляется унылый Виктор, и на его вялом лице появляется подобие улыбки, – ехать-то ещё долго, и нужно как-то развлекать себя.
– Да и, – вздохнул он, – вместо Дюма второпях взял с собой учебник древнегреческого языка, такая вот нелепица.
Играем в преферанс, попутно травим байки. Иван Ильич оказался препустейшим человеком, рантье-пустоцветом. В молодости получил домашнее образование, потом окончил юнкерское училище, страстно желая сделать карьеру и стать потомственным дворянином.
Дослужился до поручика, и на этом его карьера засбоила. Виной тому, разумеется, исключительно козни завистников. Получив наследство, уволился с превеликим облегчением, небезвыгодно женился, и ведёт ныне размеренную, адски скучную жизнь.
« – Не состоял, не привлекался, не участвовал» – отозвалось ехидно подсознание «человек «Не»»
– … в какой вы, говорили, гимназии? – делает «подходец» Иван Ильич.
– Пас! Не говорил. Прогимназию окончил, экстерном. Весной.
– Ах, экстерном… – он кивает с умным видом, – Понимаю, как же-с! Домашнее образование всегда в цене.
Беспокойно ворохнувшись, он прислушался к урчанию в животе и решительно встал, положив карты рубашками вверх.
– Пойду руки помою, – вскочил он с резвостью стригунка, и удалился трусцой.
Вернулся он нескоро, но игру мы так и не закончили.
– Время, отец, – Виктор щёлкнул крышкой наручных часов, – нам в вагон-ресторан пора[44].
– Действительно, – заторопился он, – пора, пора…
– Серьёзный молодой человек, – весомо сказал Иван Ильич, проводив взглядом репортёра, отправившегося мыть руки, – целеустремлённый, вежливый, воспитанный. Сразу видно, из хорошей семьи. Сколько ему? Шестнадцать, Семнадцать? А уже репортёр, с серьёзными изданиями сотрудничает.
– Сотрудничает, – хмыкнул Виктор, скептически искривив губы, – напечатали пару раз, и туда же, репортёр!
– Не без этого, – согласился отец, – прихвастнул. Кто ж без греха?
С обеда я вернулся несколько отяжелевшим, очень уж хорошие повара. Да и пассажиров по межсезонью мало, и скучающие повара буквально душу вкладывали.
– Уф-ф! – тяжело отдуваясь и вытирая поминутно багровое лицо, Иван Ильич тяжело уселся на диван, – Я, пожалуй, отдохну немножко, если вы не возражаете!
Сказав это, он откинулся назад, скрестил руки на объёмистом брюхе, и почти тут же засопел, уткнувшись подбородком в жирную грудь.
Недолго думая, я открыл саквояж, и вытащил книгу, на что живо отреагировал Виктор.
– У вас там не найдётся чего-нибудь более… – он выразительно помахал учебником древнегреческого, – живого?
– Кхм, – с трудом давлю смешок и показываю «Илиаду» на новогреческом, и Гегелевскую «Науку логики» на немецком».
– Экий вы… – он проглотил слова, пока младший брат заходился беззвучным смехом.
– Но живее ведь?! – через смех выдавил Николай.
– Н-да…
Пожимаю плечами, чувствуя себя почему виноватым, но решительно задавливаю в себе эту дурость. Ещё чего не хватало! Виноватиться за других, глупее этого сложно что-то придумать!
– Может, в шахматы? – не унимался скучающий Виктор, – Я спрошу у проводника!
Спрашивать не пришлось, набор шахмат нашёлся в купе, ну да и неудивительно – первый класс! Роскошь с той ещё несколько примелькалась и потому не режет глаза, но комфорт высочайший.
Проиграв пятую партию даже и с гандикапом в виде ладьи, коня и двух пешек, он окончательно скис.
– С таким складом ума вам дальше учиться нужно, – проворчал он.
– Волчий билет.
– Да-с?! Как интересно! То есть простите…
– Прощаю.
Неловкое хмыканье, и Виктор снова подступается.
– А если не секрет… ? – и глаза чуть не горят, да и младшенький прислушивается, не скрываясь.
– Живость характера, – отвечаю несколько расплывчато, не желая вдаваться в подробности. Уже немножко жалею, что разоткровенничался, но что делать? Эффект попутчика! Впрочем, ничего страшного, можно и пооткровенничать. Заодно и кое-какие психологические кунштюки проверю.
Выдохнув облегчённо, Иван Ильич посмотрел вслед выпорхнувшему из вагона недавнему попутчику, пожёвывая губами.
– Неприятный молодой человек, – констатировал он, убедившись, что его точно не услышат, – боек не по возрасту, да-с…
Он кликнул носильщика и, переваливаясь, пошёл к извозчику, полный желчи и мизантропии. Каков наглец! В тринадцать лет так себя вести, в то время как заслуженные люди…
Мысли потомственного почётного гражданина и личного дворянина споткнулось о личную заслуженность, но быстро вернулись на накатанные рельсы.
… возраст, в конце-концов!
Дерзкий слишком, не по годам. Сидеть бы чинно, да слушать, что умные люди…
Мысли снова споткнулись, и в этот раз с пробуксовкой, не в силах зацепиться за что бы то ни было. От этого потомственный почётный гражданин пришёл в самое дурное расположение духа.
« – Напьюсь!» – с мрачной решимостью думал он, тяжко ступая на подножку накренившегося экипажа. Ишь, наглец какой! На равных!
– Субординацию никто не отменял, – вслух сказал он, – да-с!
– Двадцать пять рублёв жалования! – кидая шапку оземь, пучил глаза плешивый Кондрат на сходе, – Не пито, не едено, а денежки отдай, и греши! Ишь, учитель! Я тебя просил, учить ково? Я, может, супротив! С каких-таких наших? Построили! Опять в долги впутывают?!
– Верно! – визгливо крикнул Ванька Панков, топчась на месте в новеньких лаптях, и отчаянно вытягивая вперёд худую шею, – Мы тут все супротив! С каких-таких денег, а? Вот ни в жисть не поверю в благодетеля неведомого! Когда это было, што власти приходили и говорили – на, мужик, бери! Ослобонили когда, так и то половинчато. Ни воли толком, ни земли!
– Ты в сторону-то разговор не уводи! – вышел вперёд рябой Федор, харкнув на землю, покрытую подмороженной корочкой грязи, – Ежели опять начнёшь чичас языком чесать за времена былинные, мы етак и за три дня ничево не приговорим! Так, мужики?
Сход заворчал разбуженным по зиме медведём, но после короткой свары большинством порешили, што Фёдор прав. Меньшинство, обтирая разбитые морды, угрюмо замолчало. Справедливость, оно канешно и да, но и сопли жевать некогда.
– Я так думаю, – подбодрённый Фёдор вышел в средину круга, – што – взять! А? Чиво нам терять, мужики?! В долгах как в шелках, и хоть так, хоть етак – кусочничать пойдём по зиме. А тут хоть в школе ребятишки поедят. Што же опосля будет, об том опосля и думать будем!
На том и приговорили.
Двадцать девятая глава
Шагнув навстречу, Владимир Алексеевич распахнул объятия и притиснул меня к себе. Неловкость прошла, как и не было, и я счастливо вздохнул, ткнувшись засопатившимся носом в бекешу опекуна.
Извозчик, старинный знакомец дяди Гиляя, улыбается светло в пышную окладистую бороду до пупа — предмет нешуточной гордости, помогая носильщику загружать вещи на задок экипажа.
И у меня тоже — улыбка ответная. Да не ему, а будто всей Москве разом. Дома!
Головой вокруг верчу, наглядеться не могу. Москва! Осенняя, с облетевшими почти листами на деревьях, с заволокшими небо тучами, а всё равно – родная. Скучал! Вот ей-ей, даже и по граю вороньему соскучился! Кажется, будто даже и у ворон московских свой говорок. Степенней одесских, основательней и нахальней.
Улыбаюсь до боли в онемевших щеках, а и мне улыбаются ответно. Дома. Как же хорошо дома!
— Егорушка! — ахнула Мария Ивановна, самолично отворяя двери, – Какой же ты большой стал! Ну-ка поворотись!
Повертелся послушно под аханье ейное, и засмущался мал-мала. А у меня так – если смущаюсь, то наперекор иду! Ну и шутканул с томным видом и артистическими позами, как актёры перед поклонниками опосля спектакля.
Насмешил её, и доволен! Прочь смущение, будто и не было этих месяцев расставания.
Мылся пока, Наденька пришла. И на шею!
– Соскучилась, сил нет!
У неё безо всяких, как кузенов нас с Санькой воспринимает. Настолько родные, што прямо-таки братья. Мы с ней как-то сразу… ну, легко. Одна в семье, а тут как два брата разом – старший я, и младший Санька.
А тут и брат пришёл из Училища, и тогда совсем хорошо. Дома. Семья.
Ощущение Рождества в квартире, так всё хорошо и благостно, только колокольного звона не хватает для полного умиления. Даже Татьяна хлопочет вокруг без единой врединки в глазах.
Поели когда, чаю напились по самое горлышко, я подарки начал раздавать. Не абы што, а всё с умом подобранно!
— Эт-то откуда?! — опешил дядя Гиляй, запучив неверяще глаза при виде самонастоящей африканской коллекции ассегаев[45], шаманских масок и нарядов, — Не слишком ли дорого?!
А глаза горят, руки уже копьё взяли, потом щит. Такой себе африканский воин. Чака[46]!
– Ни копеечки! – уверяю опекуна, – По случаю досталось! Я и сразу про вас вспомнил.
Антуражно и авантажно!
Опекун переоделся в леопардовую шкуру, и с удовольствием покрутился перед зеркалом, смеясь волосатым ногам и груди. Но здоров! Нет, до чево здоров! Понятно, што пузо и жирок, но сейчас-то видно — этот могёт! При каждом движении мышцы перекатываются.
Запусти такого в племя африканское, так всех львов в округе переведёт, ну и местную породу африканскую… тово. Расстарается.
-- Фотоаппарат бы, – пробурчал он, принимая героическую позу и весьма умело играя с копьём.
– Так есть! – живо распаковываю один из чемоданов, – Специально купил!
– Дорого, – с сомнением сказала Мария Ивановна.
– Што вы! – и понимая нарастающее беспокойство в глазах, добавляю:
– Контрабанда, не ворованное.
Сделал с десяток снимков, и обещался отпечатать к утру.
– Ты и этому научился? – удивился опекун, не без сожаления отставляя в сторону воинскую справу.
– Да што сложново-то? Глаза боятся…
Марии Ивановне и Наде турецкие наряды с украшениями.
– В Константинополе-то они дёшевы, – уверил я их, – не беспокойтесь. Да я ещё и через Фиму Бляйшмана закупал, вот уж торгаш из торгашей!