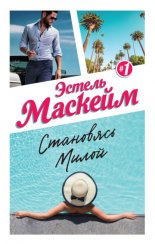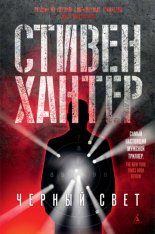Отрочество Панфилов Василий

– Угу, – опекун кивает понятливо, и вновь обращается в слух.
– … околотошный?! Та-ак… – лоб нахмурен, лицо самое злое, – а не тот ли это… А, да тебе-то откуда… Ну, собаке собачья смерть! Доигрался поц на скрипке.
Описание сиропитательного приюта окаменило его. Такая себе статуя командора, только што глаза булавошно суживались на особо интересных местах.
– Таких подробностей ты мне не говорил, – глуховато сказал дядя Гиляй, – Да не виноваться! Нешто я не понимаю, што бывают воспоминания, которые лучше не бередить? У самого… нда...
– … в Одессе столкнулся со слежкой, Санька ненароком заметил, – киваю на брата.
Владимир Алексеевич расспрашивает пристрастно, не повышая голоса. И так это, грамотно очень. С одной стороны, минутку спустя с другой. Вроде и иное совсем спрашивает, а так выходит, што заново и заново, и снова заново.
Такие подробности в памяти всплывают, што сто раз уже позабыл, казалось бы, ан нет! Всё как на полочках разложено, подходи и бери.
– … говоришь, покалечил?
– Ага! Дуриком! Так-то дядька здоровый, жилистый, и сразу видно – злой на драку, умелый. На ножах бы ево распанахал…
Дядя Гиляй двигает челюстью, и я понимаю, што брякнул, но продолжаю.
– … а так без шансов.
– На ножах?
– Ну… учили. И так… не всерьёз, но корябал пару раз шибко наглых, – я окончательно сдуваюсь.
– Н-да… – такое себе движение шеей, и видно, хочется ему сказать, и сказать есть што, но сдерживается.
– Дуриком, – повторяю, и взяв листок с карандашом, начинаю рисовать. Проходы, да как ящики стояли… Отходит понемножечку от каменения, отжил! Снова человек, а не статуй.
– Дела, – подытожил дядя Гиляй в конце разговора, – не плохи, а очень плохи. По какому тонкому льду вы прошли, даже наверное и не понимаете. Как там его? Котяра? Уехать ему нужно, да не близко. Одесса? Сойдёт!
– Даже так? – озадачился я.
– Даже, – жёстко усмехнулся опекун, – сама Голядева – тля! А вот за ней…
– Кто-то конкретный?
– Конкретный? – он потёр подбородок, – Даже и не знаю, а и знал бы…
– С завтрашнего дня дома сидишь, – ткнулся в меня палец, – и без меня ни шагу! Понял?
Глаза без обычной дурашливости, очень серьёзные, так што я закивал быстро-быстро.
– Пойми, – сказал дядя Гиляй уже мягше, – она опасна. Возможности по линии МВД, да в сочетании с садистскими наклонностями и некоторыми…
– Особенностями психики?
– Особенностями, – усмехнулся он, – Там такие… ты понял?
– Совсем? – от волнения у меня вырвался писк.
– В… – опекун задумался, – Училище можно, туда и обратно на извозчике, с Пахомом я договорюсь. Оба на извозчике, ясно? Ну и пожалуй, в Гимнастическое общество, но только со мной.
Письмецо Коту дядя Гиляй обещался передать через свои каналы, а сам я штоб ни-ни!
И раз уж дело такое, то письмецо Котяре, насчет бежать. Денег… чуть поколебавшись, вкладываю в конверт две сотни. Есть там, нету… спокойней. Из-за меня человек пострадал.
Да! Спохватываюсь за Федьку. Письмецо… всех денег только сотня осталась. Ну да ладно, хоть так.
Рекомендательные письма Коту. Семэну Васильевичу, близнюкам и всем-всем-всем. Друг и надёжный человек, прошу приютить и пристроить в дело.
Тёте Песе квартирант… Сердце колет ревностью, и решительно рву листок на части. Нечево! Подальше, подальше… к Бернштейну, точно! Два шулера начинающих, да заодно Котяра хорошим манерам подучится.
Тридцать четвёртая глава
Тихохонький стук в дверь…
— Да-да! — вскинулся я, отрываясь от рисования.
Неслышимой тенью в комнату проскользнула Татьяна, в ореоле вкусных кухонных запахов — которые, как по мне, лучше любых духов, пусть даже и французских.
– Владимир Алексеевич вернулся, – доложила она, округляя театрально глаза, — грозён!
Не задерживаясь у нас, горнишная мышкой убежала на кухню, где и спряталась среди кастрюль и сковородок. Она при деле, и потому не замай!
Знаем уже, што в такие минуты к нему лучше не лезть, сам про то не раз говорил. Жалеть потом будет, сопеть виновато, но то потом. А сперва… ух! Гроза, гром с молоньями, ураган эмоций, шквал негодования и мало не землетрясение с тектоническими сдвигами.
В приоткрытую дверь вижу, што опекун по извечной своей привычке расхаживает по гостиной в домашних туфлях, упрямо набычив лобастую голову, ероша изредка густые волосы. Остановившись у буфета, вытащил графинчик с наливкой, и набулькал себе, да не малую стопочку, а чуть не полстакашка.
Ого! Переглядываемся с Санькой, а дядя Гиляй тем временем достал трубку, што вовсе уж редкость. Так-то он курит, но нечасто, и всё больше папиросы. Трубка, это когда надо всерьёз подумать, сильно всерьёз. Так у нево почему-то устроено.
Наденька высунулась было из спальни, но под свирепым взглядом отца резво засунулась обратно. Ого! Папина дочка этак? Беда…
Две трубки спустя Владимир Алексеевич сел наконец в своё любимое кресло и махнул нам рукой.
— Всё очень… он подёргал за ус, – грустно. Анна Ивановна сама по себе фигура не слишком крупная, а вот за ней…
— Общественность, – начал было Санька пафосно, надуваясь жабой.
– Э, брат, – опекун меланхолично погрозил ему пальцем, – шалишь! Не тот случай. Што мы можем фактически предъявить Голядевой? Выкладки хитровских уголовников да собственные домыслы. Для общественности, а тем паче для суда, наши выкладки со слежкой — обстоятельство отягчающее. Так-то, чижики!
– Почтенная вдова… – он надолго замолк, сызнова набивая трубку, — и представители уголовной среды, преследующие её из мести за былые заслуги мужа. Так-то!
-- А факты собрать? – достав платок, я промокнул разом вспотевшее лицо.
– А полиция? – парировал он, выдыхая дым, – За Голядевой или Трепов, или фигура равнозначная из верхушки МВД. Если не сам…
Оборвав себя, дабы не произносить имя Великого Князя всуе, Владимир Алексеевич перескочил запретную тему.
– Н-да… вышли таки на след, кто б мог подумать! Умеют работать. Жаль даже, што только по политике так стараются. Их бы усердие, да на благо всего общества, а не отдельных персон…
Досадливо кхекнув, опекун подёргал ус, а я тихохонько вздохнул. Кто б знал! По всему выходит, што тот портрет повешенный аукается, раз уж МВД на меня так ополчилось.
Пришлось-таки рассказать о том случае Владимиру Алексеевичу, потому што ну как иначе?! Пусть и до него в неприятности… вступил, но теперича-то, после опекунства и всево таково, таиться вовсе уж грех! С закрытыми глазами действовать, это ведь хуже не придумаешь.
– Принцип, – он мрачно затянулся, – крайне прост. Голядева и её люди вьются вокруг тебя. Объяснение, в случае разбирательства с общественностью или судом, самое простое – у вас был конфликт, и теперь она боится влиятельного в уголовной среде человека.
– Пф…
– Формально не подкопаешься, – мотнул головой Владимир Алексеевич, – некоей толики известности и влияния у тебя достаточно. Приглядывают. Улыбнётся им удача, и… А вот тут гадать можно долго, от похищения до банальной слежки и сбора нехороших для тебя фактов.
– Тем паче, – задумчиво сказал он после минутной паузы, – што действия того же околотошного, да сиропитательный приют привязать к почтенной вдове будет затруднительно. Брали тебя без лишних видоков, и в сиропитательный приют ты попал фактически без имени. Если што и всплывёт, то свалят всё на покойного, Анна Ивановна перед законом и обществом чиста. И с каково это перепугу ты взъелся на почтенную вдову – объяснить, а главное – доказать, будет очень сложно.
Киваю угрюмо, седлая стул и опуская подбородок на высокую спинку.
– А полиция, – продолжаю за нево, – приглядывает со стороны, выискивая повод для вмешательства, но только если дам его я.
– Именно, – пыхнул дымом опекун, – и нагнетать обстановку таким образом можно долго, пока ты не сделаешь какую-то глупость. А ты сделаешь, и скорее рано, чем поздно.
– А на живца?
– Навроде такой, – невозмутимо подтвердил дядя Гиляй, – На какого живца?! Ты садишься играть против заведомого шулера, у которого помимо крапленых карт, дерринджер в рукаве и пара горлорезов в команде?
– Н-нет… – ох и жарко же стало морде лица! Действительно, глупость какая!
– Политика, – он остро глянул мне в глаза, – последнее, што тебе станут… хм, шить. Был бы ты постарше, то мог и бы и на каторгу отправиться, да на многие лета. А ребёнка за такое и судить как-то нелепо. Резонанс! Европейские газетчики, да и не только они, с превеликим удовольствием вцепятся в историю.
– А обида осталась, – мне ажно нехорошо стало от осознания, – да и могут тово-этово… превентивно! Если в такие малые лета успел отметиться, то лучше бы таково придавить в колыбели. Уголовщину будут выискивать, ну или выдумывать.
– Поэтому, – он встал, набулькав себе крохотную стопочку калганной, – ты уезжаешь.
– В Одессу? – сам не ожидал, но в голосе такая надежда зазвенела, што и неловко немножечко стало. Ну да… не успел приехать, а соскучился.
– В Палестину.
– Кх…
– В Палестину, – невозмутимо повторил опекун, постучав мне по спине жёсткой, как доска, ладонью, – в качестве репортёра.
– Шутите?! – я ажно вперёд подался, – До кайзера?!
– Не успеешь, – усмехнулся он моему энтузиазму, – паломническая поездка у него в самом разгаре, так што пока приедешь, Вильгельма уже и не будет. Так… вроде как по следам. Паломничество это всколыхнуло в нашем обществе большой интерес к Палестине, а русских репортёров там меньше, чем пальцев на одной руке. А места там интересные! Собирайся!
– А… э, документы?
– Уже, – усмехнулся Владимир Алексеевич, махнув рукой на кожаную папку, покоящуюся на краю стола, – паспорт, репортёрское удостоверение и прочее.
– Есть… – он ухмыльнулся нетрезво, – связи, знаешь ли.
Я проникся до самых што ни на есть глубин. Хлопотать о заграничном паспорте нужно неделями, а то и месяцами. А в моём случае, с неполной эмансипацией, и тово больше.
И пусть в документах написано, што я еду я с образовательными целями… Пусть! Хоть тушкой, хоть чучелом, а ехать надо! Не обязательно туда, а просто – отсюдова.
– Да! – спохватился он, – Ты о делах паломнических лучше даже и не пиши! Канонично и правильно всё равно не сумеешь, а когда и если споткнёшься, то тебе ныне всякое лыко в строку будет, уяснил?
– Зарисовки этнографические, – подсказал Санька, – и это… приключенистое тоже! Майнридовщина твоя в самую жилу читателям, а тут ещё и это… арабский Восток! Гаремы, верблюды, жиды палестинские. Экзотика!
Спешный сбор, и меньше чем через час мы с опекуном уже на поезде, направляющемся в Петербург. Тревожная ночь в вагоне второго класса, со сном вполглаза, и так же спешно – с вокзала, на грузовой пароход шведской компании, направляющийся с русским лесом в Грецию.
Сев на койке, я зябкими ногами нашарил пушистые меховые тапочки, не сбрасывая с плеч толстое шерстяное одеяло. Зыбкий пол норовил предательски уйти из-под ног, но крохотность каютки не дала ногам разгуляться.
Уткнувшись в холодный запотевший иллюминатор разгорячённым лбом, гляжу на свинцово-серые волны, бьющие в стальные бока парохода. Отдельные брызги долетают до самого иллюминатора, но вообще видно плохо – пусть по часам и день, но низкие нависшие тучи закрыли не только само солнце, но и кажется – заслонили весь белый свет.
Наверное, апокалипсис будет выглядеть как-то похоже – полное отсутствие солнечного света, холод и уныние, вымораживающее из потаённых глубин души всё самое хорошее. Беспросветность.
В маленькой каютке душно и одновременно холодно. Откроешь чуть-чуть иллюминатор, так выстужается моментально, и сразу сырость чуть не брызгами, засыхающая потом в тончайший солевой налёт. Закроешь, и сразу дышать нечем, только сырее стало. Такая себе зябкая, могильная духота, давящая на грудь увесистой чугуниной.
Только и радости унылой, што в двухместной каюте я один, мало желающих путешествовать по предзимней Балтике, да ещё и на грузовом по факту пароходе. Вроде как и жаль иногда, што нет попутчика, но тут как уж повезёт!
Какой-нибудь куряка, смолящий безостановочно одну цигарку за другой, задохнул бы даже тараканов. Да ещё и не факт, был бы не то што даже приятным, а хотя бы и сносным попутчиком. Лучше уж одному, чем с кем попало!
Заняться на судне решительно нечем. На палубе скользко, ветрено, и нешуточно опасно для сухопутново меня. Ограждение невысокое, а лееров ровно столько, сколько нужно для дела, а не для хватания.
Моряки из экипажа хмыкают только презрительно, для них это не шторм, а так – волнение. Экскурсии мне устраивать решительно не торопятся. Экипаж смешанный, шведско-датско-немецкий, и все – через губу.
Распоследняя палубная падла считает себя не где либо кем, а потомком викингов! В крайнем случае – истинным германцем, представителем высшей арийской расы. Неприятно и… какую-нибудь гадость хочется сделать, от всей широкой славянской души.
Только и радости, што качка не берёт! А из всех занятий – только еда три раза в день, да чтение.
Н-да… взял с собой в дорогу две книги Шолом-Алейхема[53], подаренные ещё в Одессе, но так и не читанные пока, да «Стену плача[54]» Менделе Мойхер-Сфорима[55].
Взять-то взял, но оказалось, што две из трёх – на иврите. Буковки всё те же, жидовские, а язык совсем другой. Обчитаешься! И был бы хоть словарик…
Шагнув с подножки вагона на перрон, Котяра повёл глазами по сторонам, и уверенно направился к указанному Коньком месту, где уже стоял мужчина, уверенно опознанный хитрованцем как «жидовский иван».
– Шалом алейхем, – поприветствовал он местново, – не вы ли будете Семёном Васильевичем?
– Шалом увраха, – отозвался мужчина, смерив парня пронзительным взглядом, – ви хотите таки сказать, шо имеете рекомендацию от нашево общево друга?
Вместо ответа Котяра приподнял шляпу. Короткая обоюдная проверка, вот уже жидовин расплывается в улыбке, и становится воплощением одессково гостеприимства.
– Егорка говорил за вас не очень много, но всегда хорошо, – сверкая фиксами, разливался Семэн (именно Семэн Васильевич, молодой человек!), – так шо могу сказать, шо заочно мы уже немножечко таки знакомы. Мой юный друг писал за вас, шо нужно немножечко спрятать, и по возможности пристроить к интересному делу, но может быть, вы имеет планы как-нибудь иначе?
– Пристроить, это хорошо, – усевшись в экипаж, осторожно отозвался Котяра, очень бережный к словам, – особенно к интересному.
Ворохнувшись, он устроился поудобней, зорко поглядывая по сторонам и пытаясь оценить нового знакомого. От Семэна Васильевича явственно пахло чужой кровью, хорошим одеколоном и… возможностями.
« – Пожалуй, – оптимистично подумал Котяра, – што и к лучшему! Может быть, даже и сильно»
Тридцать пятая глава
Надсадно пыхтя и дымя всеми трубами, пароходик начал входить в афинский порт. Гудок…
… и солнце! Разом! Будто пронзительный звук пробил облака, разорвал их на клочья. Свет небесный сверху столбом шарахнул по палубе, и все железки судовые, потускневшие малость после нелёгкого перехода, мягко засветились.
На душе сразу — лето! И даже пронзительный сырой ветер, рвущий одежду, ни разу не зимний. Холодно, зябко до самых костей, но — лето.
Потянувшись от души, прогнулся назад, да и встал на мостик, а оттудова и на руки, да и назад. Ошарашенные глаза матроса… и неловко почему-то стало, хотя с чево бы?
Застеснявшись, прошёл на корму, за которой ласточкиным хвостом струились пенистые волны, бликующие под лучами солнца. Парящие в небе чайки пикировали в них, выхватывая рыбёшку, и тут же на них с пронзительными криками налетали менее удачливые товарки, пытаясь отобрать добычу.
— Всё как у людей, – засмеялся я, глядя на безобразный скандал, развернувшийся в воздухе, – одни работают, а другие так!
Получасом позже сошёл по трапу, выглядывая носильщика. Не сразу и дошло, што какие там носильщики?! Причал-то не пассажирский!
Взмахом руки подозвал какого-то дюжево оборванца, держащегося с большим достоинством. Пара фраз на греческом, показанная полтина, и вот уже оборванец подхватывает чемоданы. Дотащив поклажу до извозчиков и получив заслуженную плату, оборванец не удалился, а поинтересовался на смеси греческого и английского, чего желает господин в моём лице.
Господином быть непривычно и даже немножечко смутительно, но желания имелись, как не быть.
— Гостиница, — стараюсь отчётливо выговаривать слова, – недорогая, но приличная.
Оборванец наморщил было гладкий, несмотря на далеко не юный возраст, лоб, и начал говорить што-то извозчику, но у тово оказалось своё мнение. Пару минут спустя я не без оторопи наблюдал, как носильщик, три извозчика и два случайных прохожих завели горячий спор о том, куда мне нужно заселяться. Вроде бы…
Говор быстрый, а дикция не разу не эталонная, да и похоже, што чуть не у каждово свой диалект. Всё это с размахиванием руками и одновременным говорением. Куда там жидам одесским!
У меня в голове почему-то — р-раз! И греки эти стаей вороньей обернулись. Кар да кар, и всё тут, и только отдельные слова понятны. Одесских греков понимал свободно, а тут – слово через пять!
Вмешался полицейский… и тоже заспорил, притом совершенно на равных.
– Русский? – повернулся ко мне худой, дочерна загорелый грек с устрашающими нафабренными усами, чуть не с велосипедный руль. Возраст совершенно непонятен, как это иногда бывает у южан. К тридцати годочкам могут обзавестись морщинами и волосами «соль с перцем», и годочков до семидесяти этак законсервироваться.
– Русский, — а у самово опаска. Вроде как и дружим давно народами, а ну как што?! Мало ли, што там произошло, пока на пароходике по Балтике плыл. Ну то есть шёл! – Репортёр.
Это уже так – понять даю, што если вдруг што, то искать будут. А эти… улыбки, и снова — кар, кар!
Наконец, в споре образовался победитель, и тучный немолодой грек с видом триумфатора пожал мне руку, выпятив солидный живот.
-- Агапий Папаиоанну, – представился он важно, явно ожидая, што я ево сейчас же узнаю и непременно поражусь. И запах... ядрёный запах лука и чеснока в той пропорции, когда у окружающих начинают слезиться глаза. Позже я убедился, што в Афинах это правило, а не исключение, и научился есть эти полезные овощи в устрашающих количествах, просто ради самозащиты.
Х-ха! И мухи облетают, а чужой запах уже и не запах вовсе.
– Егор Панкратов, – жму пухлую потную ладонь.
Размахивая руками и кругля глаза, меня отогнали от чемоданов, и самолично взгромоздили их на заду экипажа, вцепляясь в каждый по меньшей мере двумя парами рук. Уважения для, насколько я понял.
Так же, коллективными усилиями, взгромоздили и меня, после чего на покачнувшийся под его весом экипаж, на подножку ступил Агапий.
Несколько коротких слов извозчику, которые переросли в диалог, и Агапий повернул ко мне полное лицо.
– Домой едем, – мешая греческие и английские слова, сказал он, сияя щербатой улыбкой и топорща усы вверх.
– Гостиница…
– Гости! – прервал он меня, стуча себя в жирную грудь, – без денег! Гость!
Дальше последовал монолог, из которого я понял только, што кто-то из его предков или он сам воевали бок о бок с русскими против турок, и теперь в его венах течёт немножечко русской души.
Тронув вожжами смирную кобылку, извозчик тут же обернулся, заведя разговор. Водителя кобылы ничуть не смущала опасность столкновения, да и Агапий отнёсся к этому, как к вещи совершенно естественной. Впрочем, пожилая коренастая кобылка не спешила показывать своих скоростных качеств, сонно прядая ушами, и переходя с неторопливой рысцы на шаг, как только её хозяин отвлекался.
– Ментор! Ментор! – завопил внезапно извозчик, окликая знакомово и придерживая кобылу, с готовностью остановившуюся и навалившую лепёху на мостовую. Поделившись с торговцем вразнос тем фактом, што он везёт русского, водитель наш опустился обратно на козлы с видом самым важным.
Путешествие наше затянулось, так как то извозчик, то Агапий встречали знакомых, и останавливались на поговорить. Ещё чаще останавливались у каких-то развалин или раскопок, после чево Агапий торжественно обводил их величественным жестом, и оказывалось, што это не просто развалины, а руины самой Истории, знакомой по учебникам и классической литературе.
Город мне, откровенно, не показался. Развалины, развалины… и раскопки. Кажется, будто Афины целиком состоят из исторических обломков и руин разной степени живописности.
Возможно, я бы оценил их несколько выше, будучи свежим и отдохнувшим. И не в таких ударных дозах.
Ветрено и сыро. И пыль, пыль, пыль… От раскопок или сама по себе, уже не знаю, но ею припорошены руины, дороги, не дающие тени редкие деревья с частично сохранившейся листвой, люди и лошади.
Пыль скрипит на зубах, ложится грязной маской на потную кожу, и раздражает глаза. От близости моря эта пыль ещё и с сольцой, отчево кожу раздражает ещё сильней.
Киваю, растягивая губы в улыбке, и вслушиваясь в малопонятный для меня диалект греческого. Немножечко уже начал разбирать, но…
… очень хочется пить. А ещё – в туалет! Начал уже было приглядываться, где бы мне… Но тут мы наконец въехали на окраину города.
Извозчик наш вёз нас со страшным шумом, беспрерывно с кем-то споря, ругаясь и приветствуя знакомцев. Кривые улочки, заполненные праздными, ярко одетыми мужчинам, гружёнными поклажей женщинами в национальных костюмах, и впряжёнными в тележки ослами, произвели на меня самое яркое впечатление.
Извозчик и Агапий ухитрялись поддерживать в этом гаме диалог друг с другом, со мной (моя роль заключалась в улыбках и покачивании головой) и со всеми прохожими разом. Всякий раз, когда я улыбался или произносил какое-то греческое слово, их лица вспыхивали от удовольствия.
Греки, которые не древние и не богатые, обитают в неказистых, ни разу не интересных домах, составленных густо и довольно бестолково. Такой себе диссонанс – были великие древние, а потом – эти. Будто вовсе другой народ пришёл на развалины, захватывая территорию и великую историю.
Тряхнув головой, выбросил непрошеные мысли, и соскочил с подножки следом за Агапием. Тот, сияя щербато, громогласно рассказывал всей любопытной улице, што к нему (!) приехал русский репортёр.
Подивившись, опровергать всё же не стал, послушно пожимая все протянутые руки и представляясь. Старательно пытаюсь запомнить всех этих Агамемнонов, Зенонов и Гелиев, но получается откровенно плохо. Все усаты (даже и женщины), носаты, и загорелы дочерна.
Знаю уже по опыту, што поживи я здесь пару-тройку месяцев, то начну бойко говорить на местном, и буду знать всё о всех, вплоть до бородавки, выскочившей на причинном месте у какой-нибудь почтенной тётушки Авроры. А пока так.
Успеваю заметить, што люди живут очень небогато, но дружно. И – не Молдаванка, вот ну ни разу! Схожесть есть, но только если глядеть поверхностно. Эти – другие, сильно другие. Не знаю пока, чем и как, но пожалуй, што и разберусь!
Немолодая, но красивая гречанка, выскочившая на улицу, оказалась супругой моего гостеприимного хозяина.
– Зоя, – улыбаясь, представилась она, бесцеремонно расцеловывая меня и щекотя усиками, – очень рада!
– Спиро! Спиро! – сопливый мальчишка лет шести, приходящийся Агапию… кем-то там, заорал на редкость противным голосом, хвастаясь кому-то приехавшим русским.
Меня впихнули в небольшую гостиную, обставленную с дешёвым деревенским шиком. Следом набилось человек двадцать родственников и соседей, без малейшево стеснения обсуждающие меня, и чуть не тыкающие пальцами.
Густо запахло потом, вином, чесноком, луком и почему-то – оливковым маслом. Наконец, Зоя выпихнула их, призвав придти попозже…
– … а пока нашему гостю нужно умыться и отдохнуть!
В доме оказалась канализация, и я не без облегчения сходил по нужде. Выйдя обратно, я не без смущения убедился, што минимум парочка мелких носатых эллинов дежурили в это время под дверью. Глянув на меня и захихикав, мелкие унеслись – надо полагать, делиться особенностями моево пищеварения.
Помылся в жестяном корыте, с трудом отбившись от помощи. Отскрёбся от грязи и пота, и чистый-пречистый, был вытащен на экскурсию по дому.
Довольно-таки несуразный, он всё-таки имеет три этажа, включая мансарду со скошенными стенами, в которой нещадно дуло из щелей, и одновременно пыхало жаром от нагревшейся на солнце черепицы. Обстановка в доме самая што ни на есть деревенская, никакой столичностью и не пахнет. Вплоть до прялки!
В крохотном садике на заду дома в меня вцепилась усатая старуха в чёрном. Бормоча што-то ласковое, она гладила меня по щеке и волосам.
– Русский…
Пахла она потом, травами и нафталином. И немножечко – тленом, будто одной ногой уже Там. Кому и кем она приходится родственницей, я даже и не понял. Озадаченный вопросом мелкий начал загибать пальцы, и по всему выходит, што она много раз пра… и чуть ли не всей улице сразу.
Ужин накрыли в гостиной, довольно-таки унылой при ближайшем рассмотрении. А народищу!
Правда, порции большие, приготовлено всё очень вкусно, да и народ ведёт себя вполне дружелюбно, хотя и несколько бесцеремонно. Следуя деревенскому этикету, мне задавали вопросы… много вопросов!
Взрыв энтузиазма вызвал тот факт, што отец мой воевал в русско-турецкую. Расцеловав меня всем соседством, как новообретённого родственника, расспросили о подробностях – где именно, да в каком полку…
Снова взрыв энтузиазма, и какой-то мужчина вскочил и унёсся. Несколько минут спустя в гостиную вошёл тощий, но держащийся с необыкновенной важностью, немолодой грек с русской медалью на груди.
– Мирон Ксенакис, – представился он, гордо козырнув, – волонтёр…
На русском он говорит не без труда, но в общем-то чисто. Ему нашлось место за столом, и… вопросы, вопросы, вопросы…
Тридцать шестая глава
« — Здравствуй на многие лета, брат мой Санька! Обними за меня Мишку, Владимира Алексеевича, Марию Ивановну и Наденьку, передай привет Татьяне. Сил нет, как соскучился по всем вам!
Давеча даже и снилось, что сидим мы все в гостиной, на столе пышет жаром ведерный самовар, начищенный Татьяной до нестерпимого блеска. Горками на блюдах лежат сушки да баранки, заманчиво поблёскивает ложка в банке с черничным вареньем, и я уже потянулся было за добавкой.
Проснулся, так поверишь ли, вкус варенья на губах, и такая-то нега на душе, спокойствие безмятежное, что и не описать. Будто и в самом деле посидел с вами за чаепитием, такая умиротворенность и покой на душе.
Пишу тебе из Афин, где вот уже третий день, как живу у гостеприимнейшего Агапия Папаиоанну. Сей достойный муж работает маклером ради прокормления семьи, но душа его тянется к прекрасному. Нет, наверное, ни единого события, хоть толикой малой относящегося к греческой культуре, в котором мой гостеприимный хозяин не принял бы самого живого участия.
Добрейшей души человек, и большой греческий патриот, знающий едва ли не всех представителей культурной элиты Афин и едва ли не всей эллинской Ойкумены. Будучи исключительно уверенным в том, что я счастлив прикоснуться к частице великого наследия эллинов, он в совершеннейшем угаре таскает меня за собой, и знакомит, знакомит, знакомит…
Визитница моя совершенно распухла, и новые карточки складываю просто в шкатулочку, приобретённую специально ради этого. Их сотни, брат!
К стыду моему, имена и лица этих несомненно достойных личностей слились для меня к некое коллективное греческое бессознательное.
Время моё делится между визитами и знакомствами, с бормотанием положенных при сём слов, и экскурсиями. Ныне я совершенно убежден, что в Афинах каждый камень под ногами — исторический, и место ему в музее…»
Отложил перо в сторонку и размял кисти.
— Мы писали, мы писали, наши пальчики устали, – бормочу тихохонько, сжимая и разжимая кулаки. Зевок… и снова за письмо.
Писать могу только ночью, благо гостеприимный мой хозяин отдал мансарду в моё полное распоряжение. Жильё не самое комфортабельное, и в любой приличной гостинице я жил бы с большими удобствами, но не оценить навязанного мне гостеприимства я не могу.
День мой в Афинах начинается задолго до восхода солнца, а заканчивается заполночь. В пять утра Агапий уже нетерпеливо скребётся под дверью, расхаживает по лестнице и громко прокашливается.
Сытный завтрак, приготовленный сонной улыбчивой Зоей, и начинается бесконечный день, заполненный визитами, экскурсиями, посещениями музеев и библиотек, раскопок и прочих культурных мероприятий.
Интересно – необыкновенно, но необыкновенно же и устаю. Благо, уже с утра сяду на пароход, там и высплюсь.
« — Археологические раскопки идут не только в Афинах, но кажется, едва ли не по всей Элладе. Копают учёные мужи, копают крестьяне, копают сомнительные личности едва ли не со всего мира, и ведь находят!
Подобные археологические раскопки проходят ныне и в греческом языке. Просвещённые учёные мужи и отцы нации воссоздают греческий язык, опираясь на древние формы. Насколько новые формы греческого языка соответствуют старым, а насколько — представлениям учёных мужей, сказать сложно, но толика сомнений, и преизрядная, у меня имеется.
Национальная идентичность формируется буквально на глазах. Помимо древнегреческого языка, воссоздают и народные танцы, песни, обычаи. Опираются при этом на античные и византийские источники, обычно поверхностные и нередко весьма сомнительные.
Без тени смущения рассказывали мне новоявленные отцы нации, как восстанавливали они народные танцы и обычаи, полагаясь не столько даже на сомнительные источники, сколько на своё понимание истинно-эллинского. И учат ведь потом крестьян истинно-народным обычаям и танцам!
Насаждается и язык, а ведь в Греции есть целые области, заселённые если не славянами, то как минимум носителями эгейско-македонского языка[56]. И смущения – ни капли! Искренняя уверенность, что я — славянин, пойму и одобрю.
И ведь понимаю! Идёт формирование нации и государственности, а оно возможно только так – с кровью.
Понимаю, но ничуточки не оправдываю и тем паче не радуюсь. Когда же славянство перестанет быть питательным гумусом для других народов…»
Ещё несколько страниц, и я запечатываю письмо, зевая совершенно душераздирающе. Тянусь… и с нежностью гляжу на расстеленную постель, но нет!
« – Здравствуй, Фира…»
С утра я встал совершенно невыспавшийся и разбитый напрочь. Зевая с риском вывернуть челюсть, умылся и почистил зубы, радуясь отсутствующей по младости щетине.
Семейство Папаиоанну уже в гостиной, лица самые скорбные, едва ли не трагические. Они уже считают меня неотъемлемой частью своей семьи, и охотно усыновили бы, уматерили, или обженили на одной из девушек многочисленнейшего семейства.
Потчуя меня от всей души, Агапий время от времени трубно сморкался, отчево у меня застревал кусок в горле. Изучив содержимое клетчатого платка, он печально вздыхал, отчево колыхалась скатерть, и сложив платок, промокал глаза. Несколько вздохов спустя он подымал глаза на меня, и снова они наполнялись слезами. Начиналось шмыганье мясистым носом, и снова трубное сморканье, вызывающее у меня ассоциации со слоновником в зоопарке.
– Ты кушай, кушай! – суетилась вокруг Зоя, время от времени прикасаясь то к плечу, то к волосам, — когда ещё покушаешь…
В голосе неизбывная печать матери, провожающей единственного сына на поле боя, никак не меньше.
Старуха крестится беспрерывно, бормоча молитвы, и порываясь рассказать мне какие-то нравоучительные истории. Кто-нибудь из многочисленных родственников вежливо, но твёрдо переключает её внимание на што-то другое. Как я уже успел понять, почтенной старушке прилично за сто, и разум её примерно так же остёр, как почти ничего не видящие глаза.
Острое ощущение поминок, притом по самому себе, никак не оставляет. Тягостно, и страшно почему-то неловко, так што я испытываю нешутошную радость, покидая безусловно гостеприимный дом Папаиоанну.
Из дома я выходил с облегчением, но вся семья Агапия выразила твёрдое желание проводить меня.
« – В последний путь» – едко, и как мне показалось — нервно, добавило подсознание.
Проводы эти вылились в подобие театрализованного парада-алле, которому позавидовал бы средней руки цирк. Не хватало только дрессированных животных, клоунов и бородатых женщин.
Живописная толпа в национальных и европейских нарядах плакала, смеялась, переговаривалась, обсуждала политику и своего монарха. А ещё почему-то -- освободительный поход в Малую Азию, связывая его с моей поездкой.
Ощущая себя то ли царственной особой, то ли главным артистом бродячего цирка в провинции, в пролетке со всей своей поклажей ехал я и Агапий, время от времени трубно сморкавшийся под самым ухом.
« – Улыбаемся и машем!» – выдало подсознание, и кажется – спряталось.