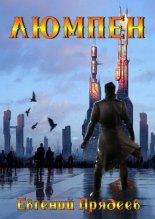Создание атомной бомбы Роудс Ричард
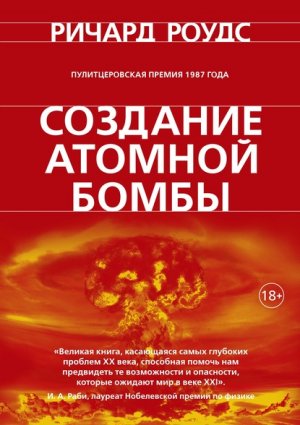
Дальнейшие эксперименты… дали несомненное объяснение аномалиям, которые я наблюдал в 1936 году… С учетом этой новой работы сохранение [моего] патента более не кажется теперь необходимым… и рассекречивание этого патента также не принесло бы никакой пользы. В связи с этим я прошу о полной отмене этого патента[1134].
Как Сцилард говорил впоследствии, его вера в возможность цепной реакции «почти что совсем исчезла»[1135].
Исходно Ган и Штрассман назвали свою статью «Об изотопах радия, полученных в результате нейтронной бомбардировки урана, и их поведении». Получив новые данные, они поняли, что «радий» тут не годится. Сначала они хотели заменить во всей статье «радий» на «барий». Но большая часть статьи была написана до того, как они получили подтверждение своей гипотезы из опыта с лантаном. Статью пришлось бы переписать от начала до конца, «особенно, – говорит Ган задним числом, – поскольку с учетом этого результата значительная ее часть уже не представляла особого интереса»[1136]. Надвигалось Рождество, приближался последний срок сдачи статьи, им не хватало времени. Они решили хоть как-нибудь приспособить то, что у них уже было. Результат мог получиться неизящным, но оттого не менее действенным. Они заменили «изотопы радия» в заглавии на ни к чему не обязывающее выражение «щелочноземельные металлы» – и барий, и радий действительно относятся к щелочноземельным металлам, так же как бериллий, магний, кальций и стронций. Во всем тексте рукописи они взяли многочисленные упоминания радия и актиния в кавычки. После этого они добавили в конце статьи еще семь осторожно сформулированных абзацев.
«Теперь нам остается обсудить некоторые более новые эксперименты, – начинался этот финальный раздел, – которые мы публикуем не без некоторых колебаний, обусловленных странностью их результатов». После этого они вкратце описали свои опыты:
Мы стремились к не вызывающему сомнений определению химических свойств материнских элементов радиоактивного ряда, которые мы выделили при помощи бария и называли «изотопами радия». Мы провели фракционную кристаллизацию и фракционное осаждение в соответствии с хорошо известными методами концентрирования (или разбавления) радия в растворах солей бария…
При проведении соответствующих проверок на образцах радиоактивного бария, не содержащих каких-либо продуктов позднейшего распада, результаты всегда были отрицательными. Активность была распределена по всем фракциям бария равномерно… Мы пришли к заключению, что наши «радиевые изотопы» обладают свойствами бария. Как химики, мы должны утверждать, что новые продукты представляют собой не радий, а собственно барий. Возможность того, что они являются какими-либо другими элементами кроме радия или бария, совершенно исключена.
Затем они описывали работу с актинием, выделяли отличия своей работы от работ Кюри и Савича и указывали, что все так называемые трансураны следует исследовать повторно. Не решаясь окончательно присвоить прерогативы физиков, они заканчивали статью на несколько неуверенной ноте:
Как химики, мы должны бы были пересмотреть приведенную выше схему распада и вставить в нее вместо символов Ra, Ac, Th [торий] символы Ba, La, Ce [церий]. Однако, будучи «ядерными химиками» и работая очень близко к области физики, мы пока что не отваживаемся сделать столь решительный шаг, противоречащий всем ранее известным законам ядерной физики. Возможно, могла возникнуть последовательность необычных совпадений, приведшая нас к получению ложных показаний[1137].
Пообещав в заключение продолжать эксперименты, они были готовы сообщить о своих результатах миру. Уже отправив статью по почте, Ган почувствовал, что все это настолько невероятно, «что мне захотелось снова достать эти бумаги из почтового ящика»[1138][1139]; по другой версии, Пауль Розбауд тем же вечером зашел в институт за статьей. Обе эти истории сохранились в позднейших воспоминаниях Гана. Поскольку Розбауд понимал важность этой статьи и пометил ее получение 22 декабря 1938 года, вероятно, что он забрал ее лично. Но и Ган ходил этой ночью к почтовому ящику, чтобы отправить копию своей эпохальной статьи в Стокгольм Лизе Мейтнер. Возможно, та озабоченность, о которой он вспоминал впоследствии, была связана с неловкостью, которую он чувствовал из-за того, что статья должна была быть опубликована без ее участия, – или же со смутными предчувствиями того, какие роковые последствия может иметь это открытие.
Шведский городок Кунгэльв – что означает «королевская река» – расположен километрах в пятнадцати к северу от крупного портового города Гётеборга и в десяти километрах от побережья пролива Каттегат. Река Нордре-Эльв – северный рукав реки Гёта-Эльв, которая берет начало в озере Венерн, крупнейшем пресноводном озере Западной Европы; в Кунгэльве она образовала обращенный на юг крутой гранитный обрыв Фонтин высотой около 100 метров. Современный город вытянут вдоль единственной вымощенной булыжником улицы на узкой полке между обрывом и рекой, прижатой к гранитной стене.
Исходно деревня, называвшаяся тогда Кунгаэлла, была основана норвежцами около 800 года в несколько менее стесненном месте ниже по течению. Однако в Кунгэльве посреди реки поднимается как бы окруженный естественным рвом холмистый остров; обрыв Фонтин еще более увеличивает оборонительные преимущества этого места. В 1308 году, когда здесь проходила граница между Норвегией и Швецией, норвежцы начали на этом острове сооружение монументальной гранитной крепости Бохус (Bohus fstning, т. е. «крепость короля Бохуса»), покрытые дерном, уступчатые, мощные стены которой образуют настоящий лабиринт, ведущий вглубь острова и вверх по склонам холма, к господствующей над всей прибрежной долиной цилиндрической башне с толстыми каменными стенами и конической крышей. Расположение трех глубоких окон, прорезающих стены башни, – двух сверху, третьего ниже и между ними – случайно придало ей сходство с лицом, глядящим пустыми глазами в сторону скалы Фонтин. Чтобы смягчить пугающее впечатление, которое производит это лицо, местные жители дали башне прозвище Фарс-Хатт, то есть «Папина шляпа», уподобив ее голове рабочего в колпаке. За четыреста лет активного использования крепость Бохуса осаждалась четырнадцать раз[1140]; поселения, расположенные в долине, каждый раз предавались огню, а на кладбище, находящемся под стенами крепости на острове, появлялись все новые могилы.
В 1612 году деревня была перенесена выше по реке, на остров. С XV по XIX век Норвегией правили датчане; в 1658 году они уступили Швеции провинцию Бохуслен, в которой находится Кунгэльв, по условиям Роскилльского мира. В 1676 году случился пожар, уничтоживший островную деревню, и ее жители перебрались на более безопасное место на узком берегу. Они проложили улицу и построили ряд домов, отходящий к западу и востоку от мощенной булыжником рыночной площади, устроенной в том месте, где прибрежная полоса становится достаточно широкой[1141]. Несмотря на присутствие крепости Кунгэльв – место мирное, особенно зимой, когда река замерзает и снег толстым слоем покрывает землю. В аккуратных деревянных домах городка, окрашенных в пастельные тона, можно найти уютные комнаты с корабельными сундуками, горками с фарфором, кружевными занавесками и угловыми каминами, облицованными декоративной плиткой, пропахшие кофе и свежей выпечкой. В 1927 году Ева фон Бар-Бергиус и ее муж построили там свой дом, большего размера, чем большинство старых домов Кунгэльва, но в том же стиле. В 1938 году Лиза Мейтнер была в Стокгольме совсем одна. Отто Фриш был в одиночестве в Копенгагене; его мать, сестра Мейтнер, оставалась в Вене, и свяаться с ней было невозможно; его отец попал после «Хрустальной ночи» в Дахау. Поэтому Бергиусы любезно пригласили тетку и племянника на рождественский обед в Кунгэльв[1142].
Мейтнер уехала из Стокгольма в пятницу утром, за два дня до Рождества. Фриш приехал из Дании на железнодорожном пароме. Его тетка прибыла раньше и поселилась в тихой гостинице на Вестра-гатан, Западной улице, в которой должны были жить они оба, – бледно-зеленом здании, очень похожем на скромные соседние дома, но имевшем расположенное на первом этаже кафе[1143]. К северу от гостиницы вытянулась вдоль улицы затененная полоса сада; над низкорослыми деревьями сада нависала темная скала. С другой стороны, за гостиницей, открывалась покрытая снегом пойма реки, переходящая в редкий лес. Дом Бергиусов находился в нескольких минутах ходьбы на восток, за рыночной площадью и белой церковью. Фриш и Мейтнер устали в пути и встретились в тот вечер, когда прибыл Фриш, лишь на короткое время[1144].
Этой зимой Фриш изучал в Копенгагене магнитные свойства нейтронов. Для продолжения работы ему было необходимо сильное, однородное магнитное поле, и по дороге в Кунгэльв он набросал схему большого магнита, который собирался спроектировать и построить[1145]. Утром накануне Рождества он спустился из своего номера, готовый заинтересовать тетку своими планами. Она уже завтракала и не собиралась разговаривать о магнитах: она принесла с собой письмо Гана от 19 декабря и настояла, чтобы Фриш прочитал его[1146]. Так он и сделал. «Барий… – сказал он ей. – Я в это не верю. Тут какая-то ошибка»[1147]. Он попытался перевести разговор на свой магнит; Мейтнер снова вернула его к барию. «В конце концов, – говорит Мейтнер, – мы оба погрузились в мою задачу»[1148]. Они решили прогуляться и посмотреть, что они смогут придумать.
Фриш привез с собой равнинные лыжи и хотел их использовать. Он опасался, что тетка не будет за ним поспевать. Она заверила его, что сможет идти пешком с той же скоростью, с какой он – на лыжах. И это действительно ей удалось. Он взял свои лыжи, и они отправились в путь, вероятно, на восток, к рыночной площади Кунгэльва, выходившей на пойму реки, затем через замерзшую реку и в расположенное за нею редколесье.
«Но это же невозможно, – говорили они, как вспоминает Фриш, пытаясь вместе понять эти результаты. – Нельзя же одним ударом отколоть от ядра сотню частиц. Нельзя даже разрезать ядро пополам. Если оценить ядерные силы, все связи, которые для этого необходимо разорвать одновременно, – цифра получится фантастической. Совершенно невозможно, чтобы ядро было на это способно»[1149]. Тридцать лет спустя Фриш описал их тогдашние мысли более формальным образом:
Но как из урана мог получиться барий? До сих пор от ядра не удавалось отделить более крупные фрагменты, чем протоны или ядра гелия (альфа-частицы), и мысль о возможности одновременного отделения большого числа таких фрагментов можно было отбросить; для этого не имелось достаточной энергии. Невозможно было и расколоть ядро урана на две части. Ядро не было подобно хрупкому твердому телу, которое можно было бы расколоть или разбить; Бор подчеркивал, что ядро гораздо более похоже на каплю жидкости[1150].
Возможно, разделение ядра можно было представить себе в модели жидкой капли. Они присели на бревно. Мейтнер нашла в своей сумочке клочок бумаги и карандаш. Она стала рисовать круги. «Не может ли это быть чем-то в таком роде?»[1151]
Фриш говорит: «Надо сказать, что она всегда страдала отсутствием трехмерного воображения, а у меня эта способность была развита довольно хорошо. По-видимому, мне в голову в конце концов пришла та же самая идея, и я нарисовал нечто похожее на круг, сдавленный в двух противоположных точках»[1152].
«Ну да, – сказала Мейтнер, – это я и имела в виду»[1153]. Она хотела нарисовать то же, что нарисовал Фриш, жидкую каплю, вытянутую наподобие гантели, но нарисовала ее с торца, обозначив перемычку гантели пунктирным кружком меньшего размера внутри большего сплошного круга.
Фриш говорит: «Я помню, как в тот же момент немедленно подумал о том, что электрический заряд уменьшает поверхностное натяжение». Капля жидкости удерживается от распада поверхностным натяжением, а ядро – аналогичным сильным взаимодействием. Однако электрическое отталкивание протонов, содержащихся в ядре, действует против сильного взаимодействия, причем чем тяжелее элемент, тем сильнее становится это отталкивание. Фриш продолжает:
Я тут же принялся вычислять, насколько именно уменьшается поверхностное натяжение ядра. Не знаю, откуда мы взяли все эти цифры, но мне кажется, что у меня должно было быть некое ощущение величины энергий связи, и я мог оценить силу поверхностного натяжения. Разумеется, заряд и размеры ядра мы знали достаточно хорошо. В результате по оценке порядка величины получилось, что в ядре с зарядом [т. е. атомным номером] около 100 поверхностное натяжение должно исчезать; следовательно, уран, имеющий заряд 92, должен находиться в состоянии, весьма близком к такой неустойчивости[1154].
Они открыли причину, по которой в мире не существует природных элементов тяжелее урана: две силы, действующие в ядре друг против друга, в конечном счете взаимно обнуляются.
Они представили себе ядро урана в виде капли жидкости, рыхлой в своей непрочной оболочке, и вообразили, как в нее попадает медленный нейтрон, даже почти не имеющий энергии. Энергия нейтрона добавляется к энергии всей системы. Ядро начинает колебаться. В одной из многочисленных случайных мод колебаний оно может вытянуться. Поскольку сильное взаимодействие работает только на чрезвычайно малых расстояниях, электрическая сила, расталкивающая два утолщения вытянутой капли, оказывается сильнее. Два утолщения расходятся на еще большее расстояние. Между ними образуется тонкая перемычка. В каждом из двух утолщений снова начинает превалировать сильное взаимодействие. Подобно поверхностному натяжению, оно стремится превратить каждое из утолщений в сферу. В то же самое время электрическое отталкивание стремится развести две разделяющиеся сферы еще дальше друг от друга.
В конце концов перемычка разрывается. Там, где было одно крупное ядро, появляются два ядра меньшего размера, например бария и криптона:
«Тогда, – вспоминает Фриш, – Лиза Мейтнер сказала, что, если два таких фрагмента действительно образуются, они должны разлетаться в разные стороны с огромной энергией»[1155]. Взаимное отталкивание всех содержащихся в них протонов должно привести к их разлету со скоростью в одну тридцатую скорости света. По расчетам Мейтнер или Фриша выходило, что вызывающая этот разлет энергия должна быть порядка 200 МэВ – 200 миллионов электрон-вольт. Один электрон-вольт – это энергия, необходимая для ускорения электрона при пролете через разницу потенциалов в один вольт. Двести миллионов электрон-вольт – энергия небольшая, но для энергии, получаемой из одного атома, эта величина огромна. В самых высокоэнергетических химических реакциях высвобождается около 5 эВ на атом. Эрнест Лоуренс строил в том же году циклотрон с 200-тонным магнитом, в котором он надеялся разгонять частицы до целых 25 МэВ. Впоследствии Фриш подсчитал, что энергии, получающейся при делении каждого ядра урана, должно хватить, чтобы подбросить видимую невооруженным глазом песчинку на заметную высоту. В каждом грамме урана содержится невообразимо большое число атомов, около 2,5 1021, то есть 25 с двадцатью нулями: 2 500 000 000 000 000 000 000.
Они задались вопросом о возможном источнике всей этой энергии. К нему сводилась основная трудность этого предположения, из-за которой до этого никто не считал такую возможность правдоподобной. Наблюдавшиеся до сих пор процессы захвата нейтронов сопровождались высвобождением гораздо меньшей энергии.
В 1909 году, когда Мейтнер был тридцать один год, она впервые увидела на научной конференции в Зальцбурге Эйнштейна. Он «читал лекцию о развитии наших взглядов на природу радиации. В то время я совершенно не понимала всех следствий его теории относительности». Она жадно слушала. В ходе лекции Эйнштейн вывел из теории относительности свое уравнение E = mc2, о котором Мейтнер тогда еще не знала. Тем самым Эйнштейн показал, как вычислять преобразование массы в энергию. «Эти два факта, – вспоминала она в 1964 году, – были настолько поразительно новы и неожиданны, что я до сих пор очень хорошо помню эту лекцию»[1156].
Она вспомнила ее и накануне Рождества 1938 года. Кроме того, как говорит Фриш, «у нее в голове были упаковочные коэффициенты»[1157] – она помнила наизусть полученные Фрэнсисом Астоном численные значения дефектов масс разных ядер. Если расщепить большое ядро урана на два меньших ядра, то сумма масс меньших ядер окажется меньше, чем масса исходного ядра. Насколько меньше? Эту величину она легко могла вычислить: приблизительно на одну пятую массы протона. Осталось подставить одну пятую массы протона в уравнение E = mc2. «Одна пятая массы протона, – восклицает Фриш, – была как раз эквивалентна 200 МэВ. Вот где был источник этой энергии, все сошлось!»[1158]
На самом деле они обратились в новую веру не настолько мгновенно. Хотя они и пришли в сильное возбуждение, по крайней мере Мейтнер еще сохраняла глубокое недоверие. Эта новая работа ставила под сомнение результаты четырех лет ее работы с Ганом и Штрассманом; если она была права в отношении первой, значит, она ошибалась в отношении последней, причем в то самое время, когда она бежала из Германии в безразличный к ней мир изгнания, и ей было особенно необходимо поддерживать свою репутацию. «Лиза Мейтнер постоянно говорила что-то вроде “Мы не могли этого предвидеть. Это было полной неожиданностью. Ган – хороший химик, и я доверяла его химической работе и считала, что получались именно те элементы, которые он называл. Кто мог подумать, что на самом деле они окажутся настолько легче?”»[1159]
Прошел рождественский ужин у Бергиусов. Фриш катался на лыжах, Мейтнер гуляла пешком. Тысяча девятьсот тридцать восьмой год подходил к концу. За неделю, проведенную в маленьком городке, они наверняка посетили крепость и смотрели с ее бастионов на покрытую снегом долину, на могилы убитых за много столетий. Хотя теперь они понимали энергетические аспекты открытия, оно все еще оставалось для них чем-то из области чистой физики; они еще не думали о цепной реакции.
Письмо Гана от 21 декабря, в котором подтверждалось наличие лантана, еще не было переправлено из Стокгольма, как и копия статьи в Naturwissenschaften[1160]. Гану не терпелось заручиться поддержкой Мейтнер, и в среду после Рождества он написал ей прямо в Кунгэльв. Тщательно стараясь не посягать на ее место, он называл открытие своей «бариевой фантазией» и ставил под вопрос все, кроме присутствия бария и отсутствия актиния, – то есть играл роль скромного химика. «Разумеется, мне было бы очень интересно услышать Ваше откровенное мнение. Возможно, Вы могли бы что-нибудь рассчитать и опубликовать»[1161]. Он по-прежнему ничего не сообщал другим физикам, хотя ему не терпелось получить физическое подтверждение своих химических результатов. Дело выглядело так, будто оружейник случайно открыл огонь, ударив по кремню, пока шаманы раздумывали над обузданием молнии. Он, наверное, тоже не поверил бы своему счастью и настойчиво искал их подтверждения, хотя и знал, что руку ему обожгло по-настоящему.
Письмо пришло в Кунгсэльв в четверг; в тот же день Мейтнер ответила, что результаты по радию и барию «очень интересны. Мы с Отто Р[обертом] уже размышляли над этой загадкой»[1162]. Но об ответе на загадку она не рассказала, а только поинтересовалась результатами по лантану.
В пятницу она отправила Гану открытку: «Сегодня прибыла рукопись». В ней недоставало одной важной страницы, но она нашла ее «совершенно поразительной»[1163]. И больше ничего; Ган, должно быть, кусал себе губы.
Розбауд привез в Далем гранки статьи. Теперь Ган был более уверен в своих результатах. В рукописи результаты по барию назывались «противоречащими всем ранее известным законам ядерной физики». В гранках он изменил эту фразу на «противоречащие всему ранее накопленному опыту»[1164].
Но даже получив наконец в Кунгэльве копию статьи, недостающую страницу и письмо от 21 декабря, Мейтнер все еще не отваживалась сделать решительный шаг. 1 января, поздравив Гана с Новым годом, она написала: «Мы тщательно прочитали Вашу работу и считаем, что такой сильный разрыв ядра, возможно, все же может быть осуществим с энергетической точки зрения». После этого она отклонилась и перешла к беспокойству относительно их злосчастных трансуранов, «которые могут послужить мне дурной рекомендацией при начале работы на новом месте»[1165]. Фриш добавил к ее письму свои собственные новогодние поздравления и более искреннюю оговорку: «Если ваши новые открытия окажутся верными, они, несомненно, будут представлять огромный интерес, и мне очень хотелось бы узнать о дальнейших результатах»[1166].
Затем, в тот же день, Мейтнер вернулась в Стокгольм, а Фриш – в Копенгаген. Ему «не терпелось представить наши догадки – в то время они, собственно, еще не были ничем большим – Бору»[1167]. Нотка неуверенности, сквозящая в их письме Гану, говорит о том, что они хотели бы опереться на авторитет Бора. Фриш встретился с ним 3 января[1168]: «Едва я начал свое объяснение, он ударил себя рукой по лбу и воскликнул: “О, какими же мы были идиотами! Это же великолепно! Именно так и должно быть!”»[1169] Как написал в тот же день Фриш своей тетке, их разговор продолжался всего несколько минут, «потому что Бор сразу же и во всем с нами согласился… [Он] еще хочет провести сегодня вечером численный анализ и снова поговорить об этом со мной завтра»[1170].
В тот же день Мейтнер получила в Стокгольме отредактированные гранки Гана. Независимо друг от друга эти два письма умерили ее сомнения. Она решительно написала Гану: «Теперь я вполне уверена, что Вы действительно получили расщепление в барий, и я считаю это чудесным результатом, с которым я очень тепло поздравляю Вас и Штрассмана… Перед вами открывается теперь широкое, прекрасное поле для работы. И поверьте мне, хотя я осталась сейчас практически с пустыми руками, чудесность этих открытий очень меня радует»[1171].
Теперь этим открытиям нужна была интерпретация. Тетка и племянник наметили очертания теоретической статьи по международной телефонной связи. В пятницу 6 января Фриш вчерне написал ее и поехал на трамвае в Дом почета, чтобы обсудить ее с Бором, который на следующее утро уезжал в Соединенные Штаты на временную работу в Институте перспективных исследований. На следующее утро он успел наечатать лишь часть статьи; на железнодорожном вокзале, с которого Бор вместе со своим девятнадцатилетним сыном Эриком уезжал в порт Гётеборга, Фриш вручил ему две страницы[1172]. Предполагая, что Фриш немедленно отправит статью в Nature, Бор обещал не рассказывать об этой работе американским коллегам, пока не получит от Фриша известия, что статья принята и готовится к печати. Среди заметок, которые Фриш принес на эту последнюю беседу, было упоминание об эксперименте, который подтвердил бы полученные в Далеме химические результаты физическими средствами[1173].
Статья Гана и Штрассмана вышла в Берлине 6 января. На следующий день, когда ее доставили в Копенгаген, Фриш решил обсудить все это дело с Георгом Плачеком. Плачек отнесся к этому со своим обычным скепсисом и остроумием[1174]. Уран и так уже страдает альфа-распадом, ворчал он, как вспоминает Фриш; предположить, что он может еще и разрываться, – «все равно что вскрыть тело человека, убитого упавшим сверху кирпичом, и обнаружить, что он и так умирал от рака»[1175]. Плачек предложил Фришу использовать для поисков высокоэнергетических фрагментов, которые доказали бы, что ядро распалось, камеру Вильсона. Фриш понял, что с имевшимися в институте радиевыми источниками нейтронов фотографии, сделанные в камере Вильсона, будут замутнены гамма-излучением. Но простая ионизационная камера может подойти. «Можно было ожидать, что из уранового слоя, бомбардируемого нейтронами, будут вылетать быстро движущиеся ядра с атомным номером около 40–50 и атомным весом около 100–150, с энергией до 100 МэВ», – описывал он свой эксперимент в последующем отчете. «Несмотря на высокую энергию таких ядер, длина их пробега в воздухе должна составлять всего несколько миллиметров в связи с их высоким эффективным зарядом… что предполагает чрезвычайно плотную ионизацию». За время своего короткого пробега эти сильно заряженные ядерные фрагменты должны были отрывать от ядер газов, входящих в состав воздуха, около 3 миллионов электронов. Обнаружить их должно было быть легко.
Его камера состояла из «двух металлических пластин, разделенных стеклянным кольцом высотой около 1 см»[1176]. Заряженные пластины, которые должны были собирать ионы из воздуха, были соединены с простым усилителем, а тот – с осциллографом. К нижней пластине Фриш прикрепил кусок покрытой ураном фольги. Он расположил свою экспериментальную установку в подвале института и достал из закрытого колодца три нейтронных источника. Поместив источники рядом с фольгой, он стал ждать появления ожидаемых ядер. Обладая высокой энергией и сильной ионизирующей способностью, они должны были оставлять на зеленой развертке экрана осциллографа быстрые, резкие вертикальные импульсы.
Фриш начал свои измерения после обеда в пятницу 13 января[1177], и «в течение нескольких часов наблюдались импульсы с приблизительно предсказанной амплитудой и частотой (один или два импульса в минуту)». Он провел контрольные опыты без нейтронных источников или без урановой подкладки. Он обернул источники парафином, чтобы замедлить нейтроны, и «это привело к двукратному усилению эффекта»[1178]. Он продолжал измерения «до шести часов утра, чтобы убедиться в устойчивости работы аппаратуры». Как когда-то Вернер Гейзенберг, он жил в квартире, расположенной над институтом; совершенно изможденный, он поднялся по лестнице и лег спать. Как он вспоминает, при этом он думал, что число 13 снова оказалось для него счастливым.
И даже более счастливым, чем ему казалось: «В семь утра меня разбудил почтальон с телеграммой, в которой говорилось, что моего отца выпустили из концлагеря»[1179]. После этого родители Фриша переехали в Стокгольм и стали жить там у его тетки, имущество которой в конце концов было ей отправлено благодаря хлопотам Гана.
Весь следующий день Фриш «в состоянии легкого замешательства»[1180] повторял свой эксперимент для всех, кто желал на него посмотреть. Одним из посетителей подвала в это утро был Уильям Арнольд, черноволосый и голубоглазый американский биолог ирландского происхождения, который работал у Дьёрдя де Хевеши на стипендию Фонда Рокфеллера. Арнольду было тридцать четыре года – столько же, сколько и Фришу, – и он приехал из Морской лаборатории Хопкинса в калифорнийском городе Пасифик-Гроув. В сентябре предыдущего года он приплыл в Европу из Сан-Франциско вместе с женой и маленькой дочерью. Он мог бы обучаться технике работы с радиоизотопами и в Беркли, но тогда ему не удалось бы пожить в Копенгагене и поучиться у де Хевеши – а также не удалось бы по капризу истории стать автором нового термина. Фриш показал американцу свой эксперимент и обратил его внимание на импульсы на осциллографе. «По размеру пиков, – вспоминает Арнольд, – было ясно, что они соответствуют энергиям порядка 100–200 МэВ; они были гораздо выше, чем пики от альфа-частиц [из естественного фона урана]».
Позже в тот же день Фриш отыскал меня и сказал: «Вы работаете в микробиологической лаборатории. Как вы называете процесс, в котором одна бактерия превращается в две?» Я ответил: «Простым делением». Он спросил, можно ли его назвать «делением» без прилагательного, и я сказал, что можно[1181].
Фриш, умелый рисовальщик, способный к визуализации, которая была недоступна его тетке, мысленно преобразил жидкую каплю в делящуюся живую клетку[1182]. Так название процесса умножения жизни стало названием и бурного процесса разрушения. «Я написал матери, – говорит Фриш, – что чувствую себя, как человек, поймавший слона за хвост»[1183].
В выходные тетка с племянником снова разговаривали по телефону, готовя не одну, а сразу две статьи для Nature[1184]: они одновременно объясняли реакцию и давали отчет о подтверждающем эксперименте Фриша. В обеих статьях – «Расщепление урана нейтронами: новый тип ядерной реакции» и «Физические данные о разделении тяжелых ядер под влиянием нейтронной бомбардировки» – использовался новый термин «деление». Фриш закончил обе статьи вечером понедельника 16 января и на следующее утро отослал их авиапочтой в Лондон[1185]. Поскольку они с Бором уже обсуждали теоретическую статью, а эксперимент лишь подтверждал открытие Гана и Штрассмана, он не спешил сообщить обо всем этом Бору.
Бор отплыл на шведско-американском лайнере «Дроттнингхольм» вместе со своим сыном Эриком и бельгийским теоретиком Леоном Розенфельдом. «Когда мы садились на корабль, – вспоминает Розенфельд, – Бор сказал мне, что Фриш только что передал ему записку, в которой были изложены выводы, сделанные им и Лизой Мейтнер; нам следует “попытаться понять ее”». Это означало, что путешествие будет рабочим; в каюте Бора тут же поставили меловую доску. В это время года в Северной Атлантике сильно штормит; от этого он был «очень несчастен, все время на грани морской болезни»[1186], но работе это почти не мешало. Первый вопрос, на который он хотел найти ответ, был о том, почему, если бомбардируемое ядро колеблется более или менее случайным образом, оно, по-видимому, предпочитает разделяться на две части, а не на какое-нибудь другое их число. Бор был удовлетворен, когда увидел, что в связи с нестабильностью самых тяжелых ядер им требуется для разделения не больше энергии, чем для испускания единичной частицы. Речь шла о вероятностях, и образование двух фрагментов было значительно более вероятным, чем распад на множество осколков.
Семейство Ферми прибыло в Нью-Йорк 2 января; Лаура остро чувствовала себя чужой на новом месте, а Энрико провозгласил со своей обычной шутливой торжественностью: «Вот мы и основали американскую ветвь рода Ферми»[1187]. Они временно остановились в гостинице «Кингз Краун» напротив Колумбийского университета; в ней же жил и Сцилард. Джордж Пеграм, высокий, вежливый виргинец, бывший в Колумбийском университете главой физического факультета и директором аспирантуры, встретил Ферми, когда они сходили с борта «Франконии»; теперь, в свою очередь, они встречали в порту Бора. На заполненном народом пирсе Западной 57-й улицы к ним присоединился американский теоретик Джон Арчибальд Уилер, которому было тогда двадцать девять лет; он работал с Бором в Копенгагене в середине 30-х годов и впоследствии снова сотрудничал с ним в Принстоне. Закончив свои обычные занятия, назначенные на утро понедельника, он приехал туда на дневном поезде.
«Дроттнингхольм» пришвартовался 16 января в час дня, и Лаура Ферми увидела на верхней палубе Бора, который вглядывался в толпу встречающих, опираясь на леерное ограждение. При встрече он показался ей изможденным: «За это недолгое время профессор Бор заметно постарел. Уже несколько месяцев его чрезвычайно угнетала политическая обстановка в Европе, и эта тревога отражалась на его облике. Он ходил сгорбленный, как будто бы нес на своих плечах тяжелую ношу. Его беспокойный, неуверенный взгляд скользил по нашим лицам, ни на ком не останавливаясь»[1188][1189]. Бор, несомненно, беспокоился о Европе. Кроме того, его мучила морская болезнь.
У него были в Нью-Йорке дела; он и Эрик остались с Ферми. Уилер повез Леона Розенфельда в Принстон. Верный обещанию, данному Фришу, Бор не упоминал об открытии Гана и Штрассмана и его интерпретации Фриша и Мейтнер ни Ферми, ни Уилеру, но он не рассказал о своем обещании Розенфельду. Розенфельд считал, что Фриш и Мейтнер уже отослали в печать статью, которая закрепит приоритет их интерпретации[1190]. Он пересказал Уилеру то, что сообщил ему Бор. «В те дни, – вспоминает Уилер, – я организовывал проходившие в понедельник вечером заседания журнального клуба, – еженедельные собрания принстонских физиков, на которых они обсуждали появившиеся в физических журналах сообщения о последних исследованиях, чтобы оставаться в курсе развития науки. – Обычно на них делались доклады по трем темам, а тут, как я услышал от Розенфельда в поезде, речь явно шла о сенсации»[1191]. Америка впервые услышала о расщеплении ядра урана – слово «деление» еще не пересекло Атлантику – на заседании журнального клуба физического факультета Принстона морозным вечером понедельника 16 января 1939 года. «То действие, которое мой доклад произвел на американских физиков, – печально говорит Розенфельд, – было более эффектным, чем само явление деления ядра. Они так и ринулись рассказывать об этой новости направо и налево»[1192].
На следующий день Бор приехал в Принстон, чтобы приступить к работе, и Розенфельд мимоходом упомянул в разговоре с ним о своем выступлении в журнальном клубе. «Я перепугался, – писал вечером Бор жене, – так как обещал Фришу, что дождусь, пока статья Гана появится в печати, а его статья будет отослана»[1193]. Речь шла скорее о вопросе чести, чем о реальных последствиях, хотя для Бора и этого было бы достаточно, чтобы заставить его мучиться угрызениями совести. К тому же Мейтнер и Фриш были в изгнании, и такое блистательное свершение очень пригодилось бы им для приобретения надежной репутации на новом месте. В распоряжении Бора были результаты, которые они с Розенфельдом получили на борту «Дроттнингхольма»; в течение следующих трех дней он упорно работал над их изложением в форме письма в Nature[1194], в котором с самого начала настойчиво подчеркивался приоритет Мейтнер и Фриша. Написание статьи в семьсот слов за трое суток означало по меркам Нильса Бора невероятную спешку.
«Угадайте, где я узнал о [новостях, привезенных Бором], – предлагает Юджин Вигнер. – В… лазарете [Принстона]. Потому что я заболел желтухой и провел шесть недель в лазарете»[1195]. Поначалу Вигнер не прижился в Принстоне; в 1936 году «мне предложили поискать другую работу». По его мнению, в то время Принстон был «башней из слоновой кости; ни у кого там не было нормальных представлений об обычной жизни, и на меня смотрели свысока». Он стал искать другую работу и нашел ее в Висконсинском университете в Мадисоне. «Там я уже на второй день почувствовал себя как дома. Кто-то предложил мне заняться бегом, и мы стали бегать вместе и подружились. Мы разговаривали не только о самых трудных задачах, но и о повседневных событиях. Мы почти что спустились на землю». В Висконсине он познакомился с молодой американкой; вскоре они поженились. Затем она заболела:
Я пытался скрыть от нее, что у нее рак и что никакой надежды на то, что она выживет, нет. Она лежала в больнице в Мадисоне, а потом поехала к своим родителям, и я поехал с нею, но я, конечно, не хотел оставаться у ее родителей, потому что на самом деле совсем их не знал. И я ненадолго уехал в Мичиган, в Анн-Арбор, а потом вернулся и увидел ее лежащей в постели в доме родителей. И тогда она сказала мне, по сути дела, что она знает, что скоро умрет. Она сказала: «Рассказать тебе, где наши чемоданы?» То есть во время этого разговора она уже все знала. Я пытался скрыть это от нее, потому что мне казалось, что довольно молодой женщине лучше не знать, что она обречена. Разумеется, все мы обречены[1196][1197].
В 1938 году он вернулся в Принстон: к тому времени этот университет смог более точно оценить его достоинства (Вигнер был чрезвычайно талантливым и уважаемым теоретиком; в 1963 году он стал одним из лауреатов Нобелевской премии за свою работу по строению ядра).
После прибытия Бора Сцилард также приехал из Нью-Йорка навестить больного друга и получил удивительное известие, которого так долго ждал:
Вигнер рассказал мне об открытии Гана. Ган обнаружил, что при поглощении нейтрона уран разваливается на две части… Когда я услышал об этом, я тут же понял, что эти фрагменты, поскольку они тяжелее, чем должны быть при таком заряде, должны испускать нейтроны, а если они испустят достаточное количество нейтронов… то тогда конечно же должна существовать возможность поддержания цепной реакции. Все то, что предсказывал Герберт Уэллс, внезапно показалось мне реальным[1198].
Прямо у постели Вигнера в принстонском лазарете два венгра стали обсуждать, что им следует делать.
Тем временем Бор отправил свою статью, написанную для Nature, Фришу в Копенгаген, прося его переслать ее по назначению, «если, как я надеюсь, статья Гана уже опубликована, а сообщение, написанное Вами и Вашей тетушкой, уже принято к печати». Он интересовался «последними известиями» в этой области и спрашивал, «как идут эксперименты»[1199]. В постскриптуме он добавил, что только что видел статью Гана и Штрассмана в Naturwissenschaften.
Идеи распространяются как вирусы. Инфекция деления ядра возникла в Далеме. Оттуда она распространилась в Стокгольм, в Кунгэльв и в Копенгаген. Бор и Розенфельд перевезли ее через Атлантику. Работавшие на той неделе в Принстоне два сотрудника Колумбийского университета, И. А. Раби и молодой теоретик Уиллис Юджин Лэмб – младший родом из Калифорнии, тоже узнали об этой новости: Лэмб, вероятно, от Уилера, а Раби – от самого Бора[1200]. Они вернулись в Нью-Йорк – «вероятно, в пятницу вечером»[1201], – считает Лэмб. Раби утверждает, что именно он рассказал Ферми[1202]. В 1954 году Ферми говорил, что это был Лэмб: «Как я помню, однажды днем Уиллис Лэмб вернулся в сильном возбуждении и сказал, что Бор разгласил очень важную новость»[1203]. Лэмб вспоминает, что «рассказывал об этом всем вокруг»[1204], но не помнит, говорил ли он именно Ферми. Возможно, оба они разговаривали с итальянским лауреатом с разницей в несколько часов; для него эта информация была еще более важной, чем для остальных физиков, потому что нобелевская лекция, прочитанная им всего месяц назад и еще не напечатанная, становилась теперь отчасти устаревшей и ставила его в неловкое положение. Ферми внес в ее пересмотренную редакцию всего одно примечание: «Открытие Гана и Штрассмана… делает необходимым повторное исследование всех проблем, связанных с трансурановыми элементами, так как многие из них могут оказаться продуктами расщепления урана»[1205]. Однако многие другие радиоактивные элементы, открытые им и его группой, а также совершенное им открытие медленных нейтронов все равно заслуживали Нобелевской премии.
Сцилард также надеялся поговорить с Ферми: «Я думал, что, если при распаде действительно испускаются нейтроны, это обстоятельство нужно сохранить в тайне от немцев. Поэтому я очень стремился связаться с Жолио и с Ферми, так как мне казалось, что именно эти двое скорее всего подумают о такой возможности». Он временно поселился в квартире Вигнера и еще не уехал из Принстона. «Однажды утром я проснулся и хотел выйти на улицу. Шел проливной дождь. Я сказал: “Господи, я же простужусь!” Потому что в это время, в первые годы жизни в Америке, стоило мне промокнуть, как я неизменно заболевал тяжелой простудой». Тем не менее выйти из дому ему пришлось. «Я промок и вернулся домой с высокой температурой, так что связаться с Ферми я не смог»[1206].
Несмотря на температуру, к 25 января – среде – Сцилард вернулся в Нью-Йорк, прочитал статью Гана и Штрассмана и написал Льюису Штраусу, покровительство которого в этот момент могло оказаться более важным, чем когда-либо:
Мне кажется, я должен сообщить Вам о чрезвычайно сенсационном новом событии в ядерной физике. В статье… Ган сообщает, что обнаружил разделение ядер урана при их бомбардировке нейтронами… Для среднего физика это совершенно неожиданная и потрясающая новость. Физический факультет Принстона, на котором я провел последние несколько дней, бурлит, как разворошенный муравейник.
Помимо чисто научного интереса в этом открытии может иметься еще один аспект, который, по-видимому, до сих пор не привлек к себе внимания тех, с кем я разговаривал. Во-первых, ясно, что в этой новой реакции должна высвобождаться энергия, чрезвычайно значительно превышающая то, что выделяется во всех ранее известных случаях… Уже это может открыть возможности производства ядерной энергии, но мне эта возможность не кажется очень интересной, так как… размеры вложений будут, вероятно, слишком велики, чтобы такой процесс можно было сделать целесообразным… Я вижу… возможности в другом направлении. Они могут привести к широкомасштабному производству энергии и радиоактивных элементов и, возможно, как это ни печально, атомных бомб. Это новое открытие возрождает все те надежды и страхи, которые я питал в 1934 и 1935 годах и практически оставил за последние два года. Сейчас я лежу с высокой температурой и не могу выйти из дому, но, возможно, смогу сообщить Вам больше об этих новых событиях в другой раз[1207].
В тот же день Ферми зашел в кабинет Джона Р. Даннинга, экспериментатора, работавшего в Колумбийском университете с нейтронами, и предложил ему провести эксперимент. Даннинг, его аспирант Герберт Андерсон и другие сотрудники университета построили в подвале Пьюпин-холла, расположенного в верхней части кампуса, за университетской библиотекой, современного тринадцатиэтажного высотного здания физического факультета, обращенного к центру Манхэттена, небольшой циклотрон. Циклотрон является мощным источником нейтронов; Ферми и Даннинг поговорили о возможности его использования для эксперимента, аналогичного эксперименту, который Фриш провел 13–14 января и о котором они еще не знали. Они обсудили организацию работы за обедом в преподавательском клубе университета и позже, снова вернувшись в Пьюпин-холл[1208].
Пока Ферми не было на месте, к нему в кабинет пришел Бор, хотевший сообщить ему то, что тому уже было известно. Найдя кабинет пустым, Бор спустился на лифте в подвал, в ускорительный отдел, где нашел Герберта Андерсона:
Он подошел прямо ко мне и взял меня за плечо. Бор никогда не читал нотации, он шептал на ухо. «Молодой человек, – сказал он, – позвольте мне рассказать вам об одной новой и увлекательной вещи в физике». После этого он рассказал мне о расщеплении ядра урана и о том, как естественно оно вписывается в модель жидкой капли. Я был совершенно очарован. Сам великий человек, массивный и впечатляющий, делился со мной своим восторгом, как будто ему было чрезвычайно важно, чтобы я узнал, что он хочет сказать[1209].
Бор уезжал в Вашингтон на конференцию по теоретической физике, которая должна была начаться на следующий день; он отправился на поезд, так и не повидавшись с Ферми. Как только он ушел, Андерсон разыскал итальянца, который к тому времени уже вернулся в свой кабинет. «Прежде чем я успел сказать хоть слово, – вспоминает Андерсон, – он дружелюбно улыбнулся и сказал: “Мне кажется, я знаю, о чем вы хотите мне рассказать. Давайте я объясню вам…” Должен сказать, что объяснение Ферми было даже еще более захватывающим, чем объяснение Бора»[1210].
Ферми помог Андерсону и Даннингу начать подготовку к эксперименту, который они с Даннингом обсуждали перед этим. Так совпало, что незадолго до того Андерсон собрал ионизационную камеру и линейный усилитель. «Оставалось только нанести слой урана на один из электродов и поместить его в камеру. В тот же день мы собрали всю установку на циклотроне. Но циклотрон в этот день работал плохо. Тогда я вспомнил про радон и бериллий, которые использовались в качестве источника нейтронов в предыдущих экспериментах. Это была удачная мысль»[1211]. Она, однако, пришла слишком поздно; Ферми тоже участвовал в Вашингтонской конференции, и ему пора было уезжать. Андерсон и Даннинг разошлись по домам.
Вашингтонская конференция по теоретической физике, проводившаяся в 1939 году в пятый раз, была изобретением Джорджа Гамова. Он потребовал ее учреждения в 1934 году в качестве одного из условий поступления на работу в Университет Джорджа Вашингтона. Он устроил ее по образцу ежегодных конференций, которые Бор проводил в Копенгагене; поскольку в Соединенных Штатах в то время не существовало сравнимых форумов, Вашингтонские конференции сразу стали пользоваться большим успехом. По настоянию Мерла Тьюва, друга детства Эрнеста Лоуренса и главного инициатора создания факультета земного магнетизма (ФЗМ) в вашингтонском Институте Карнеги, Институт Карнеги взял на себя совместное с Университетом Джорджа Вашингтона финансирование конференций, хотя оплачивали они очень скромные суммы, только на дорожные расходы и не более пяти или шести сотен долларов в год. Ученые приезжали на конференции, потому что им было интересно. Как вспоминает Эдвард Теллер, заседания были «обычно немногочисленными и увлекательными, совершенно захватывающими, но и немного утомительными. Каким-то образом Гамов перепоручил мне большую часть обязанностей по ведению конференций»[1212]. Они вдвоем попосту выбирали тему и составляли список приглашенных. Послушать выступления приходили толпы аспирантов. В этом году темой конференции была физика низких температур.
Вечером того же дня, как только Бор приехал в Вашингтон, он разыскал Гамова. Гамов, в свою очередь, позвонил Теллеру: «Только что пришел Бор. Он сошел с ума. Он говорит, что нейтрон может расщеплять уран». Теллер подумал о римских экспериментах Ферми и той неразберихе радиоактивных элементов, которая в них получалась, и «внезапно понял очевидное»[1213]. Приехавший в Вашингтон Ферми, к своему разочарованию, узнал от Бора, что Фриш, по-видимому, уже провел эксперимент, подобный тому, который он оставил незавершенным в Колумбийском университете. «Ферми… до этого понятия не имел, что Фриш выполнил этот эксперимент, – писал Бор Маргрете несколько дней спустя. – Я не имел права мешать другим ставить эксперименты, но я подчеркнул, что Фриш также говорил об эксперименте в своих записках. Я сказал, что сам виноват в том, что все они услышали об объяснении Фриша и Мейтнер, и настоятельно просил их подождать [с публичным объявлением результатов], пока я не получу экземпляра статьи Фриша в Nature, который, как я надеялся, должен был ждать меня в Принстоне [по возвращении с конференции]»[1214]. Ферми, по-видимому, возражал против дальнейших задержек – и его можно было понять.
Тем же вечером Герберт Андерсон вернулся в подвал Пьюпин-холла[1215]. Он достал свой нейтронный источник. Он рассчитал, сколько альфа-частиц должен самопроизвольно испускать в нормальном процессе альфа-распада слой оксида урана, нанесенный на металлическую пластину, помещенную в ионизационную камеру: три тысячи в минуту. Он вычислил вероятность одновременного появления десяти таких альфа-частиц, что дало бы нетипичный высокоэнергетический выброс сканирующего пучка осциллографа: «практически никогда», записал он в своем лабораторном журнале.
Чуть позже 9 вечера он установил нейтронный источник рядом с ионизационной камерой и стал наблюдать за эффектами, отражающимися на осциллографе. «Большинство выбросов связаны с -част[ицами] с пробегом 0,4 см [и энергией около] 0,65 МэВ», – отметил он. А затем он увидел то, что искал: «Начались крупные выбросы, появляющиеся с малой частотой, около 1 раза в 2 минуты». Он засек время и стал их подсчитывать. За 60 минут он насчитал 33 крупных выброса. Он убрал нейтронный источник. «За 20 мин. [без нейтронного источника], – записал он, – 0 событий». Ядерный распад впервые наблюдался западнее Копенгагена.
Как вспоминает Андерсон, Даннинг пришел позже и «был очень взволнован результатом, который я получил». Андерсон думал, что Даннинг сразу же пошлет телеграмму Ферми, но тот, по-видимому, этого не сделал[1216]. Фриш, как он впоследствии объяснял Бору, не послал по телеграфу подтверждения своего копенгагенского эксперимента, потому что оно казалось ему «всего лишь дополнительным подтверждением уже сделанного открытия», и «мне казалось, что беспокоить вас телеграммой было бы нескромно». Возможно, несмотря на возбуждение, в которое пришел Даннинг, увидев новое явление собственными глазами, он думал так же.
Проснувшись, Бор оказался все перед той же дилеммой. Конференция начиналась в два часа. Всего за три дня до этого он снова написал Фришу, упрекая его за то, что тот не прислал копию своей с Мейтнер статьи для Nature[1217]. Но сейчас эта задержка беспокоила его меньше – если беспокоила вообще, – чем сохранение приоритета эксперимента Фриша. Он неохотно, но согласился на публичное объявление об открытии, подчеркнув, как он писал впоследствии Фришу, «что никакое публичное изложение… не будет правомерным без упоминания оригинальной интерпретации результатов Гана, принадлежащей Вам и Вашей тетушке»[1218].
На пятой Вашингтонской конференции для общей фотографии позировал пятьдесят один участник[1219], и даже по неполному перечню их имен видно, каким престижем пользовалось это мероприятие. Там были Отто Штерн, Ферми, Бор, Гарольд Юри из Колумбийского университета, получивший Нобелевскую премию по химии за 1934 год за выделение тяжелой формы водорода, дейтерия, ядро которого содержит нейтрон; желчный, но вдохновенный теоретик Грегори Брейт, Раби, Джордж Уленбек, работавший тогда в Колумбийском университете, а до того бывший ассистентом Пауля Эренфеста, Гамов, Теллер, Ханс Бете, приехавший из Корнелла, Леон Розенфельд, Мерл Тьюв. Заметно было отсутствие ученых с Западного побережья, вероятно связанное с тем, что две организации-спонсора решили не финансировать столь дальние переезды.
Гамов открыл заседание, представив собравшимся Бора[1220]. Его новость наэлектризовала аудиторию. Один молодой физик, наблюдавший из задней части зала, сразу увидел возможность приложения этого открытия. Принстонский выпускник Ричард Б. Робертс работал вместе с Тьювом на факультете земного магнетизма, экспериментальном отделении Института Карнеги, расположенном в похожем на парк столичном предместье Чеви-Чейз. Робертс – худой, энергичный, с волевой челюстью и вьющимися темными волосами – так же ясно вспоминал эти события в наброске автобиографии, написанном в 1979 году:
Темой Конференции по теорфизике 1939 года была физика низких температур, и мне не особенно хотелось на нее идти. Однако я пришел и сел в заднем ряду аудитории… Появились Бор и Ферми, и Бор стал рассказывать об экспериментах Гана и Штрассмана… Он рассказал также об интерпретации Мейтнер, предполагавшей, что происходит расщепление урана. Как обычно, он мямлил и запинался, так что в его выступлении не было почти ничего, кроме голых фактов. Затем слово взял Ферми и сделал доклад со свойственным ему изяществом, в том числе рассказав и обо всех возможных следствиях[1221].
В понедельник после окончания конференции Робертс отмечал в письме к отцу, что «Ферми также… описал очевидный эксперимент, позволяющий проверить теорию» – эксперимент Фриша, эксперимент Ферми, Даннинга и Андерсона. «Особенно замечательно то, что эта реакция приводит к высвобождению 200 миллионов вольт энергии и возвращает возможность создания атомной энергетики»[1222].
Бор называл образующиеся при делении фрагменты «отщепенцами»[1223]. В течение некоторого времени все использовали его комический термин. Рядом с Робертсом сидел Лоуренс Р. Хафстад, давний сотрудник Тьюва. Когда Ферми закончил свое выступление, они переглянулись, встали, вышли из зала и поспешили на ФЗМ. Если из урана выделялись «отщепенцы», эти двое были твердо намерены увидеть их первыми.
В тот же день Сцилард с трудом дотащился до ближайшего отделения «Вестерн Юнион» в Нью-Йорке и отправил в британское Адмиралтейство телеграмму:
ПРОШУ НЕ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ МОЕ НЕДАВНЕЕ ПИСЬМО ТЧК ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМОМ[1224]
Засекреченный патент вернулся к жизни.
Очередной номер Naturwissenschaften пришел в Париж около 16 января. Один из сотрудников Фредерика Жолио вспоминает, что «[Жолио] рассказал об этом результате мадам Жолио и мне на довольно трогательном совещании через несколько дней, в течение которых он сидел запершись и ни с кем не разговаривал»[1225]. Супруги Жолио-Кюри еще раз с ужасом обнаружили, что им было рукой подать до крупного открытия, которое они упустили. Уже через несколько дней, как и предполагал Сцилард, Жолио самостоятельно пришел к выводу о высвобождении большого количества энергии и стал рассматривать возможность возникновения цепной реакции. Сначала он попытался зарегистриовать нейтроны, образующиеся при делении, нашел этот подход затрудненным и затем разработал эксперимент, довольно похожий на эксперимент Фриша. 26 января ему удалось обнаружить фрагменты, получающиеся при делении ядра[1226].
Самым новым зданием на территории ФЗМ была Атомно-физическая обсерватория (АФО), рабочее оборудование которой было включено всего две недели назад: это был новый вакуумный генератор Ван де Граафа на 5 мегавольт, который Тьюв, Робертс и их коллеги построили за 51 000 долларов для развития своих исследований строения ядра. Генератор был назван по имени изобретшего его физика из Алабамы, но Тьюву – в 1932 году – первому удалось практически использовать его в эксперименте. По сути дела, генератор Ван де Граафа представляет собой гигантский электростатический генератор, с изолированной кольцевой лентой, которую вращает на шкивах мотор. Лента забирает ионы с игольчатых электродов, установленных на металлическом основании генератора, перемещает их вверх через изолированный несущий цилиндр в гладкую металлическую накопительную сферу и оставляет на сфере. По мере накопления ионов потенциал сферы увеличивается. Накопленное напряжение может быть сброшено через искровой разряд – подобные молниям разряды генераторов Ван дер Граафа стали центральным элементом фильмов про безумных ученых – или использовано для питания ускорительной трубки. Новый аппарат был установлен внутри вакуумного резервуара размером с бак водонапорной башни, чтобы уменьшить вероятность непреднамеренного возникновения искр.
Когда Тьюв предложил земельной комиссии состоятельного района Чеви-Чейз проект строительства генератора Ван де Граафа, комиссия ответила отказом. Столкновения атомов отдавали чем-то промышленным, а району нужно было заботиться о поддержании цен на недвижимость. Тьюв заметил, какой популярностью пользуется Военно-морская обсерватория, расположенная в нескольких километрах к югу, по другую сторону от Коннектикут-авеню, и переименовал новое здание в Атомно-физическую обсерваторию (каковой оно и было). Под этим названием проект был утвержден[1227].
Робертс и Хафстад решили работать в АФО. Сперва они собирались использовать для производства нейтронов в своем эксперименте с «отщепенцами» старый генератор Ван де Граафа на 1 МВ, установленный в соседнем здании, но нить ионного источника этой установки оказалась выгоревшей. Хотя в вакуумной ускорительной трубе АФО была течь, поиски этой течи казались делом менее трудоемким, чем замена нити. Они заняли два дня. В пятницу вечером Хафстад уехал на выходные кататься на лыжах, и его место занял еще один молодой ученик Тьюва, Р. Ч. Мейер.
Записи в лабораторном журнале Робертса дают сводку работы, которая была проделана в субботу:
Суб., 16:30 Настроили ионизационную камеру для попытки обнаружения
Нейтроны из Li + D [бомбардировки лития ускоренными ядрами дейтерия}
…
В ИК с ураном наблюдали [около] 1–2 мм и редкими выбросами до 35 мм (Ba + Kr?)[1228]
Мишенная комната АФО представляла собой маленькое круглое подвальное помещение, в которое нужно было спускаться по железной лестнице, прохладную киву[1229], которая приятно пахла машинным маслом. Как только Робертс увидел «огромные импульсы, соответствующие высвобождению очень большой энергии»[1230], они с Мейером провели все проверки, какие только смогли придумать. «Мы сразу же проверили, как действует парафин (замедляющий нейтроны), затем испытали кадмий, чтобы убрать медленные нейтроны. Мы также проверили все остальные имевшиеся тяжелые элементы [чтобы узнать, способны ли они к расщеплению] и обнаружили то же самое [т. е. распад] в тории»[1231]. Совершив это оригинальное открытие (Фриш независимо от них еще раньше получил его в Копенгагене), они сделали перерыв, чтобы поесть. «После ужина я рассказал о результатах Тьюву, он сразу позвонил Бору и Ферми, и в субботу ночью они приехали к нам»[1232].
Приехали не только Бор и Ферми (Ферми был в плотном темном костюме-тройке в тонкую полоску, еще смуглее, чем обычно, из-за суточной щетины), но и Тьюв, Розенфельд, Теллер, красавец Эрик Бор в тяжелом пальто поверх узорчатого датского свитера, Грегори Брейт, очки которого придавали ему сходство с совой, и Джон А. Флеминг, консервативно настроенный директор ФЗМ, которому хватило присутствия духа привезти с собой фотографа. Все кроме Теллера позировали в мишенной комнате с Мейером и Робертсом для исторической фотографии[1233]. На ионизационной камере, видной на переднем плане, сложены стопкой парафиновые диски; Бор держит в руке окурок сигары, которую он курил после ужина; в улыбке Ферми виден зазор между передними зубами, оставленный поздно выпавшим молочным зубом; Робертс смотрит в камеру с видом усталым, но довольным. Ферми был поражен видом ионизационных импульсов на осциллографе[1234] и настоял, чтобы оборудование проверили на наличие неисправностей: в Риме он никогда не видел таких импульсов (они блокировались алюминиевой фольгой, в которую Амальди заворачивал уран, чтобы избавиться от фонового альфа-излучения). Бор по-прежнему нервничал. «Я вынужден был стоять и смотреть на первый [sic] эксперимент, – писал он Маргрете, – не зная точно, провел ли Фриш такой же эксперимент и послал ли он статью в Nature»[1235]. Вернувшись в воскресенье в Принстон, он узнал из других писем от родственников, что Фриш все это сделал. «За этим, – пишет в заключение Робертс, – последовали несколько дней радостного возбуждения, заявлений для прессы и телефонных звонков»[1236].
На конференции был научный журналист Томас Генри; его статья появилась в газете Washington Evening Star в субботу днем. Ее распространило агентство Associated Press. В сокращенном виде она была напечатана на внутренней полосе воскресного номера New York Times. Там ее мог прочитать Даннинг; тем же утром он наконец послал Ферми телеграмму с сообщением об эксперименте, проведенном в Колумбийском университете. Как вспоминает Герберт Андерсон, «Ферми… поспешил в университет и сразу же вызвал меня к себе в кабинет. В моей записной книжке перечислены эксперименты, которые, по его мнению, нужно было провести немедленно. Эта запись датирована 29 января 1939 года»[1237]. Еще раньше они договорились, как говорит Андерсон, что «я буду учить его американской жизни, а он меня – физике»[1238]. И те и другие уроки начались всерьез.
Газета San Francisco Chronicle перепечатала материал, распространявшийся телеграфным агентством. Луис У. Альварес, ученик Эрнеста Лоуренса, высокий, с белыми как снег волосами, будущий нобелевский лауреат, отец которого был известным врачом в клинике Майо, прочитал ее в Беркли, сидя в парикмахерском кресле во время стрижки. «[Я] велел парикмахеру прекратить стрижку, выскочил из кресла и побежал со всех ног в Радиационную лабораторию… в которой мой студент Фил Абельсон… [пытался определить, ] какие трансурановые элементы получаются при попадании нейтрона в уран. Он был настолько близок к открытию деления, что его почти что было жалко»[1239]. Абельсон до сих пор помнит этот болезненный момент: «Около половины десятого утра я услышал за дверью топот бегущих ног, и сразу после этого в лабораторию ворвался Альварес… Когда [он] сообщил мне новости, я практически оцепенел, поняв, что я был очень близок к великому открытию, но упустил его… Мое оцепенене продолжалось почти сутки, в течение которых я мало что мог делать. На следующее утро я вернулся в норму и уже разработал план дальнейших действий»[1240]. К концу дня Абельсон обнаружил йод, получающийся в результате распада теллура, образованного при облучении урана, – другой вариант расщепления ядра (т. е. теллур 52 + цирконий 40 = уран 92).
Альварес послал Гамову телеграмму с требованием подробностей, узнал об эксперименте Фриша, а затем разыскал Оппенгеймера:
Я помню, как сказал Роберту Оппенгеймеру, что мы будем искать [ионизационные импульсы, порожденные делением], и он сказал: «Это невозможно» и привел множество теоретических причин, по которым деления быть не может. Позднее, когда я пригласил его посмотреть на осциллограф, когда он увидел большие импульсы, то, я бы сказал, не прошло и пятнадцати минут, как Роберт решил, что этот эффект действительно существует, и… решил, что в ходе реакции, вероятно, должны вылетать нейтроны, и это позволяет создавать бомбы и генерировать энергию – и все это всего за несколько минут… Поражало, как быстро работает его мозг, причем его выводы были совершенно правильными[1241].
В следующую субботу Оппенгеймер писал об этом открытии в Калтех своему другу; он обрисовал в этом письме эксперименты, которые провели за последнюю неделю Альварес и другие, и рассуждал о возможных применениях открытия:
История с ураном невероятна. Мы узнали о ней из газет, запросили по телеграфу подробности и получили с тех пор множество отчетов… Сколькими разными способами может разделиться уран? Происходит ли это случайным образом, как можно было бы предположить, или только некоторыми определенными способами? И самое главное, много ли нейтронов вылетает во время расщепления или из возбужденных фрагментов? Если их много, то десяток кубических сантиметров дейтерида урана (дейтерий [тяжелый водород] понадобится для их замедления без захвата) должен быть вещью совершенно особенной. Что Вы об этом думаете? Мне кажется, что это представляет очень большой интерес – и не отвлеченный, как позитроны и мезотроны, а честный, солидный, практический интерес[1242].
На следующий день, в письме в Колумбийский университет к Джорджу Уленбеку, «совершенно особенное» превратилось в «способное взорваться к чертовой матери»[1243]. Один из учеников Оппенгеймера, американский физик-теоретик Филипп Моррисон, вспоминает, что «когда был открыт распад, приблизительно через неделю на доске в кабинете Роберта Оппенгеймера появился чертеж – очень плохой, просто ужасный чертеж – бомбы»[1244].
Сходным образом оценивал ситуацию и Энрико Ферми. Джордж Уленбек, работавший в одном кабинете с ним в Пьюпин-холле, однажды подслушал его слова. Ферми стоял перед панорамным окном своего кабинета в высотном здании физического факультета, глядя на расстилавшийся внизу серый зимний Манхэттен, улицы которого были забиты торговцами, такси и пешеходами. Он сложил ладони так, как будто держал в них мячик. «Вот такая маленькая бомбочка, – сказал он просто, без своей обычной легкой насмешливости, – и все это исчезнет»[1245].
Часть II
Своеобразный суверенитет
Манхэттенский округ никак не был связан с промышленной или общественной жизнью нашей страны; он был отдельным государством со своими собственными самолетами, собственными фабриками и тысячами своих государственных тайн. Он обладал своеобразным суверенитетом, который мог, мирным или насильственным путем, положить конец всем остальным суверенитетам.
Герберт С. Маркс
Нам должно быть интересно узнать, как появление такого множества объектов – сотен электростанций, тысяч бомб, государственных учреждений, собравших десятки тысяч человек, – связано лишь с несколькими людьми, которые сидели за лабораторными столами и обсуждали необычное поведение атомов одного типа.
Спенсер Р. Уирт
10
Нейтроны
В конце января 1939 года, все еще не оправившись от простуды, которая продержала его в постели более недели, но полный решимости предотвратить попадание информации о возможности цепной реакции к физикам нацистской Германии, Лео Сцилард поднялся со своей кровати в гостинице «Кингз Краун» на Западной 116-й улице Манхэттена и отправился в зимний Нью-Йорк, чтобы посоветоваться со своим другом Исидором Айзеком Раби[1246]. Раби, который в 1944-м станет лауреатом Нобелевской премии по физике, был ростом не выше Сциларда, но всегда более подтянутым и спокойным. Он родился в 1898 году в Галиции и эмигрировал со своей семьей в Соединенные Штаты еще в раннем детстве. Его родным языком был идиш; он вырос в нью-йоркском Нижнем Ист-Сайде, где его отец работал в каторжных условиях в швейной мастерской, шившей дамские блузки, пока не накопил достаточно денег, чтобы открыть собственную бакалейную лавку. Поскольку семья Раби исповедовала ортодоксальный, фундаменталистский иудаизм, он не знал, что Земля вращается вокруг Солнца, пока не прочитал об этом в библиотечной книге. Пугающее зрелище огромного желтого лика восходящей Луны, которое он видел ребенком на нью-йоркской улице, вместе с прочитанными в детстве космологическими начальными стихами Книги Бытия вызвало в нем интерес к науке. Он отличался прямой и резкой искренностью и не терпел глупости. Несомненно, одной из причин его нетерпеливости было то, что она защищала его глубоко эмоциональную приверженность науке: как он сказал своему биографу уже в немолодом возрасте, он считал науку «бесконечной»[1247] и был недоволен тем, что молодые физики этого, более позднего, времени, увлекаясь техникой, по-видимому, не обращали внимания на то, что находил в науке он сам, «ее тайну: насколько она отличается от того, что мы видим, и насколько глубока природа»[1248].
Сцилард узнал от Раби[1249], что в своем выступлении на пятой Вашингтонской конференции по теоретической физике, проходившей за неделю до того, Энрико Ферми говорил о возможности цепной реакции. Сцилард зашел в кабинет Ферми, но не застал его. Он вернулся к Раби и попросил его поговорить с Ферми «и сказать ему, что эти вещи следует держать в тайне». Раби согласился, и Сцилард, все еще больной, вернулся в постель.
Дело шло на поправку; пару дней спустя он снова разыскал Раби:
Я спросил его: «Вы поговорили с Ферми?» Раби сказал: «Да, поговорил». Я спросил: «И что сказал Ферми?» Раби сказал: «Ферми сказал “Чушь!”» Тогда я спросил: «Почему Ферми сказал “Чушь!”?» и Раби сказал: «Ну, не знаю, но он сейчас тут, и мы можем спросить у него самого». Тогда мы пошли в кабинет Ферми, и Раби сказал Ферми: «Слушайте, Ферми, я рассказал вам, что думает Сцилард, и вы сказали “Чушь!”. Так вот, Сцилард хочет знать, почему вы сказали “Чушь!”». И Ферми сказал: «Ну… существует отдаленная возможность испускания нейтронов при делении урана, и тогда, конечно, может быть, может возникнуть цепная реакция». Раби сказал: «Что вы называете “отдаленной возможностью”?» и Ферми сказал: «Ну, десять процентов». Раби сказал: «Десять процентов – это не отдаленная возможность, если эта возможность может нас убить. Если я заболею пневмонией и доктор скажет мне, что существует отдаленная возможность, что я умру, и она равна десяти процентам, меня это очень встревожит»[1250].
Однако, несмотря на мастерство Ферми по части американского сленга, а Раби – по части вероятностей, Ферми и Сцилард не смогли прийти к общему мнению. Пока что их спор на этом и прекратился.
Ферми не пытался ввести Сциларда в заблуждение. Оценить взрывчатую силу определенного количества урана, как это сделал Ферми, стоя у окна своего кабинета перед панорамой Манхэттена, было легко, если бы деление начиналось автоматически при накоплении этого вещества; такой простой расчет был по силам даже журналистам. Но с ураном в его естественном виде этого, очевидно, не происходило – иначе это вещество давно исчезло бы с лица земли. Хотя реакция представляла огромный интерес с энергетической точки зрения, сам процесс деления оставался всего лишь лабораторной диковинкой. Он мог бы стать полезным, только если бы в нем выделялись вторичные нейтроны, причем в количестве, достаточном для запуска и поддержания цепной реакции. «Ничто из известного на тот момент, – пишет Герберт Андерсон, младший сотрудник Ферми, выполнявший эти эксперименты, – не гарантировало испускания нейтронов. Испускание нейтронов должно было быть подтверждено на опыте и численно измерено»[1251]. К тому времени такие работы еще не были выполнены. Собственно говоря, именно такую новую работу Ферми предложил провести Андерсону сразу по возвращении из Вашингтона. Таким образом, с точки зрения Ферми любые разговоры о создании военного оружия на основе деления ядер были преждевременными до бессмысленности.
Много лет спустя Сцилард нашел лаконичную формулировку различий, существовавших между его точкой зрения и позицией Ферми. «С самого начала возник четкий раздел, – сказал он. – <…> Ферми считал, что осторожная оценка ситуации должна допускать лишь малую вероятность возникновения цепной реакции, а я считал, что с осторожной точки зрения следует предполагать, что цепная реакция возникнет, и принять все необходимые меры предосторожности»[1252].
После выздоровления у Сциларда оказалось много несделанных дел. Он отправил в Оксфорд телеграмму с просьбой прислать ему цилиндр бериллия, который он оставил в Кларендонской лаборатории, когда уезжал в Соединенные Штаты: он был ему необходим для проведения своего собственного эксперимента по испусканию нейтронов. По просьбе Льюиса Штрауса[1253] он провел с финансистом целый день за обсуждением возможных последствий открытия деления, в число которых, как отмечает с печалью Штраус в своих воспоминаниях, входило и то, что «работа нашего импульсного генератора в Пасадине потеряла смысл. Строительство этой установки было завершено непосредственно перед этим»[1254]. Импульсный генератор, в который Штраус вложил десятки тысяч долларов, грубо поставили на место. Тем же вечером Штраусы должны были уехать ночным поездом отдыхать в Палм-Бич; Сцилард поехал с ними до Вашингтона, чтобы продолжить разговор по дороге. Он старательно обхаживал своего покровителя: помимо бериллия для создания источника нейтронов ему нужно было взять напрокат радий, и он надеялся уговорить Штрауса взять на себя соответствующие расходы.
Приехав поздним вечером на вашингтонский вокзал Юнион-Стейшн, Сцилард позвонил Эдварду Теллеру. Его семейство все еще приходило в себя после хлопот по организации Вашингтонской конференции. Как вспоминает Теллер, его жена Мици не хотела принимать нежданного гостя: «Нет! Мы оба слишком устали. Пусть едет в гостиницу». Тем не менее они встретились со Сцилардом, и Мици, к удивлению Теллера, пригласила земляка пожить у них:
Мы поехали домой, и я провел Сциларда в его комнату. Он недоверчиво пощупал кровать, а затем внезапно повернулся ко мне и спросил: «Нет ли тут поблизости гостиницы?» Гостиница поблизости была, и он продолжал: «Отлично! Я только что вспомнил, что уже спал на этой кровати. Она слишком жесткая».
Однако прежде, чем уйти, он сел на край жесткой кровати и возбужденно спросил: «Вы слушали доклад Бора о делении?»
«Да», – ответил я.
Сцилард продолжал: «Вы понимаете, что это значит!»
Как вспоминает Теллер, по мнению Сциларда, это означало, что «от этого может зависеть успех Гитлера»[1255].
На следующий день Сцилард обсудил с Теллером свой план добровольной секретности, а затем отправился в Принстон, чтобы поговорить на ту же тему с Юджином Вигнером, который все еще оставался в лазарете со своей желтухой. Таким образом, Сцилард был в Принстоне, когда Нильса Бора посетило еще одно важнейшее озарение.
Бор и Леон Розенфельд жили в «Нассау-Клабе», клубе преподавателей Принстона. В воскресенье 5 января к ним присоединился за завтраком в столовой клуба Георг Плачек. Чешский теоретик, бежавший, как и многие другие, от преследований нацистов, приехал в Принстон из Копенгагена накануне вечером. Разговор зашел о делении. Как вспоминает Розенфельд, Бор сказал: «Хорошо, что мы наконец избавились от всех этих трансуранов», имея в виду те загадочные радиоактивные элементы, которые Ган, Мейтнер и Штрассман нашли в конце 1930-х годов и которые, по мнению Бора, теперь можно было идентифицировать с уже существующими легкими элементами – барием, лантаном и многими другими продуктами деления, которые начинали распознавать исследователи.
Плачек был настроен скептически. «Ситуация стала еще более непонятной, чем когда-либо раньше»[1256], – сказал он Бору. После этого он начал описывать конкретные причины такой неясности. Он прямо ставил под сомнение применимость модели ядра как жидкой капли, которую использовал Бор. Датский лауреат внимательно слушал.
Физики используют для описания вероятности возникновения ядерных реакций условную величину, которую они называют «сечением». Физик-теоретик Рудольф Пайерлс однажды объяснил суть этой величины, используя следующую аналогию:
Например, допустим, что, если я брошу мяч в оконное стекло площадью один квадратный метр, в одном случае из десяти стекло разобьется, а в девяти случаях из десяти мяч просто отскочит от него. Физики сказали бы, что при данном конкретном способе бросания мяча данное конкретное окно имеет «сечение распада», равное 1/10 квадратного метра, и «сечение упругого отражения», равное 9/10 квадратного метра[1257].
Сечение многих разных ядерных реакций можно измерить, и измеряют его обычно не квадратными метрами, а малыми долями квадратного сантиметра, чаще всего 10–24, поскольку окном из аналогии Пайерлса становится невообразимо малое атомное ядро[1258]. В разговоре с Бором Плачека занимало сечение реакции захвата: вероятность того, что налетающий нейтрон будет захвачен ядром. Снова вернувшись к аналогии Пайерлса, можно сказать, что сечение захвата определяет вероятность того, что к моменту прилета мяча окно окажется открытым, и мяч может пролететь сквозь окно в гостиную.
Ядра захватывают нейтроны с некоторыми энергиями чаще, чем нейтроны с другими энергиями. Они, так сказать, естественно настроены на определенные уровни энергии – как если бы окно Пайерлса легко открывалось только при попадании в него мячей, летящих с определенными скоростями. Это явление называют резонансом. Неясность, о которой с таким удовольствием рассказывал Плачек, касалась резонансов в сечениях захвата нейтронов ядрами урана и тория.
Плачек отметил, что и для урана, и для тория обнаруживается резонанс захвата нейтронов со средними энергиями около 25 электрон-вольт. Прежде всего это означало, что, хотя деление и является одним из возможных вариантов поведения урана при бомбардировке нейтронами, захват нейтронов и последующее преобразование по-прежнему остаются другим вариантом. Надежды на избавление от всех этих неудобных «трансуранов» у Бора не было. Некоторые из них были реальными.
Например, проникновение нейтрона в ядро урана может привести к его делению. Но, если на момент такого проникновения нейтрон имеет соответствующую энергю – где-то в районе 25 эВ, – высока вероятность того, что ядро захватит его без деления. Затем произойдет бета-распад, в результате которого заряд ядра увеличится на одну единицу; в результате получится новый, еще не имеющий названия трансурановый элемент с атомным номером 93. Таково было одно из ключевых утверждений Плачека. Впоследствии оказалось, что оно имело жизненно важное значение.
Другая неясность была проще. Кроме того, она была более непосредственно связана с вопросом о возможности практического использования ядерной энергии. Речь шла о различиях между ураном и торием.
Торий, элемент номер 90, – это мягкий, тяжелый, блестящий серебристо-белый металл, который впервые выделил в 1828 году прославленный шведский химик Йёнс Якоб Берцелиус. Берцелиус назвал новый элемент в честь Тора, скандинавского бога-громовержца. Начиная с конца XIX века оксид тория нашел промышленное применение в качестве основного компонента хрупких калильных сеток газовых фонарей – при нагревании он светится ослепительно-белым светом. Поскольку торий обладает небольшой радиоактивностью, а одно время считалось, что радиоактивность оказывает тонизирующее воздействие, в течение нескольких лет торий входил в состав популярной немецкой зубной пасты «Дорамад». Эту зубную пасту выпускала компания Auer – та же, которая производила и немецкие газовые фонари. Ган, Мейтнер и Штрассман, так же как Жолио-Кюри и другие, регулярно исследовали торий вместе с ураном. Их поведение часто бывало схожим. Отто Фриш первым продемонстрировал деление тория. Он бомбардировал его нейтронами сразу после урана в эксперименте, который проводил в Копенгагене в январе, – том самом эксперименте, который он обсуждал с Бором после возвращения из Кунгэльва и защита которого стоила Бору стольких усилий в Соединенных Штатах.
Именно Фриш первым заметил и различия в характеристиках деления тория и урана. На торий не действовала магия парафина; замедление нейтронов на него не влияло. Ричард Б. Робертс и его коллеги по факультету земного магнетизма вашингтонского Института Карнеги независимо подтвердили и дополнили данные Фриша. Их 5-мегавольтовый генератор Ван де Граафа позволял получать нейтроны с несколькими разными известными энергиями. Продолжая свои эксперименты после демонстрации, устроенной в субботу вечером для участников Вашингтонской конференции, они сравнили деление урана и тория при разных энергиях, чего Фриш, имевший один-единственный источник нейтронов, сделать не мог. К своему удивлению (статья Фриша в Nature еще не вышла), они обнаружили, что, хотя бомбардировка быстрыми нейтронами вызывает деление как урана, так и тория, при бомбардировке медленными нейтронами делится только уран. Нижний порог деления быстрыми нейтронами для обоих элементов находился где-то между 0,5 и 2,5 МэВ. Бор и Джон Уилер, начинавшие разрабатывать теорию деления в Принстоне, оценили пороговую энергию величиной, близкой к 1 МэВ. Медленные нейтроны, вызывавшие деление урана, действовали при гораздо более низких энергиях. «Из этих сравнений, – говорилось в выводах группы с ФЗМ, опубликованных в их февральской статье, – по-видимому, следует, что деление урана быстрыми и медленными нейтронами вызывается разными механизмами»[1259].
Почему же, спрашивал теперь Плачек Бора, уран и торий имеют близкие резонансы захвата и близкие пороги деления быстрыми нейтронами, но по-разному реагируют на медленные нейтроны? Если модель жидкой капли была хоть сколько-нибудь верна, такое различие никак нельзя было объяснить.
Бор внезапно понял причину и оцепенел. Чтобы не потерять то озарение, которое только что его посетило, он, забыв всякую вежливость, вскочил со стула и ринулся прочь из столовой и из клуба. Розенфельд устремился за ним. «Поспешно попрощавшись с Плачеком, я догнал Бора, который шел молча, погруженный в глубокие размышления, которым я старался не помешать». В полном молчании они прошли через заснеженный принстонский кампус в Файн-холл, кирпичное неоготическое здание, в котором размещался тогда Институт перспективных исследований. Они пришли в кабинет Бора, который одолжил ему Альберт Эйнштейн. Это было просторное помещение с витражными окнами, камином, большой классной доской и восточным ковром, покрывавшим холодный пол. Эйнштейн, в отличие от Бора не склонный к кочевому образу жизни, нашел его слишком большим и переехал в расположенную поблизости маленькую секретарскую комнату.
«Как только мы вошли в кабинет, – вспоминает Розенфельд, – [Бор] бросился к доске, сказав мне: “Слушайте, я все понял”. И начал – опять же не говоря ни слова – чертить на доске графики»[1260].
Первый график, который нарисовал Бор, выглядел так:
Торий
По горизонтальной оси была отложена энергия нейтронов, увеличивающаяся слева направо – от медленных к быстрым. По вертикальной оси было отложено сечение – вероятность возникновения конкретной ядерной реакции; кривая изображала сразу два процесса. Участок в виде опрокинутой буквы «S», занимающий большую часть графика, соответствует сечению захвата торием нейтронов с разными энергиями; его крутой центральный пик иллюстрирует резонанс в области средних энергий, около 25 эВ. А хвост, поднимающийся от горизонтальной оси в правой части графика, изображает другое сечение: сечение деления тория, начинающегося при более высоких энергиях, превышающих порог в 1 МэВ. Таким образом, Бор изобразил изменяющуюся реакцию тория на бомбардировку нейтронами по мере возрастания их энергии.
Переместившись к другой части доски, Бор нарисовал второй график. Он пометил его массовым числом изотопа, наиболее часто встречающегося в природном уране. «Он записал массовое число 238 очень крупными цифрами, – говорит Розенфельд, – сломав в процессе несколько кусков мела»[1261]. Спешка, в которой Бор чертил этот график, отражала приближение к сути озарившей его идеи. Второй график выглядел в точности так же, как первый:
Но затем появился третий график.
Когда Фрэнсис Астон впервые пропустил уран через свой масс-спектрограф в Кавендишской лаборатории, он нашел только 238U. В 1935 году, используя более совершенный прибор, физик Артур Джеффри Демпстер из Чикагского университета обнаружил второй, более легкий изотоп. «Оказалось, – заявил Демпстер в одной из своих лекций, – что для основного компонента 238, о котором сообщал д-р Астон, достаточно выдержки в несколько секунд, но при более долгой выдержке также обнаруживается присутствие менее распространенного компонента с массовым числом 235»[1262]. Три года спустя одаренный молодой научный сотрудник Гарварда Альфред Отто Карл Нир, происходивший из рабочей семьи, эмигрировавшей из Германии в Миннесоту, определил, что отношение количеств 235U и 238U в природном уране равно 1:139, то есть содержание 235U составляет около 0,7 %[1263]. Торий же в своей природной форме состоит, по сути дела, только из одного изотопа, 232Th. Именно эта естественная разница между составами двух элементов навела Бора на размышления. Он начертил третий график. На нем он изобразил одно сечение, а не два:
Зафиксировав таким образом свое внезапное озарение, Бор наконец был готов объясниться.
Исходя из теоретических оснований, можно ожидать, что торий и 238U будут вести себя сходным образом, сказал он Розенфельду: делиться только под воздействием быстрых нейтронов с энергией свыше 1 МэВ. По-видимому, так оно и есть. Остается 235U. Логично предположить, торжествующе сказал Бор, что за деление медленными нейтронами отвечает именно 235U. В этом и состояла суть его наития.
Он продолжил рассматривать тонкости энергетики этих реакций. Торий легче, чем 235U, 238U тяжелее, но средний по массе изотоп отличается от двух других и в другом важном отношении. Когда 232Th поглощает нейтрон, он превращается в ядро с нечетным массовым числом, 233Th. Когда нейтрон поглощает 238U, он тоже становится ядром с нечетным массовым числом, 239U. Но при поглощении нейтрона ядром 235U получается ядро с четным массовым числом, 236U. А превратности строения ядра таковы, как объяснял однажды в одной из своих позднейших лекций Ферми, что «переход от нечетного числа нейтронов к четному высвобождает один или два МэВ»[1264]. Из чего следовало, что 235U исходно обладает энергетическим преимуществом перед обоими своими конкурентами: в отличие от них он получает энергию, способствующую делению, благодаря одному только изменению массы ядра.
Лиза Мейтнер и Отто Фриш поняли в Кунгэльве, что для возбуждения в ядре процесса деления требуется некоторое количество энергии, но не рассматривали это поступление энергии в подробностях. Их больше интересовало гигантское высвобождение энергии, равное 200 МэВ. На самом деле для деления ядра урана требуется ввод в него приблизительно 6 МэВ. Это количество энергии необходимо для возмущения ядра до такого состояния, в котором оно вытянется и начнет расщепляться на две части. Поглощение любого нейтрона, какой бы ни была его скорость, приносит около 5,3 МэВ энергии связи. Но 238U не хватает еще около 1 МэВ, и именно поэтому для его деления необходимы быстрые нейтроны с энергией, по меньшей мере равной пороговой.
Ядро 235U также получает при поглощении нейтрона 5,3 МэВ. Но в дополнение к этому оно получает еще и упомянутые Ферми «один или два МэВ» просто благодаря переходу от нечетного массового числа к четному. Поэтому суммарный прирост энергии оказывается больше 6 МэВ. Таким образом, деление 235U вызывает любой нейтрон – медленный, быстрый или промежуточной энергии. Именно это демонстрировал третий график Бора: предположительно непрерывное сечение деления 235U. От изображенных слева медленных нейтронов, энергия которых отличается от нулевой всего лишь на какие-то доли электрон-вольта, до расположенных справа быстрых нейтронов с энергией свыше 1 МэВ, способных также вызвать деление 238U, – любой нейтрон, попавший в атом 235U, возбуждает его ядро до деления. В природном уране непрерывная способность 235U к делению маскируется более распространенным 238U, который поглощает большую часть нейтронов. Только замедлив нейтроны при помощи парафина до энергий, меньших резонанса поглощения 238U на 25 эВ, экспериментаторы – Ган, Штрассман, Фриш и другие – смогли выманить столь склонный к делению 235U из укрытия. Это озарение позволило Бору ответить на возражения Плачека и укрепить модель жидкой капли.
В январе Бор написал за три дня статью из 700 слов, чтобы защитить приоритет своих европейских коллег. Теперь, стремясь поделиться известием об особой роли, которую 235U играет в делении, он написал за два дня статью из 1800 слов и отослал ее в Physical Review 7 февраля. Тем не менее статья «Резонансные явления в расщеплении урана и тория и деление ядер»[1265] была написана очень тщательно, – гораздо более тщательно, чем ее читали. Основная гипотеза – что за деление урана под воздействием медленных нейтронов отвечает 235U, а не 238U, – была понятна всем, хотя не все были согласны с такой интерпретацией без подтверждения экспериментальными данными. Но, вероятно, потому, что, как вспоминал Ферми, в то время изотопы «считались почти что мистически неразделимыми»[1266], никто не обратил внимания на более дальние следствия. В этом же месяце Сцилард объяснял Льюису Штраусу, что «по-видимому, медленные нейтроны вызывают деление изотопа урана, содержание которого в уране составляет около 1 %»[1267]. Ричард Робертс с ФЗМ утверждал в написанной в 1940 году черновой редакции доклада, имевшего большое значение, что «Бор… приписал реакцию с [медленными] нейтронами изотопу 235U, а реакцию с быстрыми нейтронами – изотопу 238U»[1268]. Ошибочное утверждение Робертса, вероятно, было лишь грубым первым приближением, и в окончательном варианте доклада он, возможно, исправил бы его. Однако замечания Сциларда и Робертса показывают, что сначала деление 235U медленными нейтронами интересовало физиков больше, чем другая, более зловещая возможность.
Бор косвенным образом признал это в своей статье в Physical Review. Деление 235U медленными нейтронами вышло на передний план его рассуждений, потому что оно объясняло загадочные различия между ураном и торием. Но Бор также рассматривал и поведение 235U при бомбардировке быстрыми нейтронами. «В случае быстрых нейтронов, – писал он ближе к концу своей статьи, – в связи с малым содержанием рассматриваемого изотопа уровень деления должен быть гораздо ниже, чем получаемый при столкновении нейтронов с более распространенным изотопом»[1269]. Это утверждение подразумевает, прямо его не высказывая, один вопрос, имеющий далеко идущие последствия: каким был бы уровень деления быстрыми нейтронами, если бы 235U удалось отделить от 238U?
Очередным воплощением бассейна с рыбками из римского сада Орсо Корбино стал бак с водой[1270] метровой ширины и метровой глубины, который Ферми и Андерсон установили этой зимой в подвале Пьюпин-холла. Они собирались вставить нейтронный источник из радона и бериллия в центр 13-сантиметровой сферической колбы и опустить колбу в центр бака. Рассеяние выделяемых бериллием нейтронов в окружающей воде должно было их замедлить. Нейтроны должны были порождать в расположенных на разных расстояниях от колбы полосках родиевой фольги, любимом нейтронном детекторе Ферми, характеристическую активность с 44-секундным периодом полураспада. Определив фоновый уровень нейтронной активности от источника Rn + Be, Ферми собирался поместить в колбу оксид урана, расположив его вокруг источника, и провести вторую серию измерений. Если бы в присутствии урана в баке с водой появлялось больше нейтронов, чем без него, он мог бы заключить, что при делении урана вырабатываются вторичные нейтроны, и приблизительно оценить их число. Одного нейтрона на выходе на каждый нейтрон на входе было бы недостаточно для поддержания цепной реакции, так как некоторые из нейтронов неизбежно оказывались бы захваченными, а другие просто улетали бы без взаимодействия; требовалось, чтобы число вторичных нейтронов превышало число первичных предпочтительно по меньшей мере в два раза.
Выше, на седьмом этаже того же здания, Лео Сцилард обнаружил другой уже идущий эксперимент. Уолтер Зинн, высокий светловолосый научный сотрудник из Канады, преподававший в Городском колледже, бомбардировал уран нейтронами с энергией 2,5 МэВ, полученными с помощью небольшого ускорителя. Он рассуждал с точки зрения энергии, а не количества нейтронов, пытаясь продемонстрировать производство вторичных нейтронов по наличию нейтронов с энергией больше 2,5 МэВ. Пока что его результаты не позволяли сделать каких-либо окончательных выводов.
«Сцилард с большим интересом наблюдал за моим экспериментом, – вспоминает Зинн, – а затем предположил, что, возможно, результаты будут лучше, если использовать нейтроны с меньшей энергией. Я сказал: “Очень хорошо, но где их взять?” Лео ответил: “Положитесь на меня, я их достану”»[1271].
Сцилард действительно хотел помочь Зинну, но, кроме того, он жаждал заполучить его ионизационную камеру. «Нужно было только, – говорил он впоследствии, – добыть грамм радия, взять бериллиевый блок, облучить кусок урана нейтронами, которые испускает бериллий, а затем посмотреть при помощи ионизационной камеры, которую Зинн уже построил, испускаются ли при это быстрые нейтроны. Если оборудование уже было собрано и имелся нейтронный источник, такой эксперимент можно было провести всего за час или два. Но у нас, разумеется, не было радия»[1272].
Вопрос по-прежнему упирался в деньги. Radium Chemical Company of New York and Chicago[1273], филиал бельгийского концерна Union Minire du Haut Katanga[1274], готова была предоставить грамм радия не менее чем на три месяца за 125 долларов в месяц. 13 февраля Сцилард послал Льюису Штраусу на его ферму в Виргинии письмо, в котором «хотел узнать, сможете ли Вы одобрить такие расходы» и предусмотрительно информировал финансиста о значении последних событий. Самый важный абзац этого письма касается новой гипотезы Бора относительно роли 235U в делении природного урана медленными нейтронами:
Если этот изотоп можно использовать для поддержания цепной реакции, его нужно будет отделить от общей массы урана. Это, несомненно, будет сделано, если окажется необходимым, но осуществление этой операции на промышленном уровне может занять от пяти до десяти лет. Если эксперименты малого масштаба покажут, что торий и природный уран не действуют, а действует редкий изотоп урана, нам придется немедленно взяться за решение задачи концентрации этого редкого изотопа[1275][1276].
Убытки, которые Штраус понес в истории с импульсным генератором, стали для него хорошей прививкой от дальнейших вложений в ядерные проекты. Он хотел знать, говорит Сцилард, «насколько я уверен, что это сработает». Поскольку никаких гарантий Сцилард дать не мог, Штраус отказался ему помочь. Тогда Сцилард обратился к Бенджамину Либовицу. «Он был не беден, но и не был по-настоящему богат… Я рассказал ему, о чем идет речь, и он сказал: “Сколько денег вам нужно?” Я сказал: “Ну, я хотел бы занять 2000 долларов”. Он достал чековую книжку и выписал чек, я его обналичил и взял напрокат… радий, а тем временем из Англии приехал и бериллиевый блок»[1277].
Бериллиевый цилиндр, который показался Уолтеру Зинну «странным и необычным предметом»[1278] и дал ему доказательство волшебства Сциларда, прибыл 18 февраля. В тот же день Сцилард узнал от Теллера о важной работе, которая шла на ФЗМ в Вашингтоне. Ричард Робертс и Р. Ч. Мейер готовили письмо в Physical Review, сообщающее об открытии возникновения задержанных нейтронов при делении[1279]. Это были не те немедленно возникающие вторичные нейтроны, которые искали исследователи Колумбийского университета, но они доказывали, что образующиеся при делении фрагменты содержат лишние нейтроны и испускают их самопроизвольно.
Всеобщее возбуждение, которое Теллер обнаружил в охваченных кипучей деятельностью лабораториях ФЗМ, произвело на него большее впечатление:
Как только я начал интересоваться ураном, начались бурные споры о его практическом значении. Тьюв, Хафстад и Робертс прекрасно понимают, о чем идет речь. Знают они и об экспериментах Ферми. Я, разумеется, ничего им не сказал. Вышеупомянутое письмо [в Physical Review] не может причинить никакого вреда…
Мне неизвестны подробности их планов, но мне кажется, что необходимы срочные действия [по сохранению тайны]. Очень многие уже поняли, о чем идет речь. Те, кто работает в Вашингтоне, хотели бы убедить Институт Карнеги увеличить финансирование исследований урана ввиду практического значения этой темы… Однако сейчас это нереально, если только руководство [Карнеги] не проявит большего, чем до сих пор, интереса к этому вопросу…
Повторяю, в Вашингтоне только и говорят, что о цепной реакции. Мне достаточно было произнести слово «уран», и я мог слушать их идеи часами[1280].
Президентом Института Карнеги был янки из Новой Англии Вэнивар Буш – внук двух капитанов, инженер-электротехник, изобретатель и бывший декан инженерного факультета Массачусетского технологического института. Если сначала Буш был менее склонен поддерживать эксперименты с цепной реакцией, чем хотелось бы Теллеру, то он по меньшей мере был в хорошей компании: ни Эрнест Лоуренс в Беркли, ни Отто Ган в Далеме, ни Лиза Мейтнер, гостившая в феврале этого года в Копенгагене, куда она приехала поработать с Отто Фришем, не желали гоняться за миражами. Первые эксперименты проводились только в Колумбийском университете и в Париже, хотя на ФЗМ вскоре последовали примеру Колумбийского.
На последней неделе февраля Фредерик Жолио вместе с двумя коллегами, утонченным австрийцем Хансом фон Хальбаном и огромным, энергичным русским Львом Коварским, начал эксперимент по выявлению вторичных нейтронов в результате деления, похожий на эксперимент Ферми. Они тоже использовали резервуар с водой, в центре которого был установлен источник нейтронов, но уран у них был растворен в воде, а не собран вокруг источника. Еще более важным для приоритета их исследований было то, что они имели непосредственный доступ к обильным запасам радия, имевшимся в Радиевом институте.
Сцилард обнаружил и сказал Ферми, что использование в его нейтронном источнике не радия, а радона вносит в его эксперимент неоднозначность: радон выбивает из бериллия гораздо более быстрые нейтроны, чем радий; поэтому увеличение числа нейтронов, которое Ферми зарегистрировал в своем баке, могло по меньшей мере частично быть связано не с делением, а с другой, проходящей параллельно реакцией в бериллии. Ферми считал эту неоднозначность очевидной, но согласился – как согласился до этого Зинн – повторить эксперимент с источником из радия и бериллия. Сцилард великодушно предложил предоставить для этого свой радий. Однако радия этого у него еще не было; Сцилард все еще вел переговоры о его прокате, потому что Radium Chemical Company беспокоилась, что формально он не принадлежит ни к какому учреждению.
Он наконец получил свой радий, два грамма в герметично запечатанной латунной капсуле, в начале марта, устроившись в лаборатории Колумбийского университета на три месяца в качестве приглашенного исследователя. Сразу после этого они с Зинном собрали экспериментальную установку[1281]. Они изготовили хитроумную конструкцию наподобие китайских шкатулок, составленную из вложенных друг в друга разнородных элементов: в большом брикете парафина было сделано несквозное отверстие, на дне которого был установлен бериллиевый цилиндр; в бериллиевый цилиндр помещалась капсула с радием; на цилиндре, внутри парафина, стояла коробка, выстланная изнутри поглощающим нейтроны кадмием и наполненная оксидом урана; в эту коробку была вставлена сама ионизационная трубка, защищенная от гамма-излучения радия свинцовой пробкой и соединенная с осциллографом. В этой конфигурации, говорит Сцилард, можно было измерять поток нейтронов, исходящий от урана, с кадмиевым экраном и без него:
Все было готово, и нам оставалось только повернуть выключатель, сесть и смотреть на экран электронно-лучевой трубки. Если бы на экране появились вспышки, это означало бы, что процесс деления урана проходит с испусканием нейтронов, – а это, в свою очередь, означало бы, что до крупномасштабного высвобождения атомной энергии рукой подать. Мы повернули выключатель и увидели вспышки. Мы посмотрели на них некоторое время, потом всё выключили и разошлись по домам[1282].
Они приблизительно оценили уровень производства нейтронов: «Мы обнаружили, что число нейтронов, испускаемых в одном делении, составляет около двух»[1283]. Французская группа, которая могла получить радий, просто позвонив по телефону, обнаружила неделей раньше, что «на каждый поглощенный нейтро… производится более одного нейтрона»[1284]. По оценке Ферми и Андерсона, «выход составляет около двух нейтронов на каждый захваченный нейтрон»[1285]. Ферми немедленно сообщил об этом Вигнеру и Теллеру. Теллер хорошо помнит этот момент:
Я сидел за своим роялем, пытаясь добиться при помощи одного моего друга и его скрипки, чтобы Моцарт звучал как Моцарт, как вдруг зазвонил телефон. Это звонил Сцилард из Нью-Йорка. Он говорил со мной по-венгерски и сказал только одно: «Я нашел нейтроны»[1286].
Кроме того, Сцилард отправил телеграмму Штраусу:
СЕГОДНЯ ПРОВЕЛ ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ С БЕРИЛЛИЕВЫМ БЛОКОМ С УБЕДИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ. ОБНАРУЖЕНО ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ ИСПУСКАНИЕ НЕЙТРОНОВ. ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РЕАКЦИИ ТЕПЕРЬ ВЫШЕ 50 ПРОЦЕНТОВ[1287].
Сцилард знал, что означают эти нейтроны, с того самого дня, когда он переходил через улицу в Блумсбери: облик грядущего. «Этим вечером, – вспоминал он впоследствии, – у меня почти не осталось сомнений в том, что мир ожидают большие несчастья»[1288].
Хотя Юджин Вигнер еще не полностью оправился от желтухи, его реакция на тревожные новости, полученные от Сциларда, была деятельной, ибо в Центральной Европе тем временем разразилась буря предательства. 14 марта Гитлер вызвал в Берлин президента и министра иностранных дел Чехословакии и заявил им, что, если их страна не сдастся Германии, он разбомбит Прагу дотла. В тот же день Словакия, подстрекаемая нацистским вождем, официально объявила об отделении от республики. Подкарпатская Русь, узкая часть территории вдоль Карпат на востоке Чехословакии, также провозгласила себя независимым государством под названием Карпатская Украина, но это мародерское предприятие было резко подавлено уже на следующее утро, когда в только что возникшую страну вторглись при поддержке Германии войска фашистской Венгрии адмирала Хорти. Торжествующий Гитлер прилетел в Прагу. 16 марта он постановил, что оставшаяся часть Чехословакии – Богемия и Моравия – становится германским протекторатом. Страна, которую Франция и Великобритания предали в Мюнхене, была разделена без какого-либо сопротивления.
Вигнер поехал на поезде в Нью-Йорк. Утром 16 мая он встретился со Сцилардом, Ферми и Джорджем Пеграмом в кабинете Пеграма. По меньшей мере с конца января Сцилард пытался создать новый вариант своего «Бунда» – он назвал его Ассоциацией за научное сотрудничество – для наблюдения за исследованиями, сбора и распределения средств и сохранения секретности, гражданскую организацию, которая могла бы направлять развитие атомной энергетики. Он говорил об этих планах с Льюисом Штраусом в вашингтонском поезде, с Теллером после истории с жесткой кроватью, а с Вигнером – в Принстоне, в те же выходные, когда Бор рисовал свои графики. С точки зрения Вигнера, время таких дилетантских предприятий миновало. Он «настоятельно призвал нас, – говорит Сцилард, – немедленно сообщить об этих открытиях правительству Соединенных Штатов»[1289]. Речь шла о «деле настолько серьезном, что мы не могли взять на себя ответственность за его урегулирование»[1290].
Шестидесятитрехлетний Джордж Брекстон Пеграм был на поколение старше, чем два венгра и итальянец, дискутировавшие тем утром в его кабинете. Он был родом из Южной Каролины, в 1903 году защитил в Колумбийском университете диссертацию по торию, учился в Берлине у Макса Планка и переписывался с Резерфордом, когда тот еще трудился в своей плодотворной ссылке в Университете Макгилла. Пеграм был человеком высоким и спортивным, выигрывал соревнования по теннису, когда ему было уже хорошо за шестьдесят, а в молодости любил плавать на байдарке и ходить на шестиметровой парусной лодке вокруг Манхэттена[1291]. Возможно, интерес к радиоактивности пробудил в нем отец, бывший профессором химии; «вероятно, самой важной задачей, стоящей сегодня перед физиками, – сказал Пеграм-старший в 1911 году, выступая в Академии наук Северной Каролины, – является задача применения [заключенной в атоме] огромной энергии на благо всего мира»[1292]. На следующий год Пеграм, бывший тогда доцентом физического факультета Колумбийского университета, написал Альберту Эйнштейну, приглашая его приехать в Нью-Йорк с лекциями по теории относительности. Именно Пеграм привлек в Колумбийский университет Раби и Ферми, в результате чего университет приобрел репутацию международного центра ядерно-физических исследований. Теперь у него были седые, редеющие волосы, очки в металлической оправе, оттопыренные уши и волевой, широкий, массивный подбородок. Он по-прежнему живо интересовался радиоактивностью, но традиционный консерватизм университетского декана заставлял его действовать осмотрительно.
Он сказал Вигнеру, что у него есть в Вашингтоне подходящие связи: Чарльз Эдисон, помощник военно-морского министра. Вигнер потребовал, чтобы Пеграм немедленно ему позвонил. Пеграм был готов это сделать, но сперва им следовало обсудить план действий. Кто именно передаст ему информацию? Ферми должен был в тот же день ехать в Вашингтон, где вечером у него была назначена лекция для группы физиков; на следующий день он мог встретиться с флотским начальством. Нобелевская премия должна была придать ему исключительный авторитет. Пеграм позвонил в Вашингтон. Эдисона не было на месте; его секретариат связал Пеграма с адмиралом Стэнфордом К. Хупером, помощником Главнокомандующего ВМС по техническим вопросам. Хупер согласился выслушать Ферми. Звонок Пеграма был первым случаем непосредственного взаимодействия между физиками, занимавшимися делением ядра, и правительством США.
Следующим пунктом повестки дня утренней встречи была секретность. И Ферми, и Сцилард написали отчеты о своих экспериментах со вторичными нейтронами и были готовы отослать их в Physical Review. Сейчас они решили – при поддержке Пеграма – все же отправить свои статьи в журнал, чтобы закрепить за собой приоритет, но попросить редактора отложить их публикацию до решения вопросов с секретностью. Обе статьи были отосланы в тот же день.
Пеграм написал рекомендательное письмо, которое Ферми должен был взять на встречу. Оно было составлено в нерешительном тоне и изобиловало допущениями:
Из экспериментов, проведенных в физической лаборатории Колумбийского университета, следует, что могут быть найдены условия, при которых химический элемент уран может быть способен на высвобождение содержащегося в нем огромного избытка атомной энергии, а это может означать существование возможности использования урана в качестве взрывчатого вещества, высвобождающего в миллион раз больше энергии, чем любое из известных взрывчатых веществ. Лично мне это не кажется вероятным, но мы с моими коллегами полагаем, что даже самой незначительной возможностью не следует пренебрегать[1293].
Легковооруженный таким образом, Ферми отправился на встречу с ВМФ.
Дискуссия была далеко не закончена, не закончился еще и долгий день Вигнера. Вместе со Сцилардом он вернулся в Принстон, где у них была назначена важная встреча с Нильсом Бором. Встреча эта была запланирована заранее; на ней должны были присутствовать Джон Уилер и Леон Розенфельд, а также Теллер, специально приехавший из Вашингтона. Если бы Бора удалось уговорить поступиться престижем ради секретности, кампания по изоляции германских ядерно-физических исследований могла бы быть успешной.
Вечером они собрались в кабинете Вигнера. «Сцилард кратко обрисовал данные, полученные в Колумбийском университете, – сообщает Уилер, – и предварительные свидетельства того, что при каждом вызванном нейтроном делении ядра возникает не меньше двух вторичны нейтронов. Разве это не означает несомненной возможности создания ядерной взрывчатки?»[1294] Не обязательно, возразил Бор. «Мы пытались убедить его, – пишет Теллер, – что исследования деления нужно продолжать, но нельзя публиковать результаты. Результаты следует держать в тайне, чтобы нацисты не смогли узнать о них и получить ядерный взрыв раньше нас. Бор настаивал, что мы никогда не сможем добиться получения ядерной энергии и что в физике ни в коем случае не должно быть никакой секретности»[1295].
Как говорит Уилер, Бор аргументировал свой скептицизм «огромной трудностью выделения необходимых количеств 235U»[1296]. Впоследствии Ферми отмечал в одной из своих лекций, что «[в 1939 году] было не вполне ясно, можно ли всерьез рассматривать выделение урана-235 в больших количествах»[1297]. На встрече в Принстоне, как вспоминает Теллер, Бор твердил, что «это совершенно неосуществимо, если только не превратить все Соединенные Штаты в одну огромную фабрику»[1298].
Вопрос секретности был для Бора еще важнее. На протяжении нескольких десятилетий он трудился над превращением физики в международное сообщество, построенный в пределах одной ограниченной области образец того, каким мирным и политически единым может быть весь мир. Открытость была хрупкой, но жизненно важной основой этого сообщества, насущной необходимостью, такой же, какой свобода слова является для демократии. Полная открытость требует абсолютной честности: ученый должен сообщать обо всех своих результатах, как положительных, так и отрицательных, чтобы о них могли узнавать все, что позволяет продолжаться непрерывному процессу исправления ошибок. Введение секретности привело бы к уничтожению этой основы и подчинению политической системы науки – «республики», о которой говорил Полани, – анархической конкуренции национальных государств. Бора больше, чем кого-либо другого, беспокоила угроза, исходящая от нацистской Германии; Лаура Ферми вспоминает, как «спустя два месяца после высадки в Соединенных Штатах» «он говорил о неизбежной участи Европы во все более апокалипсических выражениях, и лицо его было лицом человека, одержимого навязчивой идеей»[1299]. Если бы 235U можно было легко отделить от 238U, это несчастье могло бы стать достаточной причиной для того, чтобы временно поступиться принципами в интересах выживания. Однако Бор считал такую технологию недостижимой даже отдаленно. Встреча затянулась за полночь и закончилась, так и не принеся однозначных результатов.
На следующий день Ферми явился к назначенному времени в Военно-морское министерство на Конститьюшн-авеню на встречу с адмиралом Хоппером. Он, видимо, подготовил осторожный доклад. Презрительное отношение дежурного офицера, доложившего о его приходе адмиралу, говорило в пользу такого подхода. Ферми услышал, как он сказал: «Там ждет какой-то итальяшка»[1300]. Вот вам и авторитет Нобелевской премии.
Хупер собрал в помещении, которое Льюис Штраус, ставший к тому времени добровольцем военно-морского флота, называет «старым, ветхим залом заседаний»[1301], нескольких флотских офицеров, служащих армейского Бюро вооружений и двух гражданских ученых, прикомандированных к Научно-исследовательской лаборатории ВМС. Один из этих ученых, грубоватый физик Росс Ганн, видел, как Ричард Робертс демонстрировал деление ядра в мишенной комнате 5-мегавольтового генератора Ван де Граафа ФЗМ во время пятой Вашингтонской конференции, вскоре после того, как там был Ферми. Ганн занимался разработкой двигательных систем для подводных лодок; ему не терпелось узнать побольше об источнике энергии, не требующем сжигания кислорода.
Ферми прочитал собравшимся часовую обзорную лекцию по нейтронной физике. Если верить конспекту одного из участников встречи, морского офицера, Ферми делал основной упор на своих измерениях в баке с водой, а не на более эффективной работе Сциларда с ионизационной камерой. Готовящиеся сейчас новые эксперименты могут подтвердить возможность получения цепной реакции, – объяснил Ферми. Тогда задача сведется к накоплению массы урана, достаточной для захвата и использования вторичных нейтронов до того, как они смогут вылететь через поверхность материала.
Офицер, ведший конспект, прервал докладчика. Какого размера может быть такая масса? Поместится ли она в казенную часть артиллерийского орудия?
Ферми предпочел не рассматривать физику сквозь пушечный ствол. Она может оказаться размером с небольшую звезду, сказал он с улыбкой, хотя и знал, что это не так[1302].
Рассказы о распространении нейтронов внутри бака с водой казались слишком туманными. Встреча не дала никаких результатов, если не считать того интереса, который она возбудила у Росса Ганна. «Энрико и сам… сомневался в правомерности своих прогнозов»[1303], – говорит Лаура Ферми. ВМФ выразил заинтересованность в поддержании связей; его представители, несомненно, должны были посетить лабораторию в Колумбийском университете. Ферми почувствовал, что к нему относятся свысока, и охладел к этой идее.
17 марта было пятницей; Сцилард с Теллером приехали в Вашингтон из Принстона, а Ферми оставался там на выходные. Они встретились, сообщает Сцилард, «чтобы обсудить, следует ли их [т. е. статьи в Physical Review] публиковать. Мы с Теллером считали, что не следует. Ферми считал, что следует. Однако после долгого спора Ферми решил, что у нас, в конце концов, демократия: если большинство выступает против публикации, то он выполнит решение большинства»[1304]. Через день или два этот вопрос утратил актуальность. Они узнали о статье Жолио, фон Хальбана и Коварского, опубликованной в Nature 18 марта[1305]. «Начиная с этого момента, – отмечает Сцилард, – Ферми окончательно утвердился во мнении, что отказ от публикации не имел никакого смысла»[1306].
В следующем месяце, 22 апреля, Жолио, фон Хальбан и Коварский напечатали в Nature вторую статью о вторичных нейтронах[1307]. Эта работа под названием «Число нейтронов, высвобождаемых при делении ядер урана» (Number of neutrons liberated in the nuclear fission of uranium) вызвала резонанс. По вычислениям французской группы, основанным на ранее опубликованных экспериментальных результатах, получалось, что каждое событие деления дает 3,5 вторичного нейтрона. «Интерес, который описанное здесь явление представляет с точки зрения получения цепочки ядерных реакций, – писали эти трое, – уже упоминался в нашем предыдущем письме». Теперь они пришли к выводу, что при наличии достаточного количества урана, погруженного в подходящее замедляющее вещество, «цепочка деления будет продолжаться самопроизвольно и закончится только по достижении стенок, ограничивающих данную среду. Наши экспериментальные результаты показывают, что такие условия, по всей вероятности, будут удовлетворены»[1308]. То есть уран, вероятнее всего, способен к цепной реакции.
Мнение Жолио имело большой вес. Дж. П. Томсон, сын Дж. Дж. Томсона, бывший профессором физики в Имперском колледже, услышал его. «Я начал подумывать о проведении некоторых экспериментов с ураном, – сказал он впоследствии в интервью. – То, что я собирался сделать, несколько выходило за рамки чистой науки, потому что в глубине души я думал о возможности создания оружия». Он тут же запросил в британском Военно-воздушном министерстве тонну оксида урана, «стесняясь кажущейся абсурдности такой заявки»[1309].
Хуже того, появление французского отчета привело к одновременному возникновению сразу двух начинаний в Германии[1310]. Один из гёттингенских физиков известил Имперское министерство образования. В результате 29 апреля в Берлине прошло секретное совещание, приведшее, в свою очередь, к запуску исследовательской программы, запрету на экспорт урана и организации поставок радия из чехословацких рудников в Иоахимстале. Отто Ган был приглашен на это совещание, но сумел уклониться от участия в нем, сославшись на другие дела. На той же неделе молодой физик Пауль Хартек, работавший в Гамбурге, написал вместе со своим ассистентом письмо в Военное министерство Германии:
Позволим себе обратить Ваше внимание на последние события в области ядерной физики, которые, по нашему мнению, вероятно, позволят произвести взрывчатое вещество, мощность которого на много порядков величины превышает силу обычной взрывчатки… Та страна, которая сумеет применить его первой, получит непреодолимое преимущество перед остальными[1311].
Письмо Хартека попало к Курту Дибнеру, опытному специалисту по ядерной физике, уныло занимавшемуся в управлении вооружений вермахта изучением высокомощных взрывчатых веществ. Дибнер отнес письмо Хансу Гейгеру. Гейгер рекомендовал заняться исследованиями. Военное министерство согласилось.
В тот же день, что и секретное совещание в Берлине, 29 апреля, в Вашингтоне прошли публичные дебаты. Отчет о них, опубликованный в New York Times, дает точную картину раскола американского физического сообщества того времени:
И воздух, и страсти заметно накалились сегодня на весеннем заседании Американского физического общества, которое завершилось дискуссией о вероятности того, что некоторые ученые смогут взорвать значительную часть Земли при помощи маленького кусочка урана, элемента, из которого получается радий.
Д-р Нильс Бор из Копенгагена, коллега д-ра Альберта Эйнштейна из Института перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси, заявил, что бомбардировка небольшого количества чистого изотопа урана 235U медленными нейтронными частицами атома может начать «цепную реакцию» атомного взрыва, мощности которого хватит для уничтожения лаборатории и ее окрестностей на много миль кругом.
Однако многие физики утверждали, что отделение изотопа от 235 от более часто встречающегося изотопа 238 будет делом трудным, если не невозможным. На долю изотопа 235 приходится всего лишь 1 % урана.