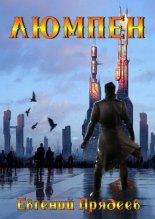Создание атомной бомбы Роудс Ричард
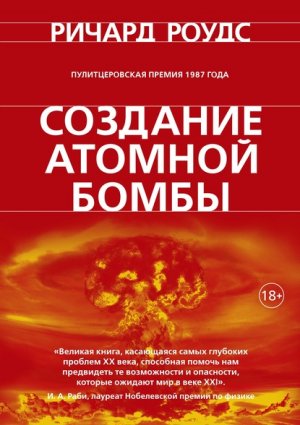
На этот раз доклад точно определял, о чем идет речь: «При быстром сближении достаточной массы элемента 235U образуется основанная на делении ядер бомба чрезвычайно высокой разрушительной силы. Это положение, по-видимому, настолько достоверно, насколько может быть достоверным любое непроверенное предсказание, основанное на теории и эксперименте»[1720]. В оценке критической массы, приведенной на второй странице, впервые на протяжении трех докладов НАН упоминалось деление быстрыми нейтронами: «Масса 235U, необходимая для получения в соответствующих условиях взрывного деления, вероятно, не может быть меньше 2 кг или больше 100 кг. Столь широкий интервал в основном отражает неопределенность экспериментальных данных о сечении захвата ядром 235U быстрых нейтронов»[1721].
Оценка разрушительной силы в докладе НАН была ниже, чем в отчете MAUD: утверждалось, что один килограмм 235U эквивалентен приблизительно 30 тоннам ТНТ (то есть 10 килограммов соответствуют 300 тоннам, а не 1800 тоннам, как в отчете MAUD), но авторы американского доклада попытались компенсировать свои сомнения в эффективности высвобождения огромной энергии из малого количества вещества, подчеркивая, что разрушительное воздействие радиоактивного излучения бомбы на живые организмы «может быть столь же велико, как и разрушительное воздействие самого взрыва»[1722].
Было отмечено, что программы центрифугирования и газовой диффузии «приближаются к стадии практических испытаний»[1723]. Основанные на делении ядра бомбы, говорилось в докладе, могут быть доступны «в значительном количестве в течение трех или четырех лет»[1724]. Как и предыдущие доклады, этот подчеркивал не соревнование с Германией, а долгосрочные перспективы: «Следует серьезно рассмотреть возможность того, что через несколько лет применение использующих деление урана бомб, описанных в этом докладе или сходных с ними, может определять военное превосходство. Насущные соображения национальной обороны, по-видимому, требуют срочного развития этой программы»[1725].
В более подробных приложениях Комптон приводил расчеты критической массы бомбы, находящейся внутри плотного отражателя, – ее значение не превышало 3,4 килограмма, Кистяковский рассматривал, будет ли взрыв атомной бомбы столь же разрушительным по величине выделяемой энергии, как эквивалентная масса ТНТ, и подтверждал осуществимость механизма сближения двух кусков урана со скоростью в несколько тысяч метров в секунду, а один из старших физиков из комитета Комптона давал положительный отзыв о системах разделения изотопов, которые рассматривались в это время, и рекомендовал использовать «принцип параллельной разработки», то есть развивать все системы одновременно, что предполагало большие затраты, но позволяло сэкономить время, если одно или несколько направлений окажутся тупиковыми.
Важной особенностью третьего доклада было отсутствие каких бы то ни было упоминаний работ по уран-графитовым системам, которые велись в Колумбийском университете, а также плутония. Как вспоминает Комптон, создание бомбы из 235U «казалось делом более простым и дающим большую уверенность в успехе»[1726], чем создание плутониевой бомбы, но, кроме того, по этому упущению можно судить о том, насколько мнение Бриггса о приоритетах и сам Бриггс оказались отодвинуты в сторону. Еще до встречи с Комптоном Буш уже писал Джуэтту о своих планах «оставить Бриггса во главе отдела, посвященного, как сейчас, физическим измерениям» – то есть поручить ему совершенные мелочи – и организовать «новую группу с постоянным руководителем, которая будет заниматься новыми разработками». Он рассматривал кандидатуру Эрнеста Лоуренса, но по-прежнему считал, что Лоуренс слишком разговорчив: «Эта деятельность… должна проводиться в строжайшей тайне. Именно поэтому я не уверен, что Эрнест Лоуренс подходит на эту роль»[1727].
Хотя третий, и последний, доклад НАН всего лишь обосновывал уже принятое президентом решение, он по меньшей мере давал возможность произвести независимую проверку британских результатов и привлечь к общему делу американских физиков. Соединенные Штаты наконец встали на путь разработки бомбы. Инертность движения по этому пути была пропорциональна колоссальным масштабам американской научной, инженерной и промышленной мощи. Но теперь ускорение преодолело инерцию, и все начало приходить в движение.
Франклин Делано Рузвельт не подписывал никаких документов, утверждающих судьбоносное решение об интенсификации исследований, направленных на создание атомной бомбы, о котором Вэнивар Буш сообщал в своей памятной записке Джеймсу Брайанту Конанту от 9 октября: в архивах не находится никакого явного подтверждения этому. Более всего на роль документа, изменившего мир, подходит совершенно ничтожная бумажка. 27 ноября 1941 года Буш лично передал президенту третий доклад Национальной академии наук. Два месяца спустя Рузвельт вернул его Бушу, приложив записку, написанную на бланке Белого дома черными чернилами ручкой с широким пером; ее содержание сводится к обычному совету относительно хранения государственных тайн, если не считать просторечного выражения, с которого она начинается, и инициалов, которыми она подписана:
Записка гласит: «19 янв. – В. Б. – ОК – возвращаю – Я думаю, лучше всего хранить это в Вашем сейфе – ФДР»[1728].
Плутоний, который Лоуренс и Комптон считали столь многообещающим, по-прежнему оставался на положении бедного родственника. Комптон нашел возможность выступить в его защиту в декабре, когда Буш и Конант вызвали членов Уранового комитета в Вашингтон, чтобы объявить им о реорганизации их работы. Буш с Конантом решили, что Гарольд Юри займется в Колумбийском университете разработкой технологии газовой диффузии. Лоуренс должен был продолжать работу над электромагнитным разделением изотопов в Беркли. Молодой инженер-химик Эгер В. Мерфри, руководитель исследовательской группы компании Standard Oil в штате Нью-Джерси, должен был возглавить разработку центрифуг и заниматься более общими инженерными вопросами. Комптон в Чикаго должен был отвечать за теоретические исследования и проектирование реальной бомбы. «К закрытию совещания, – пишет Комптон, – было решено, что в следующий раз мы встретимся через две недели, чтобы сравнить полученные результаты и более четко определить наши планы»[1729].
Буш, Конант и Комптон пошли обедать в клуб «Космос» на Лафайет-сквер. Там чикагский физик стал рассказывать о достоинствах плутония. Он утверждал, что преимущество химического выделения по сравнению с разделением изотопов делает элемент 94 «достойным конкурентом». Буш отнесся к этому настороженно. Конант заметил, что химические свойства нового элемента остаются по большей части неизвестными. Комптон вспоминает их разговор:
– Сиборг сказал мне, что [плутоний] можно будет использовать в бомбе через шесть месяцев после его образования в цепной [реакции], – заметил я.
– Гленн Сиборг – очень компетентный молодой химик, но он не настолько хорош, – сказал Конант[1730].
Насколько хорошим химиком был Гленн Сиборг, еще предстояло увидеть. Но затем, как вспоминает Конант, Комптон стал убеждать их, что «получение самоподдерживающейся цепной реакции [в природном уране – проект Ферми и Сциларда] было бы грандиозным достижением», даже если бы плутоний оказался непригоден для изготовления бомб; «это подтвердило бы правильность измерений и теоретических расчетов».
Я так и не знаю, убедила ли Вэна почти полная уверенность в возможности осуществления реакции на медленных нейтронах, или же на него произвела впечатление вера Комптона в создание плутониевой бомбы – хотя я, как химик, этой веры не разделял. Как бы то ни было, в течение нескольких недель он дал Артуру Комптону добро на организацию совершенно секретного проекта в Чикаго[1731].
Для удобства загруженных делами участников вашингтонского совещания Буш назначил его на выходной день. Они собрались в субботу 6 декабря 1941 года. Буквально на следующий же день их загруженность увеличилась еще более.
В воскресенье 7 декабря 1941[1732], в 7 часов утра по гавайскому времени, двое рядовых американской армии, собиравшихся выключать после дежурства, на котором они были с 4 часов ночи, передвижную радиолокационную станцию Опана, пост противовоздушной разведки у мыса Кахуку, самой северной точки острова Оаху, заметили на экране осциллографа необычное возмущение. Они проверили исправность аппаратуры, не нашли никаких неполадок и решили, что большой комплексный сигнал «должен обозначать какую-то группу самолетов». По их планшету выходило, что она находится на северо-востоке, на удалении 212 километров. Казалось, что самолетов там больше пятидесяти. Один из солдат позвонил в информационный центр на военной базе Форт-Шафтер на другом конце острова, в котором данные радиолокационных и визуальных наблюдений наносились на общую карту. Оператор радара сказал лейтенанту, ответившему на звонок, что сигнал был «самым большим… какой он когда-либо видел»[1733]. Однако оператор не передал ему своей оценки числа самолетов.
И армия, и флот уже были предупреждены о непосредственной опасности нападения со стороны Японии. Японцы были убеждены, что для их выживания необходимо господство над всей Восточной Азией. В ответ на воинственное вторжение Японии в Маньчжурию и Китай – в 1937 году японская армия безжалостно уничтожила в Шанхае не менее 200 000 мужчин, женщин и детей – Соединенные Штаты ввели эмбарго на поставки военных материалов и заморозили японские активы в США. На авиационное топливо, сталь и лом черных металлов эмбарго было распространено в сентябре 1940 года, когда Япония с молчаливого согласия вишистской Франции заняла Французский Индокитай. По оценкам японцев, после этого они могли просуществовать без азиатских источников нефти и железной руды не более восемнадцати месяцев. В течение некоторого времени они готовились к войне, одновременно продолжая вести переговоры. Теперь переговоры были сорваны.
27 ноября генерал-лейтенант Уолтер К. Шорт, начальник Гавайского гарнизона армии США, получил кодированное сообщение за подписью начальника Генерального штаба Джорджа Маршалла, в котором, частности, говорилось:
По-видимому, с точки зрения любых практических целей переговоры с Японией можно считать прекращенными; существует лишь чрезвычайно малая вероятность того, что японское правительство изменит свою позицию и предложит их продолжить. Дальнейшие действия Японии непредсказуемы, но в любой момент можно ожидать враждебных действий. В случае неизбежного – повторяю, неизбежного – начала военных действий Соединенные Штаты предпочитают, чтобы первый открыто враждебный акт был совершен Японией… Следует принять меры, исключающие – повторяю, исключающие – возникновение тревоги среди гражданского населения или разглашение наших намерений[1734].
У Шорта были на выбор три уровня боевой готовности, от «защиты от диверсий, шпионажа и подрывной деятельности при отсутствии какой-либо внешней угрозы» до полноценной защиты от «полномасштабного нападения». Ему показалось очевидным, что сообщение Военного министерства «было написано в основном для генерала Макартура на Филиппинах»[1735], и он решил ввести режим ограниченной защиты от диверсий, самый низкий уровень готовности.
Несколько часов спустя адмирал Хазбэнд Э. Киммел, главнокомандующий Тихоокеанским флотом США, который базировался в бухте Перл-Харбор на южном берегу Оаху, к западу от Гонолулу, получил похожее, но еще более определенное сообщение из Министерства ВМФ:
Эту депешу следует считать предупреждением о войне. Переговоры с Японией, направленные на стабилизацию положения в Тихом океане, прекращены; в течение ближайших дней следует ожидать агрессивных действий Японии. Численность и оснащенность японских войск и структура оперативных групп флота указывают на возможность десантной операции на Филиппинах, в Таиланде или на перешейке Кра, возможно, Борнео. Обеспечьте соответствующие меры обороны, необходимые для подготовки к выполнению поставленных задач[1736].
Киммел отметил упоминание других потенциальных театров военных действий. Когда они с Шортом обменялись сообщениями, он также отметил «более осторожные формулировки»[1737] армейского предупреждения. «Соответствующие меры обороны» означали, по его мнению, обеспечение полной безопасности судов, находившихся в море. Кроме того, казалось возможным внезапное нападение подводных лодок, и он распорядился атаковать глубинными бомбами любые подводные лодки, замеченные вблизи Оаху.
Поэтому армейский лейтенант, принявший звонок с радиолокационной станции Опана, не ожидал никакой опасности. Он попытался найти этому необычному сообщению обычное объяснение и нашел его. Каждый раз, когда на острова направлялись военные самолеты, работавшая в Гонолулу радиостанция KGMB всю ночь передавала по заказу армии гавайскую музыку, и штурманы ориентировались по этому сигналу. Утром, по дороге в информационный центр, лейтенант слышал такую музыку по радио. Он решил, что на радаре, вероятно, отображается звено бомбардировщиков B-17. Направление, определенное оператором станции Опана, соответствовало обычному направлению захода самолетов из Калифорнии. «Можете об этом не беспокоиться»[1738], – сказал лейтенант операторам радара.
Перл-Харбор представляет собой неглубокий залив сложной формы, со всех сторон окруженный сушей и соединенный с морем узким каналом. Выступ суши в районе Перл-Сити и расположенный в центре залива остров Форд разбивают основную якорную стоянку залива на цикл узких проходов. В 1941 году изрезанный восточный берег залива занимали сухие доки, топливные цистерны и база подводных лодок. Этим воскресным утром непосредственно к юго-востоку от острова Форд стояли на якоре семь линкоров: «Невада», стоявшая в одиночестве, «Аризона» между берегом и ремонтным судном «Вестал», «Теннесси» между берегом и линкором «Западная Виргиния», «Мэриленд» между берегом и «Оклахомой» и «Калифорния», также стоявшая без пары. Восьмой линкор, «Пенсильвания», был подвешен в расположенном рядом сухом доке.
В 7:53 тридцатидевятилетний капитан третьего ранга японского Императорского флота Мицуо Футида, одетый в красную рубашку, чтобы подчиненным не было видно его крови, если он будет ранен, и летный шлем с белой повязкой хатимаки, на которой были каллиграфически начертаны иероглифы слов «Несомненная победа», произнес слова «Тора! Тора! Тора!». В это время пилот его самолета выполнял разворот вокруг мыса Барберс-Пойнт к юго-востоку от Перл-Харбора. Повторенное три раза слово «Тигр!» сообщало ожидавшему его сигнала японскому флоту, что первой волне из 183 самолетов удалось нанести совершенно неожиданный удар. Находившиеся под его командованием 43 истребителя, 49 высотных бомбардировщиков, 51 пикирующий бомбардировщик и 40 торпедоносцев прилетели с шести авианосцев, стоявших в 320 километрах к северу в сопровождении грозного эскорта линкоров, тяжелых крейсеров, эсминцев и подводных лодок. Все эти суда вышли 25 ноября из залива Хитокаппу[1739] на японском острове Итуруп и почти две недели скрытно шли в полном радиомолчании к точке этого поразительного сбора через бурный, но пустой Тихий океан.
Торпедоносцы разделились на двойки и тройки и начали пикировать. Экипажи самолетов были готовы таранить линкоры, если это потребуется, но их атака не встретила никакого сопротивления. В 7:58 командный центр на острове Форд передал всему миру паническое сообщение: «воздушный налет на перл-харбор, это не учения». Адмирал Киммел наблюдал начало налета с лужайки соседского дома – он был «совершенно ошарашен, не в силах поверить своим глазам, – вспоминает его сосед, – он побелел, как его форма». Торпеды попали в легкий крейсер и в корабль-мишень, затем в другой легкий крейсер, затем в линкоры: «Аризону» подняло взрывом над водой; «Западную Виргинию» накрыло огромной волной; в «Оклахому» поочередно попали три торпеды, и она сразу резко накренилась на левый борт; «Аризоне» пробило дно; три торпеды попали в «Калифорнию»; еще две в «Западную Виргинию»; четвертая торпеда, попавшая в «Оклахому», перевернула огромный корабль кверху килем; бомба, попавшая в «Аризону», взорвала ее носовые погреба боезапаса, и корабль разорвало на части: взрыв убил по меньшей мере тысячу человек и поднял высоко в воздух ужасающий фонтан тел, рук, ног и голов; еще одна торпеда разорвала левую сторону носа «Невады». В синее небо гавайского утра поднимался густой черный дым, а в воде горящие, кричащие люди пытались плыть сквозь плотную пену горящего мазута. Японские истребители и бомбардировщики уничтожали стоящие на земле самолеты и поливали пулеметным огнем солдат и морских пехотинцев, выбегавших из казарм Хикем-Филд, Юа-Филд и Уилер. Час спустя нанесла удар вторая группа из 167 самолетов, причинив новые разрушения. Всего в двух налетах были потоплены, перевернуты или повреждены восемь линкоров, три легких крейсера, три эсминца и четыре других корабля; были повреждены или уничтожены 292 самолета, в том числе 117 бомбардировщиков. В результате этого неспровоцированного нападения, длившегося 2 часа 5 минут, были убиты 2403 американца, в числе которых были как военные, так и гражданские лица; еще 1178 человек были ранены. На следующий день Франклин Рузвельт, выступая на совместном заседании обеих палат конгресса, потребовал объявления войны не только Японии, но и Германии с Италией – и война была объявлена.
Человек, задумавший и спланировавший внезапное нападение на Перл-Харбор, главнокомандующий японским Объединенным флотом адмирал Исороку Ямамото, не питал иллюзорных надежд на окончательную победу в войне против Соединенных Штатов. Он учился в Гарварде, служил военно-морским атташе в Вашингтоне и знал силу Америки. Но, если войне суждено было случиться, он хотел «нанести вражескому флоту смертельный удар» в самый неожиданный момент, в самом начале войны. Этим он надеялся обеспечить своей стране период длительностью от полугода до года, в течение которого она могла установить свою «Великую восточноазиатскую сферу сопроцветания» и подготовиться к обороне.
Особенные трудности вызывало применение торпед. Глубина залива Перл-Харбор составляла всего двенадцать метров. Торпеды, сброшенные с самолетов, обычно погружались метров на двадцать или даже глубже и лишь потом всплывали до глубины атаки. Японцам нужно было существенно уменьшить глубину исходного погружения – иначе их торпеды закопались бы в илистое дно Перл-Харбора.
Многочисленные опыты показали, что глубину погружения можно несколько уменьшить, если самолет будет лететь на высоте не более двенадцати метров, причем с ограниченной скоростью – такой маневр требовал от пилотов большого мастерства. Однако более значительное уменьшение глубины требовало изменений конструкции торпеды, которые в основном осуществлялись методом проб и ошибок. Еще в середине октября летчикам Футиды не удавалось добиться погружения менее чем на восемнадцать метров, что по-прежнему было недопустимо глубоко.
Операцию спасла новая конструкция стабилизатора торпеды, исходно разработанная для повышения устойчивости в воздухе. Проведенные в сентябре испытания показали, что все торпеды с новым стабилизатором погружаются на глубину менее двенадцати метров и к тому же обладают более высокой устойчивостью. Но пилотам еще нужно было научиться наводить их на цель. Гарантированные поставки предусматривали только тридцать модифицированных торпед к 15 октября, еще пятьдесят к концу месяца и последнюю сотню – к 30 ноября, уже после запланированной даты выхода флота в море.
Производитель перевыполнил эти обязательства. Понимая, что это оружие является ключевым элементом секретной программы беспрецедентной важности, управляющий Юкиро Фукуда нарушил правила своей компании, заставил бригады токарей и сборщиков работать сверхурочно и уже к 17 ноября сдал последнюю из 180 специально модифицированных торпед. Отделение по производству боеприпасов компании «Мицубиси» внесло решающий вклад в успех первого на Тихоокеанском театре военных действий внезапного крупномасштабного удара благодаря патриотическому духу сотрудников своего торпедного завода на Кюсю, самом южном из японских островов. Завод был расположен в пяти километрах вверх по реке Ураками от бухты старинного портового города Нагасаки[1740].
13
Новый Свет
В течение всего 1941 года, пока правительство совещалось, группа Энрико Ферми в Колумбийском университете напряженно работала. Ферми, Лео Сцилард, Герберт Андерсон и присоединившиеся к ним молодые физики так никогда и не узнали, насколько близка была опасность остаться без какой бы то ни было поддержки. Хотя выделение плутония, произведенное в Беркли, добавило к целям их работы по получению цепной реакции на медленных нейтронах в уране и графите возможность военного применения, по меньшей мере сам Ферми, если бы у него были необходимые ресурсы, несомненно продолжал бы поиски цепной реакции в любом случае, ради фундаментального и исторического значения этого физического эксперимента. В свое время он уже упустил открытие деления, от которого его отделяла лишь толщина листка алюминиевой фольги; теперь он совершенно не собирался допустить, чтобы кто-нибудь другой первым продемонстрировал устойчивое высвобождение атомной энергии. Его работа получала непрерывную поддержку в основном благодаря Артуру Комптону, что могло быть причиной его непомерного восхищения умом благочестивого уроженца Вустера.
1 ноября 1940 года, после утверждения заказа на измерения физических постоянных от Национального комитета оборонных исследований на сумму 40 000 долларов, Лео Сцилард наконец поступил в штат Колумбийского университета. Чтобы помогать Ферми, избегая тех трений, которые возникали между ними, когда они работали бок о бок, Сцилард со свойственным ему талантом к хитроумному улещиванию взялся за обеспечение поставок очищенного урана и графита. Сохранилось огромное множество образцов его переписки с американскими производителями графита, узнавшими, к своему ужасу, что материалы, которые они считали идеально чистыми, были на самом деле безнадежно загрязнены и часто содержали небольшие вкрапления бора. Этот легкий, вездесущий, похожий на кремний элемент, занимающий пятую клетку периодической таблицы, имеет огромное сечение поглощения нейтронов, что приводило в данном случае к катастрофическим последствиям. «В это время Сцилард принимал чрезвычайно решительные и сильные меры, пытаясь организовать первые стадии производства чистых материалов, – говорит Ферми. – <…> Он проделал великолепную работу, которую впоследствии продолжила организация еще более могущественная, чем даже сам Сцилард. Хотя сравняться в этом отношении со Сцилардом было непросто»[1741].
В августе и сентябре группа Колумбийского университета готовилась к сборке самой крупной из всех спроектированных до сих пор уран-графитовых решеток. Для возникновения в природном уране цепной реакции на медленных нейтронах, как и для реакции на быстрых нейтронах в 235U, требуется критическая масса: количество урана и замедлителя, достаточное для поддержания размножения нейтронов, несмотря на неизбежные потери нейтронов, вылетающих через внешнюю поверхность. Параметров этого критического количества еще никто не знал, но было понятно, что оно должно быть огромным – порядка нескольких сотен тонн. Возможно, чтобы запустить самоподдерживающуюся цепную реакцию, можно было просто складывать вместе все больше урана и графита. Но такой грубый опыт, даже если бы он и удался, дал бы экспериментатору чрезвычайно мало информации об управлении получившейся реакцией и мог бы закончиться катастрофическим и даже смертельно опасным выходом из-под контроля. Ферми предложил не столь прямой подход к этой задаче: провести несколько докритических экспериментов, которые позволили бы определить необходимые количества материалов и схемы их расположения, а также разработать методы управления.
Как обычно, он непосредственно опирался на предыдущий опыт. Они с Андерсоном рассчитали сечение поглощения в углероде, измерив длину диффузии нейтронов, вылетающих из источника вверх сквозь графитовый столб. В последующих экспериментах столб увеличивали, используя увеличившиеся к этому времени запасы графита и устанавливая регулярно расположенные вставки из оксида урана. Схема была предельно проста, но ее физическим воплощением стала толстая, тускло-черная, скользкая масса, составленная приблизительно из тридцати тонн графита[1742] в форме штампованных балок, между которыми было расположено восемь тонн оксида. Ферми назвал эту конструкцию словом pile. «В это время создавалась значительная часть ставшей стандартной терминологии ядерной физики, – пишет Сегре. – <…> В течение некоторого времени я думал, что такое название было введено для источника ядерной энергии по аналогии с итальянским словом pila, которым Вольта назвал свое великое изобретение – источник электрической энергии [т. е. вольтов столб]. Мои иллюзии разрушил сам Ферми, сказавший, что просто использовал английское слово pile в значении “куча”[1743]»[1744]. Итальянский лауреат продолжал осваивать напевы американской речи.
Экспоненциальный котел (названный так, потому что экспонента входила в расчеты соотношений его параметров с параметрами полномасштабного реактора)[1745], который собирался построить Ферми, не поместился бы ни в одну из лабораторий Пьюпин-холла. Ему требовалось более крупное помещение:
Мы пошли к декану Пеграму, который был способен творить в университете настоящие чудеса, и объяснили ему, что нам нужно большее помещение. И оно должно быть действительно большим. Он, кажется, пошутил насчет того, что церковь вряд ли можно считать самым подходящим местом для физической лаборатории… но мне кажется, что нам как раз и нужно было именно что-то вроде церкви. В общем, он стал обследовать кампус, и мы бродили с ним по темным коридорам, пробираясь под разными отопительными трубами и так далее, осматривая возможные площадки для эксперимента, и в конце концов нашли большое помещение – не церковь, но нечто сравнимых с церковью размеров, – в Шермерхорн-холле.
Там, продолжает Ферми, они начали собирать «конструкцию, казавшуюся в то время на порядок больше, чем все, что мы видели раньше… Она состояла из графитовых брикетов, а в эти графитовые блоки были вставлены расположенные по определенной схеме большие кубические канистры, в которых был оксид урана»[1746]. Эти канистры размером 20 20 20 см, общим количеством 288 штук, были сделаны из покрытых оловом железных листов; в каждую помещалось около 27 кг оксида урана[1747]. Длина ребра каждой кубической «ячейки» уран-графитовой решетки – канистры и окружающего ее графита – составляла 40 см. Более эффективной была бы конфигурация со сферическими ячейками и урановыми шарами. В этих начальных экспериментах с материалами сомнительной чистоты Ферми хотел получить оценки с точностью до порядка величины, первую приблизительную карту неизведанных территорий. «Эта конструкция была выбрана по соображениям структурной простоты, – писали впоследствии экспериментаторы, – так как ее можно было собрать, не разрезая имевшиеся графитовые блоки размером 10 на 10 на 30 см. Хотя мы не ожидали, что конструкция будет слишком близка к оптимальным пропорциям, нам казалось желательным как можно скорее получить некоторую предварительную информацию»[1748]. Кроме того, многообещающие результаты могли помочь в обеспечении дальнейшей поддержки НКОИ.
«Нам предстояла большая, трудная и грязная работа, – вспоминает Герберт Андерсон. – Черный порошок оксида урана нужно было… нагревать, чтобы избавиться от нежелательной влажности, а затем упаковывать в горячем виде в контейнеры и герметично запаивать их. Чтобы получить нужную плотность, контейнеры заполнялись на вибрационном столе. Наша маленькая группа, в которую к этому времени входили Бернард Фельд, Джордж Вейль и Уолтер Зинн, смотрела на ожидавшее нас тяжелое дело без особого энтузиазма. Работа обещала быть изнурительной»[1749]. Но тут, как рассказывает Ферми, на выручку явился Пеграм:
Не то чтобы мы были слабаками, но мы, в конце концов, занимались умственной деятельностью. Поэтому декан Пеграм еще раз посмотрел на все это и сказал, что эта работа, по-видимому, несколько превосходит наши слабые силы, но в университете есть футбольная команда, около дюжины здоровых ребят[1750], и они берут почасовую работу, чтобы зарабатывать на оплату своего обучения. Почему бы нам их не нанять?
И это была чудесная идея. Руководить работой этих здоровых ребят, когда они раскладывали уран по контейнерам – просто запихивали его туда, – обращаясь с упаковками по 20 или 50 килограммов так же легко, как другие обращаются с весом в полтора-два килограмма, было истинным наслаждением[1751].
«Ферми пытался выполнить свою долю работы, – добавляет Андерсон, – когда началась его смена, он надевал лабораторный халат и энергично брался за дело вместе с футболистами, но было ясно, что до их уровня ему далеко. Все остальные члены нашей группы тут же нашли себе массу измерений и калибровок, которые, как оказалось, внезапно потребовали исключительно тщательной и высокоточной работы»[1752].
Для этого первого экспоненциального эксперимента, как и для многих аналогичных экспериментов после него, Ферми определил один универсальный параметр для оценки возможности цепной реакции – «коэффициент размножения k»[1753]. Величина k равна среднему числу вторичных нейтронов, которые произвел бы один исходный нейтрон в решетке бесконечного размера – другими словами, если бы у исходного нейтрона было неограниченное пространство для пробега до встречи с ядром урана. Один нейтрон нулевого поколения порождает k нейтронов первого поколения, k2 нейтронов второго поколения, k3 нейтронов третьего поколения – и так далее. Если k больше чем 1,0, то этот ряд расходится, то есть возникает цепная реакция, «что соответствует производству бесконечно большого числа нейтронов». Если же k меньше чем 1,0, то ряд в конце концов сходится к нулю, то есть цепная реакция затухает. Величина k зависит от количества и качества материалов, использованных в реакторе, и правильности их расположения.
Первое экстраполированное значение k, полученное в докритической решетке, которую собрала в сентябре 1941 года в Шермерхорн-холле футбольная команда Колумбийского университета, было разочаровывающим – всего 0,87. «Это на 0,13 меньше чем единица, – отмечает Ферми, то есть на 13 % меньше минимума, необходимого для запуска цепной реакции, – и это было плохо. Однако теперь у нас была надежная отправная точка, и нам, по сути дела, нужно было понять, сможем ли мы выжать еще 0,13 или, предпочтительно, чуть больше». Канистры были сделаны из железа, а железо поглощает нейтроны. «Значит, никаких канистр». Кубы урана работали менее эффективно, чем шары; в следующий раз группа Колумбийского университета использовала небольшие круглые болванки, спрессованные из урана. Материалы содержали загрязнения. «А как могут действовать эти загрязнения? – разумеется, они только вредят. Может быть, их вред и составляет порядка 13 %». Сцилард продолжил свои поиски более высокочистых материалов. «В этой области… можно было добиться значительного улучшения».
«Ну что же, – завершает свой рассказ Ферми, – а после этого был Перл-Харбор»[1754].
У Артура Комптона было на составление программы меньше двух недель между его разговором с Вэниваром Бушем и Джеймсом Брайантом Конантом за обедом в клубе «Космос» 6 декабря и состоявшимся 18 декабря первым совещанием новых руководителей программы, называвшейся теперь S-1. Это сокращение обозначало Первый отдел Управления научных исследований и разработок: руководить S-1 должен был Конант, но Национальный комитет оборонных исследований больше не имел к этой организации непосредственного отношения; программа создания атомной бомбы перешла от исследований к разработке. 18 декабря, как отмечает Конант в своей секретной истории проекта, которую он написал в 1943 году, «атмосфера была наэлектризована возбуждением: девять дней назад страна вступила в войну, и расширение программы S-1 было свершившимся фактом. Царили энтузиазм и оптимизм»[1755]. На следующий день[1756] Комптон передал свою программу Бушу, Конанту и Бриггсу, а 20 декабря дополнил ее памятной запиской. Проекты, руководство которыми он получил, были рассеяны по всей стране – над ними работали в Колумбийском университете, Принстоне, Чикаго и Беркли. Он предложил пока что оставить их на прежнем месте.
С началом войны, чтобы ни словом не разглашать того, над чем они работали, руководители проектов ввели в употребление неофициальный код: плутоний назывался «медью», уран-235 – «магнием», а уран вообще – бессмысленным британским выражением «трубный сплав». «Исходя из имеющихся данных, – писал Комптон на волне царившего в это время оптимизма, – кажется, что необходимое для взрыва количество меди составляет всего лишь половину количества, требуемого при использовании магния, а опасность преждевременного взрыва исключается». Однако, учитывая сложности инженерного проектирования химической установки по производству плутония с дистанционным управлением, он считал, что «производствомеди в полезных количествах займет больше времени, чем производство магния». Он предложил следующий график:
Определение условий для цепной реакции к 1 июня 1942 года.
Получение цепной реакции к 1 октября 1942 года.
Опытная установка по производству меди из реакции к 1 октября 1943 года.
Получение меди в пригодных для использования количествах к 31 декабря 1944 года.
Его график был рассчитан так, чтобы показать, что плутоний можно произвести к тому времени, когда это сможет повлиять на исход войны, – после Перл-Харбора Конант настаивал на этом требовании еще яростнее, чем раньше. Но работа по уран-графитовым системам еще не завоевала полного доверия Комптона. Если бы графит оказался непригодным для использования в качестве замедлителя, и «производству меди» пришлось бы дожидаться тяжелой воды (к изготовлению которой на уже существующем предприятии в Канаде призывал Гарольд Юри), то график Комптона был бы задержан на срок «от 6 до 18 месяцев»[1757]. А к тому времени могло быть слишком поздно для влияния на ход войны.
По оценке Комптона, в течение следующих шести месяцев реакторные исследования в Колумбийском университете, Принстоне и Чикаго должны были обойтись в 590 000 долларов расходов на материалы и 618 000 на зарплату и накладные расходы. «Эта цифра показалась мне большой, – скромно вспоминает он, – так как я привык иметь дело с исследованиями, на которые требовалось не больше нескольких тысяч долларов в год»[1758].
Для подготовки этой части доклада он встречался с Пеграмом и Ферми и пришел к выводу, что, когда появится металлический уран, этот проект следует сосредоточить в Колумбийском университете. В Рождество и в первые недели января коренному ньюйоркцу Герберту Андерсону пришлось искать в Нью-Йорке и окрестностях здание, достаточно большое для сборки в нем полномасштабного котла для цепной реакции[1759]. Не желая оставаться в стороне от изобретения неофициальных кодовых названий, группа из Колумбийского университета окрестила эту финальную операцию «экспериментом по варке яиц»[1760]. Андерсон обошел пешком промерзшие городские районы и нашел семь площадок, которые могли подойти для варки урановых яиц. 21 января он представил их на рассмотрение Сциларда; в их число входил стадион Поло-Граундз, авиационный ангар на Лонг-Айленде, принадлежавший компании Curtiss-Wright, и другой ангар, в котором компания Goodyear держала свои дирижабли.
Но по мере того как Комптон рассматривал работу всех тех групп, которые оказались теперь под его началом, – в течение января он трижды собирал их руководителей в Чикаго, – по их разногласиям и повторам в их работе становилось ясно, что вся работа по разработке технологий цепной реакции и химии плутония должна быть сосредоточена в одном месте. Пеграм предложил Колумбийский университет. Кроме того, рассматривались Принстон, Беркли и промышленные лаборатории в Кливленде и Питтсбурге. Комптон предложил Чикаго. Переезжать не хотелось никому.
Третье в новом году собрание, проходившее в субботу 24 января, Комптон проводил, лежа в постели в одной из скудно обставленных запасных спален на третьем этаже своего большого дома на Юниверсити-авеню: у него был грипп. Несмотря на опасность заразиться, туда приехали Сцилард, Эрнест Лоуренс, Луис Альварес – Лоуренс с Альваресом сидели на соседней кровати – и еще несколько человек. «Каждый превозносил достоинства своего места, – пишет Комптон, – и у всех были убедительные доводы. Я выступал за Чикаго»[1761]. Он уже заручился поддержкой администрации своего университета. «Чтобы помочь победе в этой войне, мы, если понадобится, перевернем университет вверх дном»[1762], – поклялся вице-президент университета. В этом и состоял первый довод Комптона: он знал руководителей университета, и они его поддерживали. Во-вторых, на Среднем Западе было больше физиков, которых можно было привлечь к работе, чем на побережьях, где запас сотрудников и аспирантов университетов был «совершенно истощен» другими военными программами. В-третьих, центральное положение Чикаго было удобнее для поездок на другие площадки.
Все это никого не убедило. У Сциларда в Колумбийском университете уже было сорок тонн графита и шла налаженная деятельность. Спор продолжался. Комптон, известный своей нерешительностью, терпел нападки собравшихся, сколько мог. «В конце концов, устав до изнеможения, но понимая, что необходимо принять твердое решение, я сказал им, что местом осуществления [проекта] будет Чикаго».
Лоуренс усмехнулся. «Здесь вы никогда не получите цепной реакции, – подначивал один нобелевский лауреат другого. – В Чикагском университете слишком медленный темп».
– Мы запустим цепную реакцию к концу года, – пообещал Комптон.
– Спорю на тысячу долларов, что не запустите.
– Принимаю пари, – ответил, по его словам, Комптон, – а присутствующие будут свидетелями.
– Я бы уменьшил ставку до пятицентовой сигары, – пошел на попятную Лоуренс.
– Согласен, – сказал Комптон, никогда в жизни не куривший сигар.
После того как все ушли, утомленный Комптон добрел до своего кабинета и позвонил Ферми. «Он сразу же согласился переехать в Чикаго»[1763], – пишет Комптон. Хотя Ферми и согласился, это решение было для него трудным. Он вел подготовку к следующим экспериментам. У него была группа в точности нужного ему размера. У него был славный дом в уютном пригороде. Опасаясь, что в связи с их статусом граждан враждебного государства их активы могут быть заморожены, они с Лаурой положили деньги, полученные с Нобелевской премией, в отрезок свинцовой трубы и спрятали ее под бетонным полом своего угольного погреба. Как пишет Лаура Ферми, «я уже привыкла считать дом в Леонии нашим постоянным жилищем, и мне страшно было подумать, что нужно опять куда-то перебираться»[1764][1765]. По ее словам, ее мужу «очень не хотелось переезжать. Но они (я понятия не имела, кто были эти “они”) решили перенести всю эту работу (что это была за работа, я тоже не знала) в Чикаго и сильно ее расширить, ворчал Энрико. Это была та самая работа, которую он начал в Колумбийском университете с небольшой группой физиков. Работать с небольшой группой во многих отношениях лучше. Такая группа может работать очень продуктивно»[1766]. Но страна вела войну. До конца апреля Ферми постоянно ездил туда и обратно на поезде, а потом обосновался в Чикаго. В конце июня Лаура извлекла из подпола свой клад и последовала за мужем.
На следующий день после совещания у постели больного Комптон отправил Сциларду, – который сразу вернулся в Нью-Йорк, – почтительную телеграмму: благодарю вас за приезд и квалифицированный рассказ о положении в колумбийском университете. теперь нам нужна ваша помощь в организации металлургической лаборатории унир в чикаго. не могли бы вы приехать с ферми и вигнером в среду утром… для обсуждения подробностей переезда и организации?[1767] В отличие от Радиационной лаборатории МТИ, название вновь созданной Металлургической лаборатории почти не скрывало ее назначения. Кто бы мог подумать, что целью ее работы было преобразование элементов для создания из не существующего на Земле металла взрывчатых шаров размером с бейсбольный мяч?
Перед переездом в Иллинойс группа Ферми собрала еще один экспоненциальный котел, в который было загружено в общей сложности около двух тысяч цилиндрических блоков спрессованного оксида урана, имевших восемь сантиметров длины и восемь сантиметров в диаметре, весом по два килограмма. Их вставляли в глухие скважины, высверленные прямо в графите. Новый член группы, молодой и красивый темноволосый экспериментатор Джон Маршалл, нашел на свалке в Джерси-Сити подходящий для этого пресс и установил его на седьмом этаже Пьюпин-холла; Уолтер Зинн спроектировал штамповочные матрицы из нержавеющей стали[1768]. Под давлением пресса измельченный оксид урана слипался так же, как слипается порошок, из которого делают лекарственные таблетки, например аспирин.
Ферми старался в максимальной степени избавить реактор от влаги, чтобы снизить интенсивность поглощения нейтронов. До этого он упаковывал оксид в канистры; теперь он решил заключить в металлический короб весь трехметровый графитовый куб. «Поскольку готовых коробов такой величины не бывает, – сухо отмечает Лаура Ферми, – Энрико заказал его в мастерской»[1769]. Для его изготовления, пишет Альберт Уоттенберг, присоединившийся к группе в январе, «нужно было сварить вместе множество полос листовой жести. По счастью, нам удалось найти жестянщика, у которого получались превосходные сварные швы. Однако работать с ним было очень непросто, потому что он не умел ни читать, ни говорить по-английски. Мы общались с ним посредством картинок, и он каким-то образом сумел выполнить эту работу»[1770]. Лаура Ферми продолжает этот рассказ: «Чтобы облегчить сборку, каждая часть была помечена фигуркой человечка: при правильной сборке короба все человечки должны были стоять на ногах, а если бы какая-нибудь часть была присоединена неправильно, человечек оказался бы перевернутым»[1771]. Перед установкой в котел блоки оксида урана нагревали до 250 °C. Содержимое огромного, размером с комнату, короба нагревали до температуры кипения воды, а затем откачивали его до низкого вакуума. Эти героические усилия позволили снизить влажность котла до 0,03 %. В конце апреля в улучшенных таким образом условиях те же, что и раньше, относительно загрязненные уран и графит позволили получить более воодушевляющее значение k – 0,918.
Тем временем Сэмюэл Аллисон собрал в Чикаго экспоненциальный котел меньшего размера – около двух метров – и получил в своей конструкции значение k, равное 0,94. Чикагский университет уже давно пожертвовал финансированием своей футбольной команды ради грантов на научную работу; Комптон реквизировал целый лабиринт неиспользуемых помещений под западной трибуной стадиона Стэгг-Филд, удобно расположенного чуть к северу от основного кампуса, и предоставил эти помещения Аллисону. Под прочными каменными фасадами стадиона с его готическими окнами и зубчатыми башнями находились раздевалки и закрытые корты. Неотапливаемый полуподвальный зал, который Аллисон использовал для своего эксперимента, имевший двадцать метров в длину, десять в ширину и восемь в высоту, был кортом для парной игры в сквош.
6 декабря 1941 года, в день расширения программы создания атомной бомбы, произошло еще одно судьбоносное событие: советские войска под командованием генерала Георгия Жукова начали на трехсоткилометровом фронте контрнаступление против германской армии, застывшей в снегах при морозе –37 °C всего в пятидесяти километрах от Москвы. «Подобно величайшему военному гению, прошедшему по этому же пути за век до него, – пишет Черчилль, подразумевая Наполеона Бонапарта, – Гитлер узнал теперь, что такое русская зима»[1772]. Сто дивизий, выставленных Жуковым, стали для немцев неприятным сюрпризом – их составляли «хорошо накормленные, тепло одетые, полные сил сибиряки, – как описывает их один из немецких военачальников, – полностью экипированные для зимней войны»[1773]. Вермахт же был к ней не готов, и армии, наступавшие на протяжении восьмисот километров и уже оказавшиеся было там, откуда был виден Кремль, отходили в направлении Германии, чуть не обращаясь в паническое бегство. Впервые с момента начала завоеваний Гитлера ему не удался блицкриг. «Наступила зима, – пишет Черчилль. – Стало ясно, что война будет затяжной»[1774]. Гитлер освободил от должности главнокомандующего своей армией и взял командование на себя. К концу марта его потери на Восточном фронте, считая раненых, но не больных, составили около 1,2 миллиона человек.
В Берлине понимали, что экономика Германии достигла пределов своего роста. Нужно было идти на компромиссы. Министерство вооружений и боеприпасов ввело правила, похожие на те, которые предлагал в Соединенных Штатах Конант, и руководитель программы военных исследований рейха сообщил о них физикам, занимавшимся изучением урана: «Эта работа… налагает требования, которые могут быть удовлетворены в условиях нынешнего кризиса рабочей силы и сырья только при наличии уверенности в получении от нее в ближайшем будущем полезных результатов»[1775]. Рассмотрев этот вопрос, Военное министерство решило понизить приоритет урановых исследований и передать большую их часть в ведение Министерства образования, которым руководил Бернгард Руст, не имевший естественно-научного образования обергруппенфюрер СС, бывший провинциальный учитель, который отказал Лизе Мейтнер в разрешении на эмиграцию после аншлюса Австрии. Физики были рады избавиться от армейского руководства, но перевод под управление заштатного министерства, которое возглавлял бездарный партийный политикан, их огорчил. Руст перепоручил свои полномочия Имперскому совету по научным исследованиям (Reichsforschungsrat). Эта организация была частью Имперского бюро стандартов. Физики из Институтов кайзера Вильгельма считали руководителя ее физического отдела Абрахама Эзау некомпетентным. По сути дела, статус германского уранового проекта упал до того же уровня, на котором находился в США старый Урановый комитет, и у этого проекта теперь тоже был свой Бриггс.
Исследовательский совет решил напрямую обратиться за поддержкой к высшим эшелонам рейха. Он организовал тщательно продуманное ознакомительное совещание, на которое были приглашены высокопоставленные лица, в том числе Герман Геринг, Мартин Борман, Генрих Гиммлер, главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Эрих Редер, фельдмаршал Вильгельм Кейтель и Альберт Шпеер, пользовавшийся восхищением Гитлера аристократичный архитектор, ставший министром вооружений и военной промышленности. На этом собрании, которое должно было пройти 26 февраля под председательством Руста, были запланированы выступления Гейзенберга, Гана, Боте, Клузиуса и Хартека, а также «экспериментальный обед», в меню которого были блюда из замороженных продуктов, приготовленные на синтетическом жире, и хлеб из соевой муки[1776].
К несчастью для грандиозных планов совета, секретарша, которой была поручена рассылка приглашений, вложила в конверты программу другого мероприятия. В тот же день в Гарнак-хаусе Общества кайзера Вильгельма должна была пройти секретная научная конференция под эгидой Технической службы вермахта. В ее программе было двадцать пять узкоспециализированных научных докладов. Именно эту программу по ошибке и получили руководители рейха. Гиммлер выразил свое сожаление: в этот день его не будет в Берлине. Кейтель оказался «слишком занят»[1777]. Редер обещал прислать своего представителя. Никто из высших руководителей приехать на совещание не пожелал.
То, что рассказывал там Гейзенберг, могло бы их удивить. Он сделал основной акцент на атомной энергетике, но говорил и о военных приложениях. «Таким образом, чистый уран-235 можно считать взрывчатым веществом совершенно невообразимой силы, – сказал он аудитории, состоявшей из служащих невысокого уровня. – Американцы, по-видимому, развивают исследования в этой области с особенной настойчивостью». Внутри уранового реактора «образуется новый элемент [т. е. плутоний]… по всей вероятности такой же взрывчатый, как и уран-235, и обладающий той же колоссальной мощностью»[1778]. Одновременно с этим в Гарнак-хаусе, в котором когда-то жил со своими упакованными чемоданами Лео Сцилард, представителям Технической службы рассказывали, что «для детонации этого взрывчатого вещества достаточно будет соединить два его фрагмента общим весом от десяти до ста килограммов»[1779].
Итак, имелось принципиальное понимание одного из прямых путей к атомной бомбе – через плутоний. Не хватало денег и материалов. Совещание 26 февраля переубедило по меньшей мере министра образования. «Крупное финансирование впервые было выделено в Германии, – вспоминал Гейзенберг в конце войны, – весной 1942 года, после той встречи с Рустом, на которой мы убедили его, что у нас есть абсолютно неопровержимые доказательства, что это осуществимо»[1780]. Средства, о которых говорит Гейзенберг, были «крупными» лишь по сравнению со скромными фондами, которые выделялись до этого. Для того чтобы получить финансирование, хотя бы приближающееся к тем миллиардам рейхсмарок, которых требовало производство даже десятка килограммов 235U или плутония, в военной пользе атомной энергетики следовало убедить не Бернгарда Руста, а Альберта Шпеера.
После войны Шпеер не мог вспомнить приглашения на совещание 26 февраля. Он впервые услышал об атомной энергии, пишет он в своих воспоминаниях, за одним из регулярных частных обедов с генералом Фридрихом Фроммом, командующим Резервной армией. «Как-то во время обеда в конце апреля 1942 года [Фромм] заметил, что наш единственный шанс на победу – разработка совершенно нового оружия. Он также сказал, что контактирует с группой ученых, которые изобретают оружие, способное уничтожить целые города… Фромм предложил вместе посетить этих ученых». Той же весной к Шпееру обратился президент Общества кайзера Вильгельма, жаловавшийся на недостаточную поддержку урановых исследований. «6 мая 1942 года я обсудил сложившуюся ситуацию с Гитлером и предложил назначить Геринга на пост председателя Имперского совета по научным исследованиям, что подчеркнуло бы важность этой проблемы»[1781][1782].
Переход под начало тучного фельдмаршала, командовавшего люфтваффе, которого Гитлер назначил своим преемником, имел лишь символическое значение. Более важным было совещание, прошедшее 4 июня в Гарнак-хаусе; на нем присутствовали Шпеер, Фромм и конструктор автомобилей и танков Фердинанд Порше, а также другие высокопоставленные военные и руководители промышленности. В феврале Гейзенберг посвятил большую часть своего доклада атомной энергетике. На этот раз он особо подчеркивал военные перспективы. Секретарь Общества кайзера Вильгельма был удивлен: «Слово “бомба”, звучавшее на этом совещании, было новым не только для меня, но и для многих других присутствовавших, как я видел по их реакции»[1783]. Для Шпеера оно новостью не было. Когда Гейзенберг отвечал на вопросы из зала, один из заместителей Шпеера спросил, какого размера должна быть бомба, способная уничтожить целый город. Гейзенберг сложил ладони так же, как складывал их Ферми, глядя на панораму Манхэттена из окна Пьюпин-холла. «Не крупнее ананаса»[1784], – сказал он.
По окончании выступлений Шпеер расспросил Гейзенберга лично. Как можно использовать ядерную физику для производства атомных бомб? Немецкий лауреат, по-видимому, старался не брать на себя определенных обязательств. «Его ответ далеко не обнадеживал, – вспоминает Шпеер. – Он заявил, что научное решение проблемы действительно уже найдено, и теоретически ничто не мешает создать подобную бомбу, однако технические условия для производства можно создать лишь через несколько лет, никак не ранее чем через два года, даже при максимальной поддержке программы». Гейзенберг сказал, что их особенно сдерживает отсутствие циклотронов. Шпеер предложил построить циклотроны, «столь же или даже еще более мощные, чем американские». Гейзенберг возразил, что у немецких физиков нет опыта строительства больших циклотронов, и начинать придется с установок малой мощности. Шпеер «призвал ученых информировать меня о том, сколько им необходимо денег и материалов для дальнейших ядерных исследований». Через несколько недель они так и сделали, но их запрос показался рейхсминистру, привыкшему оперировать миллиардами марок, совершенно ничтожным. Они запросили «несколько сотен тысяч марок, небольшое количество стали, никеля и других стратегических металлов… Неприятно удивленный скромностью требований в таком важном деле, я предложил один или два миллиона марок и соответственно большее количество материалов. Однако в тот момент ученые, очевидно, не смогли бы освоить предложенные ресурсы. Так или иначе, у меня создалось впечатление, что атомная бомба вряд ли сможет оказать влияние на ход войны»[1785][1786].
Шпеер регулярно встречался с Гитлером и немедленно сообщил ему о том, что узнал на июньских совещаниях:
Гитлер иногда заговаривал со мной о возможности создания атомной бомбы, но эта проблема явно выходила за рамки его интеллектуальных возможностей. Он был не в состоянии понять революционного значения ядерной физики. Из двух тысяч двухсот запротоколированных вопросов, обсуждавшихся на моих совещаниях с Гитлером, проблема расщепления атомного ядра всплывает лишь однажды и упоминается вскользь, а мой отчет о разговорах с физиками лишь утвердил его во мнении, что большой выгоды от ядерных исследований ждать не стоит. По сути, профессор Гейзенберг так и не дал уверенного ответа на мой вопрос, можно ли с абсолютной надежностью управлять делением ядра, или же оно может перерасти в цепную реакцию. А Гитлера не приводила в восторг мысль о том, что покоренная им Земля может превратиться в пылающую звезду. Иногда, правда, он шутил, что ученые – люди не от мира сего, в своем стремлении раскрыть все тайны природы когда-нибудь подожгут земной шар. Но это, несомненно, случится не скоро, говорил Гитлер; сам он наверняка до этого не доживет[1787].
Тогда, по словам Шпеера, «мы прикрыли проект по производству атомной бомбы по предложению физиков-ядерщиков… после того, как я еще раз расспросил их о сроках и услышал, что на получение каких-либо результатов в течение трех или четырех лет рассчитывать не приходится». Однако было решено продолжить работу над, как называет его Шпеер, «энергопроизводящим урановым мотором для двигательных агрегатов»[1788] – то есть реактором на тяжелой воде. «В результате, – писал Гейзенберг в 1947 году в журнале Nature, подводя итоги военных лет, – [германским физикам] не пришлось решать, следует ли им стремиться к созданию атомной бомбы. Обстоятельства, определившие политические решения в поворотном 1942 году, помимо их участия направили их работу на решение задачи применения ядерной энергии в движителях»[1789]. Но союзники об этом еще не знали.
«Возможно, мы участвуем в состязании на скорость осуществления проекта, – писал Вэнивар Буш Франклину Рузвельту 9 марта 1942 года, – но, если это так, у меня нет никакой информации о состоянии вражеской программы, и я не принимал никаких определенных мер для ее получения»[1790]. Почему именно Буш был так нелюбознателен, остается загадкой. Конанта, Лоуренса и Комптона, не говоря уже об иммигрантах, постоянно тревожила возможность появления германской бомбы. Именно она была основной причиной того, что они так настойчиво призывали к созданию бомбы американской. У Буша и Рузвельта были другие мотивы – с их точки зрения, бомба должна была обеспечить прежде всего наступательные преимущества, – но эти два руководителя, сознававшие опасность, исходящую из Германии, поразительно мало нтересовались возможностью ее оценки.
В отчете, который был приложен к письму Буша[1791], утверждалось, что от двух до пяти килограммов «активного материала» должны «с достаточной вероятностью» давать взрыв, эквивалентный по силе 2000 тонн ТНТ; доклад Национальной академии наук от 6 ноября предыдущего года оценивал эту величину всего в 600 тонн. Отчет рекомендовал создание установки для центрифугирования стоимостью 20 миллионов долларов, которая могла бы ежемесячно производить 235U в количестве, достаточном для одной бомбы; предполагалось, что такая установка может быть завершена к декабрю 1943 года. Газодиффузионная установка, стоимость которой не указывалась, могла быть введена в строй к концу 1944 года. Больше всего внимания в отчете уделялось установке для электромагнитного разделения изотопов – проекту Эрнеста Лоуренса: возможно, писал Буш, она сможет «открыть короткий путь» и позволит получить «вполне достаточное для применения количество материала к лету 1943 года, что соответствует экономии времени порядка шести месяцев или даже больше». Вкратце, «по существующему сейчас мнению, успешное применение, возможно, будет иметь чрезвычайно большое значение и может оказать решающее влияние на военные действия. По наиболее достоверным оценкам, проект может быть завершен в 1944 году, если к его ускорению будут приложены все возможные усилия».
Рузвельт ответил через два дня: «Я думаю, что все это дело следует интенсифицировать не только с точки зрения разработок, но и с точки зрения времени. Это чрезвычайно важно»[1792]. Теперь ограничивающим фактором разработки атомной бомбы стало время, а не деньги.
На совещании 23 мая все руководители программы встретились с Конантом, чтобы решить, какие из нескольких возможных способов изготовления бомбы следует доводить до стадий опытных установок и промышленного производства. Методы центрифугирования, барьерной газовой диффузии, электромагнитного разделения изотопов и производства плутония в реакторе на графите или тяжелой воде выглядели одинаково перспективно. Какие из них следовало развивать дальше, учитывая дефицит и финансовые приоритеты военного времени? Конант предложил сформулировать решение, исходя из логики гонки вооружений:
Хотя все пять методов выглядят сейчас приблизительно одинаково перспективно, время, которого потребует изготовление дюжины бомб каждым из пяти способов, явно не будет одинаковым; из-за непредвиденных задержек разброс может достигать шести месяцев или года. Поэтому, если мы откажемся сейчас от одного, двух или трех методов, может оказаться, что мы неосознанно поставили на менее быструю лошадь. На мой взгляд, решение о том, насколько «всеохватывающей» должна быть наша работа, вполне может зависеть от военной оценки того, что случится, если одна из воюющих сторон получит дюжину или даже пару бомб раньше, чем другая[1793].
В связи с этим Конант изучил информацию о германской атомной программе[1794], в том числе новые свидетельства разведывательной деятельности: полученные из Британии сведения о наличии у немцев тонны тяжелой воды, сообщение Петера Дебая (которое он передал за полтора года до этого, сразу по приезде в Соединенные Штаты) о напряженной работе его коллег в KWI, а также «недавно перехваченные инструкции их агентам в нашей стране, [которые] демонстрируют, что наша деятельность их интересует». Конант считал последнее доказательство самым убедительным. «Если они работают интенсивно, они не могут сильно отставать от нас, так как они начали в 1939 году с теми же исходными данными, что и британцы, и мы сами. В Германии все еще остается множество компетентных ученых. Они могут опережать нас на целый год, но вряд ли более того».
Если решающим фактором было время, а не деньги, – говоря словами Конанта, «если обладание новым оружием в достаточном количестве сможет определить исход войны», – то «трехмесячная задержка может иметь гибельные последствия». Отсюда следовало, что все пять методов следует развивать одновременно, несмотря на то что «применение такого наполеоновского подхода к задаче потребовало бы выделения приблизительно 500 000 000 долларов и огромной массы техники»[1795].
Гленн Сиборг прибыл в Чикаго в 9:30 утра воскресенья 19 апреля 1942 года, своего тридцатого дня рождения, на дизельном экспрессе «Город Сан-Франциско»[1796]. Выйдя с вокзала, он заметил, что в Чикаго холоднее, чем в Беркли, – этим весенним утром там было всего 4,5 °C. Из заголовков газет, выставленных в киоске, он узнал о последних событиях войны в Тихом океане: японцы сообщали, что американские самолеты бомбили Токио и еще три города на острове Хонсю. Ни командующий войсками в юго-восточной части Тихого океана генерал Дуглас Макартур, ни вашингтонские власти не признали, что имели какое-либо отношение к этому неожиданному налету (это был пропагандистский рейд Джимми Дулитла, в котором шестнадцать бомбардировщиков B-25 взлетели с американского авианосца «Хорнет», пролетели над Японией и приземлились в Китае[1797]). «Этот день… отмечает важный этап в моей жизни, – пишет Сиборг в своих тщательно документированных воспоминаниях, составленных в форме дневника, – так как с завтрашнего дня я беру на себя руководство группой химии элемента 94 в Металлургической лаборатории на территории Чикагского университета, центральном компоненте Металлургического проекта»[1798].
Преобразовать 238U в плутоний в котле, в котором идет цепная реакция, было недостаточно: еще нужно было извлечь плутоний из урана. Огромные производственные реакторы, которые уже начинали проектировать сотрудники Комптона, должны были производить в уране новый элемент в концентрации, не превышающей приблизительно 250 частей на миллион[1799], – в каждых двух тоннах смеси урана с высокорадиоактивными продуктами деления должен был быть равномерно распределен плутоний, суммарный объем которого равнялся объему американской десятицентовой монеты. Задачей Сиборга было каким-то образом извлечь этот десятицентовик.
Сиборг уже проделал немалую работу в Беркли, изучая необычные химические свойства плутония. Окислителями называют химические вещества, отбирающие электроны с внешних оболочек атомов. Восстановители, напротив, добавляют на внешние оболочки атомов новые электроны. Как выяснялось, плутоний осаждается по-разному при обработке окислителями и восстановителями. Как выяснили исследователи из Беркли, при окислении до +4 этот рукотворный элемент можно осадить из раствора, используя в качестве носителя соединение редкоземельного элемента, например фторид лантана. Если окислить тот же плутоний до +6, осаждение перестает работать: носитель кристаллизуется, а плутоний остается в растворе. Это навело Сиборга на основной принцип выделения плутония:
Мы разработали метод циклического окисления-восстановления… Его принцип был применим к любому процессу с использованием веществ, которые являются носителями для плутония в одной определенной степени окисления, но не в других степенях… Например, к плутонию в одной степени окисления можно применить некий носитель и, таким образом, отделить его от урана и продуктов деления. Затем носитель и плутоний [имеющие теперь форму твердых кристаллов] можно растворить, изменить степень окисления плутония и снова осадить носитель, причем плутоний остается в растворе. Затем можно снова изменить степень окисления плутония и заново повторить весь цикл. При помощи процедуры такого типа, если провести большое число циклов окисления-восстановления, можно отделить от плутония любые вещества, кроме загрязнений, химические свойства которых почти точно совпадают со свойствами самого плутония[1800].
В среду 26 апреля началась двухдневная химическая конференция с участием Юджина Вигнера, Гарольда Юри, принстонского теоретика Джона А. Уилера и нескольких химиков, уже работавших в Металлургической лаборатории. Ученые обсуждали семь возможных способов извлечения плутония из облученного урана. Предпочтение отдавалось четырем методам, которые казались особенно подходящими для производства с дистанционным управлением; осаждение в их число не входило. Только что приехавший Сиборг возразил: «Я, однако, выразил уверенность в достоинствах осаждения»[1801]. Тем не менее решено было исследовать все семь предложенных методов. Это требовало полной занятости сорока человек. Одной из обязанностей Сиборга на несколько ближайших месяцев стала вербовка. Это его беспокоило: «Иногда я чувствую себя несколько неуверенно, когда предлагаю… людям оставить гарантированную работу в университете и перейти в Металлургическую лабораторию. Им приходится рисковать своей будущей карьерой, и никто не знает, на какой срок они будут оторваны от своей основной деятельности». Но хотя никто не знал, как долго продлится эта работа, большинство ее участников поверило в ее исключительную важность: «И здесь, и в Беркли довольно сильно распространено утверждение, которое формулируется приблизительно следующим образом: “Что бы ты ни делал всю остальную жизнь, в ней никогда не будет ничего настолько же важного для будущего мира, как работа в этом проекте прямо сейчас”»[1802].
До сих пор Сиборг изучал плутоний, отслеживая характерную радиоактивность микроскопических количеств этого вещества, растворенных в гораздо большем объеме носителя. Такой же индикаторной химией занимались раньше Ган, Ферми и супруги Жолио-Кюри. Однако химические реакции часто проходят по-разному при разных уровнях растворения. Сиборг понимал, что, чтобы продемонстрировать применимость процесса выделения в промышленном масштабе, ее необходимо продемонстрировать на концентрациях промышленного уровня. В мирное время он мог бы дождаться сооружения и запуска в работу такого крупного реактора, который обеспечил бы производство хотя бы нескольких граммов плутония. Но эта нормальная процедура была роскошью, которой программа создания бомбы не могла себе позволить.
Вместо этого Сиборг стал искать способы получения большего количества плутония без реактора и способы работы с концентрированными растворами того малого количества, которое он мог получить. В решении первой из этих задач ему на помощь пришли ресурсы УНИР, в решении второй – его собственные воображение и изобретательность. Он реквизировал метровый циклотрон Университета Вашингтона в Сент-Луисе, в котором некогда отсиживался Комптон, и организовал героическую, продолжавшуюся неделями и месяцами, бомбардировку нейтронами 140-килограммовых партий гексагидрата уранилнитрата (UNH). Такая продолжительная и интенсивная бомбардировка дала ему несколько микрограммов – миллионных долей грамма – плутония; это количество почти невозможно было разглядеть невооруженным глазом. Теперь ему нужно было каким-то образом разработать методики его смешивания, измерения и анализа.
Ранее в этом же месяце, когда Сиборг читал лекцию в Нью-Йорке, он разыскал там чудаковатого человека Антона Александра Бенедетти-Пилчера, который был профессором в Куинз-колледже во Флашинге и первопроходцем в области ультрамикрохимии, методики работы с предельно малыми количествами химических веществ. Бенедетти-Пилчер подробно проинструктировал Сиборга и обещал прислать список основного оборудования. Сиборг нанял одного из бывших студентов Бенедетти-Пилчера, и они вдвоем распланировали лабораторию ультрамикрохимического анализа. «Мы стали искать подходящее место, где не было бы вибрации, мешающей работе микровесов, и остановились на кабинете 405 (бывшей проявочной), в котором был бетонный стол»[1803]. Размеры бывшей проявочной – два на три метра, если не меньше, – вполне соответствовали характеру предстоящей работы.
В Беркли преподавал еще один специалист по ультрамикрохимии, Пол Керк. Сиборг привлек к своей работе Берриса Каннингема, недавно защитившегося аспиранта Керка, и студента-старшекурсника Луиса Б. Вернера. «Я всегда считал себя высоким», – отмечает нобелевский лауреат по химии, но двухметровый Вернер был выше его сантиметров на десять и «еле помещался»[1804] в крошечной лаборатории.
При помощи специализированных ультрамикрохимических инструментов молодые химики могли работать с неразбавленными образцами химикатов весом всего в десятые доли микрограмма (десятицентовая монета весит около двух с половиной граммов – 2 500 000 микрограммов). Они манипулировали этими веществами на предметном столике бинокулярного стереоскопического микроскопа, настроенного на 30-кратное увеличение. Вместо пробирок и колб использовались капиллярные трубки из тонкого стекла; пипетки наполнялись автоматически под действием силы капиллярного притяжения; миниатюрные шприцы для подкожных инъекций, установленные на микроманипуляторах, впрыскивали реагенты и отсасывали их из конических резервуаров миниатюрных центрифуг; эти центрифуги отделяли твердые осадки от жидкостей. Первые весы, которые использовались в этой работе, состояли из единственной кварцевой нити, один конец которой – подобно удочке, воткнутой в берег реки, – был закреплен в стеклянном футляре, который защищал нить от малейших колебаний воздуха. Для взвешивания тех ничтожных количеств веществ, с которыми они имели дело, химики подвесили к другому концу нити чашку, сделанную из кусочка платиновой фольги, почти неразличимого невооруженным глазом, и измеряли величину изгиба нити. Показания этих весов были откалиброваны с использованием стандартных разновесов. У более прочных весов, разработанных в Беркли, были две чашки, подвешенные на противоположных концах стержня из кварцевого волокна, который висел на микроскопических растяжках. «Кто-то сказал, – отмечает Сиборг, – что “мы взвешиваем невидимые материалы на невидимых весах”»[1805].
Помимо своих новых обязанностей в Металлургической лаборатории, Сиборг по-прежнему координировал основные научные исследования урана и плутония в Беркли. В начале июня он поехал в Калифорнию, чтобы встретиться с «ребятами с третьего этажа Гилман-холла»[1806] и жениться на секретарше Эрнеста Лоуренса. 6 июня, по дороге в Чикаго проездом через Лос-Анджелес, в котором жили родители Сиборга, жених и невеста собирались быстро обвенчаться в Неваде. Они сошли с поезда в невадском городке Калиенте, сдали свои чемоданы на хранение станционному телеграфисту и спросили, как пройти в мэрию. «Но к нашему огорчению, выяснилось, что никакой мэрии тут нет, а чтобы получить разрешение на вступление в брак, нам придется ехать в столицу округа, город Пиоче, расположенный километрах в 40 к северу»[1807]. По счастью, оказалось, что помощник шерифа Калиенте, заодно занимавшийся там организацией поездок и решением всевозможных проблем вообще, заканчивал в июне химический факультет Беркли. Он посадил профессора и его невесту, Хелен Григгс, на почтовую машину, шедшую в Пиоче. «Свидетелями на нашей свадьбе были уборщик и [какой-то] дружелюбный клерк. Мы вернулись в Калиенте на почтовом грузовике, отправлявшемся в 16:30, и остановились на ночь в тамошней гостинице»[1808].
Вернувшись в Чикаго 9 июня, Сиборг завез жену в квартиру, которую он снял перед отъездом в Калифорнию, и немедленно поехал на работу. Там он нашел в своей почте сообщение о том, что Эдвард Теллер начинает работу в теоретической группе чикагского проекта под руководством Юджина Вигнера.
Два дня спустя к Сиборгу зашел приехавший в Чикаго Роберт Оппенгеймер; они были старыми друзьями, но «это был не просто дружеский визит»[1809]. Грегори Брейт, работавший в Висконсине теоретик из Уранового комитета, отвечавший за исследования быстрых нейтронов, отказался от работы в проекте по созданию бомбы в знак протеста против серьезных, по его мнению, нарушений режима безопасности. «Уровень секретности в проекте д-ра Комптона не кажется мне удовлетворительным», – писал он Бриггсу 18 мая. Приведенный им перечень примеров нарушений кажется почти параноидальным. «В чикагском проекте есть несколько убежденных противников секретности. Например, когда я был в отъезде, один из сотрудников уговорил мою секретаршу выдать ему некоторые официальные отчеты из моего сейфа… Тот же индивидуум весьма свободно разговаривает с членами группы… Я слышал, как он утверждал, что все части работы настолько тесно связаны друг с другом, что было бы желательно обсуждать их в совокупности»[1810]. Опасным индивидуумом, которого Брейт предпочел не называть по имени, был Энрико Ферми, старавшийся как можно быстрее запустить цепную реакцию. Комптон назначил на место Брейта Оппенгеймера, и тот пришел к Сиборгу за информацией об исследованиях быстрых нейтронов, которые Сиборг координировал в Беркли. Изучение реакций на быстрых нейтронах, отмечает Сиборг, было «необходимой предпосылкой к разработке конструкции атомной бомбы»[1811]. Оппенгеймер нашел себе место в самом основании проекта.
17 июня группа, работавшая на циклотроне Университета Вашингтона, разместила вокруг бериллиевой мишени установки первые 136 килограммов гексагидрата уранилнитрата. Предполагалось бомбардировать UNH в течение месяца, до 50 000 микроампер-часов. Хотя существование цепной реакции еще не было доказано и никто еще не видел плутония, различные комитеты Металлургической лаборатории, в которые входил Сиборг, уже начали обсуждать конструкцию и местоположение больших производственных реакторов мощностью по 250 000 киловатт, которые, если все будет в порядке, должны были производить этот необычный металл килограммами. Ферми считал, что, исходя из соображений безопасности, для установки по производству плутония требуется площадка шириной полтора и длиной три километра. Комптон предложил поочередно строить реакторы все большей мощности, чтобы постепенно добраться до уровня полномасштабного производства, и рассматривал альтернативные площадки в дюнах на озере Мичиган и в долине реки Теннесси.
Многие из имевшихся задач, в том числе весьма фундаментальных, свелись в конечном итоге к вопросу охлаждения больших реакторов. На раннем этапе организации Металлургической лаборатории Комптон учредил для рассмотрения таких вопросов инженерный совет; помимо инженера и специалиста по промышленной химии, в его состав входили, в частности, Сэмюэл Аллисон, Ферми, Сиборг, Сцилард и Джон А. Уилер. К концу июня дискуссии на заседаниях этого совета перешли в стадию предварительного планирования. В качестве одного из возможных хладагентов рассматривался гелий, который должен был циркулировать под высоким давлением внутри герметичной стальной оболочки; нулевое сечение поглощения нейтронов этим веществом было лишь одним из нескольких его преимуществ. В другом варианте предлагалось водяное охлаждение: вода была наиболее знакомым инженерам рабочим телом для теплообменников, но могла разъедать уран. Третья, более экзотическая, возможность предполагала использование висмута, металла с температурой плавления всего 271 °C, который применяется в твердом виде в качестве индикатора нагрева в плавких предохранителях и устройствах пожарной сигнализации. В расплавленном состоянии он обеспечивал бы гораздо более эффективную теплопередачу, чем гелий или вода. Сцилард выступал за систему охлаждения на жидком висмуте, в частности, потому, что для циркуляции этого металла через котел можно было использовать увеличенный вариант магнитного насоса, который они с Альбертом Эйнштейном изобрели для холодильников, механизма, в котором не было движущихся частей, которые могли бы протечь или сломаться.
Инженерный совет отверг идею жидкостного охлаждения, пишет Сиборг, «из-за потенциального химического воздействия, опасности протечек и сложностей теплопередачи от оксида… Все согласились на использование гелия»[1812].
Юджина Вигнера не пригласили в этот совет, несмотря на его интерес к рассматривавшимся там задачам и обширные знания в области химических технологий. Вигнер был горячим сторонником водяного охлаждения, говорит Сцилард, потому что «водяную систему охлаждения можно было соорудить за гораздо меньшее время»[1813]. Сиборг подтверждает, что Вигнера постоянно и остро беспокоили мысли о германской бомбе:
Комптон пересказал разговор, бывший у него с Вигнером, о возможном графике работ у немцев. Как и у нас, у них было на подготовку бомбы три года, считая с момента открытия деления. Если они знают о [плутонии], то в результате работы реактора на тяжелой воде мощностью 100 000 кВт в течение двух месяцев они могут получить шесть килограммов этого вещества; таким образом, к концу этого [1942] года у них может быть шесть бомб. Мы же планируем начать производство бомб только в первой половине 1944 года[1814].
Комптон дал группе Вигнера добро на разработку реактора с водяным охлаждением, но детальную конструкторскую проработку заказал только для системы, использующей гелий.
Главным вопросом, скрытым за техническими дискуссиями, был вопрос полномочий, и по меньшей мере Сцилард понимал, что полномочия все больше сосредоточиваются в руках правительства США. Совещание, прошедшее 27 июня, еще сильнее обострило этот конфликт. В последнем отчете Буша Рузвельту, от 17 июня, предлагалось разделить конструкторские работы и собственно производство между УНИР и Инженерными войсками армии США, чтобы строительством и эксплуатацией заводов занимались военные, как Буш и планировал с самого начала. Рузвельт немедленно вернул сопроводительное письмо Буша с резолюцией «ОК. ФДР». В тот же день начальник Инженерных войск вызвал в Вашингтон для получения нового назначения полковника Джеймса К. Маршалла из Сиракузского инженерного округа; он окончил в 1918 году военную академию Вест-Пойнт и имел опыт строительства авиабаз. Маршалл выбрал на роль главного подрядчика проекта по созданию бомбы бостонскую строительно-инженерную корпорацию Stone & Webster. Комптон пригласил руководителей групп и членов планового совета на совещание 27 июня, чтобы сообщить им об этой реорганизации. В числе прочих на совещании присутствовали Аллисон, Ферми, Сиборг, Сцилард, Теллер, Вигнер и Зинн.
«Комптон начал совещание с мотивационной речи, – вспоминает Сиборг, – он призывал нас работать как можно энергичнее. Он сказал, что последние полгода нашей задачей было исследовать возможности изготовления атомной бомбы, – а теперь мы должны продолжать работу, исходя из военных соображений, предполагая, что бомба может быть создана, и мы можем считать, что будем заниматься этой работой до самого конца войны». Комптон постепенно подбирался к объявлению новых порядков. Он подчеркнул секретность программы. «В армии Соединенных Штатов есть всего лишь человек шесть, которые имеют право знать, что тут происходит», – пересказывает его слова Сиборг. В числе немногих удостоенных этой чести были военный министр Генри Л. Стимсон – волнующее соседство для тех, кто лишь недавно был аспирантом или никому не известным ученым, – и «два специалиста по строительству», генералы, имена которых назвал в своем выступлении Комптон. Он описал обязанности «специалистов по строительству» и наконец объявил главную новость: «Мы надеемся, что ответственность за производственные мощности возьмет на себя подрядчик». Такой подрядчик уже нашелся.
Объявление Комптона произвело именно тот эффект, которого он, по-видимому, опасался, продолжает Сиборг: «Некоторые из присутствующих выразили серьезные сомнения относительно работы на промышленного подрядчика, так как опасались, что такие условия будут несовместимы с их работой». Никто и не предполагал, что они будут работать на такого подрядчика, хотя им, разумеется, пришлось бы работать с ним, но, чтобы представить реорганизацию приемлемой, Комптон намекнул на худшие и все еще возможные альтернативы: «Было немало разговоров о возможности нашего включения в состав армии [т. е. призыва на службу в качестве офицеров] и возможных преимуществах и недостатках такого шага. Большинство участников совещания энергично возражали против такого варианта»[1815].
Эта проблема продолжала назревать в течение всего лета и вновь возникла осенью. Сцилард точно определил ее в своем меморандуме: «Абстрактно говоря, чикагские трудности вызваны тем фактом, что работа организована по принципам скорее авторитетным [sic: д. б. авторитарным], нежели демократическим»[1816]. Венгерский физик-мечтатель считал, что наука не может работать по указаниям свыше. «В 1939 году, – страстно писал он Вэнивару Бушу еще в мае, до споров о системах охлаждения и подрядчиках, – Провидение предоставило правительству Соединенных Штатов уникальную возможность; эта возможность была упущена. Теперь никто не может сказать, будем ли мы готовы, прежде чем германские бомбы сотрут американские города с лица земли. Та скудная информация о работах в Германии, которой мы располагаем, не внушает оптимизма, и можно с уверенностью сказать, что мы могли бы продвигаться вперед по меньшей мере в два раза быстрее, если бы наши затруднения были устранены»[1817].
В понедельник 27 мая из Сент-Луиса были доставлены на грузовике 136 килограммов облученного UNH – желтоватых кристаллов, похожих на каменную соль.
UNH был окружен слоем свинцовых кирпичей. [Трумэну] Кохману и [Элвину Г.] Кови было поручено разгрузить его и перенести в нашу лабораторию на четвертом этаже для извлечения 23994. Кристаллы UNH были упакованы в маленькие коробки разных размеров, в которых их можно было устанавливать в различные углубления вокруг мишени циклотрона. Некоторые коробки были сделаны из мазонита[1818], но большинство – из шестимиллиметровой фанеры. К несчастью, некоторые из коробок разошлись по швам или растрескались, и из них высыпались кристаллы горячего [т. е. радиоактивного] UNH. Мы не смогли раздобыть никаких приборов для измерения радиоактивности. Я сказал Кохману и Кови, что самой лучшей защитой будут резиновые перчатки и лабораторные халаты… Хотя на переноску всех коробок и свинцовых кирпичей наверх у них ушло полдня тяжелой работы, я думаю, что они действовали осторожно и, насколько возможно, избегали воздействия радиации[1819].
Пока молодые химики Сиборга с энтузиазмом занимались извлечением плутония-239 из массы UNH, доставленного из Сент-Луиса, ворочая бутыли с эфиром и тяжелые трехлитровые сепараторные воронки, которые нужно было держать на вытянутых руках за свинцовыми защитными экранами, Каннингем и Вернер начали в узкой комнате 405 работу по выделению чистых химических соединений плутония. Сначала они отмерили 15 миллилитров раствора UNH, облученного тем же летом на полутораметровом циклотроне в Беркли. Они предполагали, что этот раствор содержит около одного микрограмма плутония-239 (или 239Pu; Сиборг выбрал обозначение Pu, а не Pl не только чтобы избежать путаницы с платиной, Pt, но и «смеха ради, – говорит он, – для привлечения внимания»[1820]: с намеком на старое жаргонное сокращение P.U. от слова putrid[1821]). При помощи оборудования для ультрамикрохимического анализа – это была медленная, утомительная работа с микроманипуляторами, которые преобразовывали большие перемещения в микроскопически малые, – они добавили в раствор носители, редкоземельные элементы церий и лантан, частично выпарили раствор и осадили носители и плутоний в виде фторидов; дело было в субботу 15 августа. Затем осажденные кристаллы растворили в нескольких каплях серной кислоты и снова выпарили получившийся раствор до объема порядка одного миллилитра – одной тысячной литра, то есть приблизительно двадцати капель. Проверив оставшийся большой объем раствора, они не нашли в нем почти никакой альфа-активности, что означало, что весь излучающий альфа-частицы плутоний кристаллизовался вместе с редкоземельными элементами. На этом намеченная на день работа была закончена; они оставили тщательно упакованный раствор до понедельника и разошлись по домам.
В понедельник 17 августа Каннингем и Вернер начали с того, что окислили полученный микроскопический объем осадка, чтобы изменить степень окисления содержащегося в нем плутония. Цикл окисления и восстановления повторили несколько раз. К концу дня в конусообразной чашке их кварцевой центрифуги осталась маленькая капля жидкости, излучавшей около 57 000 альфа-частиц в минуту. Они поставили ее на паровую баню, чтобы увеличить концентрацию.
Во вторник они перенесли концентрированный раствор в неглубокую платиновую чашку, чтобы получить еще более крепкий концентрат. Раствор начал переливаться через края чашки. Чтобы не потерять материал, они быстро перенесли его в единственную оказавшуюся под рукой чашку большего размера, которая была загрязнена лантаном. Эта ошибка в оценке объема стоила им еще одного дня повторной очистки. Наверху, на чердаке и на крыше, сотрудники Сиборга продолжали напряженную работу по извлечению плутония из больших объемов UNH при помощи эфира и воды.
К утру среды в комнате 405 снова был готовый к обработке очищенный концентрат. Он все еще был загрязнен соединением калия и серебром. Каннингем и Вернер растворили его и осадили серебро в виде хлорида. Затем они добавили в раствор пять микрограммов лантана и осадили плутоний вместе с лантановым носителем. Растворив осадок, они еще раз окислили его, чтобы изменить состояние плутония, и осадили лантан. Плутоний остался в растворе; его выделение заняло еще одно утро.
Вот что пишет Сиборг о четверге 20 августа 1942 года:
Сегодня был, возможно, самый захватывающий и волнующий для меня день с тех пор, как я пришел в Металлургическую лабораторию. Наши микрохимики впервые выделили чистый элемент 94! Сегодня утром Каннингем и Вернер занялись выпариванием… вчерашнего раствора 94, содержащего около микрограмма 23994, добавили плавиковой кислоты, после чего элемент 94 осадился в виде фторида… без материала-носителя…
Осадок 94, который рассмотрели в микроскоп, но можно было разглядеть и невооруженным глазом, не отличался на вид от фторидов редкоземельных элементов…
Человек впервые увидел… элемент 94[1822].
Во второй половине дня «в нашей группе царило праздничное настроение». После нескольких часов нахождения на воздухе «осажденный [плутоний] приобрел розоватый оттенок»[1823]. Кто-то сфотографировал Каннингема и Вернера за их загроможденным столом в узкой комнате со стенами, покрытыми кафелем, – подтянутые молодые люди с волевыми лицами выглядят усталыми. Члены группы, работавшие наверху с бутылями и свинцовыми кирпичами, неуклюже пробирались в тесную лабораторию, чтобы взглянуть в микроскоп на крошечную розовую крупинку, как евангельские пастухи, пришедшие узреть чудо.
Летом 1942 года Роберт Оппенгеймер собрал в Беркли небольшую группу физиков-теоретиков, которых он в шутку называл «светилами»[1824]. Их задачей было пролить свет на то, какой будет реальная конструкция атомной бомбы.
Тридцатишестилетний теперь Ханс Бете, ставший чрезвычайно уважаемым профессором физики в Корнелле, в свое время не хотел участвовать в проекте создания бомбы, потому что сомневался в его осуществимости. «Я считал… атомную омбу настолько малореальной, – сказал Бете своему биографу уже после войны, – что решительно отказывался иметь к ней какое-либо отношение… Разделение изотопов такого тяжелого элемента [как уран] явно было делом очень трудным, и я думал, что нам никогда не удастся найти практически применимого способа это сделать»[1825]. Однако Бете вполне мог возглавить список светил, которых Оппенгеймер хотел привлечь к своей работе. К 1942 году корнеллский физик приобрел надежную репутацию первоклассного теоретика. Самым выдающимся его достижением, за которое он получил в 1967 году Нобелевскую премию по физике, было объяснение механизмов производства энергии в звездах: он описал цикл термоядерных реакций с участием водорода, азота и кислорода, катализируемый углеродом и заканчивающийся образованием гелия. В течение 1930-х годов Бете выполнил много важных работ и, в частности, стал основным автором трех пространных обзорных статей по ядерной физике, составивших первое всеобъемлющее описание этой области. Изданные под одной обложкой, эти авторитетные обзоры получили неофициальное прозвище «Библии Бете».
Он хотел помочь борьбе с нацизмом. «После падения Франции, – говорит он, – я отчаянно стремился что-нибудь сделать – внести какой-то вклад в войну»[1826]. Сначала он разработал элементарную теорию прорыва брони. В 1940 году, последовав совету Теодора фон Кармана, они с Эдвардом Теллером расширили и прояснили теорию ударной волны. В 1942 году Бете работал над радарами в Радиационной лаборатории МТИ. Там и нашел его Оппенгеймер.
Оппенгеймер согласовал свои планы с директором Радиационной лаборатории Ли Э. Дюбриджем, а затем поручил одному из ведущих американских теоретиков Джону Х. Ван Флеку, профессору физики в Гарварде, заманить Бете на летний триместр в Беркли. «Важнее всего, – советовал он Ван Флеку, – заинтересовать Бете, донести до него масштабы той работы, которую мы должны сделать… и, кроме того, попытаться убедить его, что наши нынешние планы… это именно то, что требуется». Оппенгеймер ощущал тяжесть своих обязанностей. «Каждый раз, когда я думаю о нашей проблеме, возникает новая головная боль, – сказал он гарвардскому профессору. – Забот нам точно хватит»[1827]. Ван Флек договорился с Бете о тайной встрече в парке Гарвард-Ярд и сумел убедить его в необходимости его участия. По договоренности с Оппенгеймером он известил его «детской телеграммой»[1828], отправленной из отделения Western Union, – эта система позволяла передавать недорогие стандартные сообщения вроде «Не забудь почистить зубы».
Оппенгеймер пригласил также Эдварда Теллера. В 1939 году Бете женился на Роз Эвальд, красивой и умной дочери профессора Пауля Эвальда, который учил его физике в Штутгарте; Эдвард и Мици Теллер, «наши лучшие друзья в этой стране»[1829], были в Нью-Рошелле на их свадьбе. В начале июля 1942 года[1830] супруги Бете отправились в Беркли и заехали в Чикаго за Теллерами. Теллер показал Бете последний экспоненциальный котел Ферми. «Он собирал свою установку под одной из трибун стадиона Стэгг-Филд, – вспоминает Бете, – на корте для игры в сквош, из огромных штабелей графита». Цепная реакция, в которой образуется плутоний, позволила бы обойти проблему разделения изотопов. «Именно тогда, – говорит Бете, – я поверил, что проект создания атомной бомбы реален и, вероятно, может быть осуществлен»[1831].
В числе других светил, приглашенных на летние исследования, были Ван Флек, родившийся в Швейцарии стэнфордский теоретик Феликс Блох, бывший студент и близкий сотрудник Оппенгеймера Роберт Сербер, молодой теоретик из Индианы Эмиль Конопинский, а также два ассистента-постдокторанта. Конопинский с Теллером одновременно приехали в Металлургическую лабораторию раньше других. «Мы были новичками в напряженно работающей лаборатории, – пишет Теллер в своих воспоминаниях, – и первые несколько дней нам не давали никакой конкретной работы». Теллер предложил Конопинскому проверить вместе с ним его расчеты, которые, как он считал, доказывали невозможность использования атомной бомбы для возбуждения в дейтерии термоядерной реакции:
Конопинский согласился, и мы принялись составлять отчет, который должен был продемонстрировать, раз и навсегда, что это неосуществимо… Но чем дольше мы работали над этим отчетом, тем очевиднее становилось, что те препятствия, которые я воздвигал на пути идеи Ферми, были вовсе не такими уж страшными. Мы преодолевали их одно за другим и в конце концов заключили, что тяжелый водород все-таки можно воспламенить атомной бомбой и получить взрыв колоссальной силы. К тому времени, как мы отправились в Калифорнию… нам даже казалось, что мы точно знаем, как это сделать[1832].
Новость такого рода Эдвард Теллер вряд ли стал бы держать в секрете, какова бы ни была официальная программа Оппенгеймера. Бете был посвящен в эту тайну в экспрессе, спешащем на запад: «В поезде в Калифорнию у нас было отдельное купе, так что мы могли разговаривать не таясь… Теллер сказал мне, что бомба, основанная на делении, – дело, конечно, хорошее и, по сути дела, теперь уже решенное. В действительности работа над нею тогда только начиналась. Теллер вообще часто спешил с выводами. Он сказал, что на самом деле нам нужно думать о возможности воспламенения дейтерия таким оружием – о бомбе водородной»[1833].
В Беркли светила начали проводить совещания в кабинете Оппенгеймера, «в северо-западном углу четвертого этажа старого Леконт[-холла], – вспоминает один из старших сотрудников. – Как и во всех этих помещениях, там были застекленные двери, выходящие на балкон, на который легко было попасть с крыши. Поэтому балкон Оппенгеймера был обтянут очень прочной проволочной сеткой». Ключ был только у Оппенгеймера. «Если бы начался пожар… а Оппенгеймера там не было, дело закончилось бы трагедией»[1834]. Но тем летом пожары оставались опасностью чисто теоретической.
Теоретики позволили себе отвлечься на бомбу Теллера. Эта идея была новой, важной и увлекательной, а они неудержимо стремились к познанию всего нового. «Работу над теорией бомбы на основе деления взяли на себя Сербер и два его молодых сотрудника, – объясняет Бете. – Казалось, что [они] прекрасно с этим справляются, так что нам там почти нечего было делать»[1835]. Основные принципы деления быстрыми нейтронами были надежно установлены – эта область нуждалась не столько в теории, сколько в экспериментах. Старшие теоретики, объединив усилия и используя свои блестящие способности, сосредоточились на проблеме синтеза. Они до сих пор не озаботились придумать общее название для урановых и плутониевых бомб. Но новая бомба возникла из той тьмы, в которой еще не оформившиеся идеи таятся, пока сила человеческого воображения не извлечет их на свет, уже снабженная технократическим прозвищем, позаимствованным из жаргона эпохи ар-деко: они назвали ее «супербомбой».
Роз Бете, которой было тогда двадцать четыре года, сразу поняла, о чем идет речь. «Моя жена смутно представляла, о чем мы говорили, – говорит Бете, – и, когда мы гуляли по горам в Йосемитском национальном парке, попросила меня как следует подумать, действительно ли я хочу и дальше заниматься этой работой. В конце концов я решил участвовать в ней». «Супербомба» была «ужасной вещью». Но первой в любом случае должна была появиться бомба на основе деления, и «предполагалось, что немцы ее делают»[1836].
Теллер рассматривал две термоядерные реакции, в которых из ядер дейтерия образуются более тяжелые ядра, причем происходит высвобождение энергии связи. В обоих случаях сталкивающиеся ядра дейтерия должны быть достаточно горячими – то есть обладать достаточной энергией, двигаться с достаточной силой, – чтобы преодолеть ядерный электрический барьер, который обычно отталкивает их друг от друга. В то время считалось, что минимальная необходимая энергия составляет около 35 000 электрон-вольт, что соответствует температуре порядка 400 миллионов градусов[1837]. При наличии такой температуры – которую на Земле может создать только взрыв атомной бомбы, – обе термоядерные реакции должны происходить с равной вероятностью. В первой из них два ядра дейтерия сталкиваются и образуют ядро гелия-3, испуская нейтрон и высвобождая 3,2 миллиона электрон-вольт энергии. Во второй столкновение такого же рода приводит к образованию трития – водорода-3, изотопа водорода с ядром, состоящим из одного протона и двух нейтронов; в земной природе он не встречается – с испусканием протона и высвобождением 4,0 МэВ энергии.
Энергия, высвобождаемая в реакциях D + D, 3,6 МэВ, в пересчете на единицу массы несколько меньше, чем итоговая энергия, получаемая при делении, 170 МэВ. Но синтез, по сути дела, представляет собой термическую реакцию, не отличающуюся принципом возникновения от обычного горения; он не требует критической массы и, следовательно, потенциально может быть неограниченным. После начала такой реакции ее масштабы зависят прежде всего от объема топлива – дейтерия, – заложенного в систему. А дейтерий, открытый Гарольдом Юри, основной компонент тяжелой воды, гораздо легче и дешевле отделить от водорода, чем 235U от 238U, и гораздо проще получить, чем плутоний. Каждый килограмм тяжелого водорода дает взрывчатую силу около 85 000 тонн тротилового эквивалента[1838]. Теоретически 12 килограммов сжиженного тяжелого водорода, воспламененные атомной бомбой, должны взрываться с силой, эквивалентной 1 миллиону тонн ТНТ. Насколько было известно в начале этого лета Оппенгеймеру и его группе, для получения взрыва такой мощности потребовалось бы около 500 атомных бомб[1839].
Один этот расчет был бы достаточной причиной, чтобы посвятить все это лето размышлениям, которые позволили бы получить чуть более ясное представление о супербомбе. Теллер выяснил и кое-что еще – или по меньшей мере так ему казалось, – и в обычной своей беспорядочной манере сообщил об этом коллегам. Помимо реакций D + D, существует множество других термоядерных реакций. Бете методически рассмотрел многие из них, когда искал те реакции, которые снабжают энергией массивные звезды. Теперь Теллер выделил те из них, которые может непреднамеренно запустить атомная или термоядерная бомба. Он представил собравшимся светилам возможный сценарий, в котором созданные ими бомбы могли бы воспламенить атмосферу или океаны Земли и сжечь весь мир – тот же самый, о котором Гитлер иногда шутил с Альбертом Шпеером.
«Я не верил в это с самого начала, – пренебрежительно отмечает Бете. – Оппи же воспринял эту идею настолько серьезно, что пошел с нею к Комптону. Будь я на месте Оппи, я, наверное, не стал бы этого делать, но Оппи был человеком более увлекающимся, чем я. Я бы подождал, пока у нас не появились бы более точные знания»[1840]. Как бы то ни было, Оппенгеймеру срочно нужно было обсудить с Комптоном и еще одну тему – саму супербомбу. Чтобы не рисковать жизнью руководителей проекта по созданию бомбы, им запретили летать. В начале одних из июльских выходных Оппенгеймеру удалось выследить Комптона: он дозвонился до сельской лавки в Северном Мичигане, в которой тот забирал ключи от дачного домика на озере. Получив там адрес, Оппенгеймер сел на первый же поезд, идущий на восток. Тем временем Бете занялся изучением расчетов Теллера.
Скептическое отношение, сразу же возникшее у корнеллского физика, оттеняет мелодраматические воспоминания, оставшиеся у Комптона от этой встречи с Оппенгеймером:
Я никогда не забуду это утро. Я привез Оппенгеймера с железнодорожной станции на берег тихого озера. Там я выслушал его рассказ…
Существовала ли на самом деле вероятность того, что атомная бомба вызовет взрыв атмосферного азота или водорода, содержащегося в морской воде? Это было бы величайшей катастрофой. Лучше уж было согласиться на рабство у нацистов, чем подвергать человечество опасности полного уничтожения!
Мы согласились, что решение может быть только одно. Группа Оппенгеймера должна выполнить свои расчеты[1841].
Бете их уже выполнил. «Очень скоро я нашел в вычислениях Теллера некоторые необоснованные допущения, что делало такой исход, мягко говоря, чрезвычайно маловероятным. Мои доводы быстро переубедили Теллера»[1842]. Эти доводы – Бете и других – против возможности неконтролируемого взрыва наиболее аргументированно представлены в технической истории программы конструирования бомбы, составленной под руководством Оппенгеймера сразу после войны:
Предполагалось, что произойдет только реакция с наибольшим выходом энергии из нескольких возможных [термоядерных] реакций, причем сечения этой реакции будут иметь максимально возможные значения, допустимые теорией. Вычисления показали, что, как бы высока ни была температура, потери энергии должны существенно превышать производство энергии. При предполагаемой температуре в три миллиона электрон-вольт [сравните с известной температурой для реакции D + D, равной 35 000 эВ] производимая энергия была в 60 раз меньше уровня, необходимого для самоподдерживающейся реакции. Эта температура превышала расчетную начальную температуру, необходимую для дейтериевой реакции, в 100 раз, а температуру взрыва бомбы, основанной на делении, еще сильнее… Таким образом, и научные расчеты, и здравый смысл доказывали невозможность воспламенения атмосферы[1843].
Оппенгеймер вернулся с этой хорошей новостью, и работа над супербомбой продолжилась. Вот как описывает атмосферу этой работы Теллер: «Другие участники группы резко критиковали мои теории, но вместе с новыми затруднениями появлялись и новые возможности. Факты подвергались проверке, и ответы на вопросы приносили новые факты… В течение этих недель в Беркли царил дух творчества, приключений и неожиданностей, и каждый из членов группы помогал приблизить обсуждение к положительному результату»[1844].
У супербомбы типа D + D, которую предлагал Теллер, обнаружился один серьезный недостаток. Выходило, что реакции идут слишком медленно и не успевают достигнуть состояния воспламенения до того, как атомная бомба, служащая запалом, разрушит всю конструкцию. На помощь пришел Конопинский: «Конопинский предложил исследовать помимо дейтерия и реакции трития, самой тяжелой разновидности водорода». Эта идея, объясняет Теллер, была в то время «всего лишь догадкой… высказанной в разговоре»[1845]. Одной из явно интересных реакций с участием трития было слияние ядра дейтерия с ядром трития, D + T, которое приводит к образованию ядра гелия с испусканием нейтрона и высвобождением 17,6 МэВ энергии. Температура запуска реакции D + T составляет всего 5000 эВ, что соответствует 40 миллионам градусов. Но, поскольку трития на Земле не существует, его пришлось бы создавать искусственно. При бомбардировке нейтронами одного из изотопов лития, 6Li, часть этого легкого металла преобразуется в тритий[1846] – приблизительно так же, как нейтроны превращают 235U в плутоний. Но единственным очевидным источником нейтронов в таком явно обильном количестве был еще не испытанный реактор Ферми. Однако светила рассматривали возможность производства трития в самой супербомбе – для этого бомбу нужно начинить литием в сухом виде, в форме дейтерида лития[1847]. Но встречающийся в природе литий, как и природный уран, содержит слишком малую долю нужного изотопа; чтобы система была работоспособной, необходимо отделить 6Li. С другой стороны, разделение изотопов лития – третьего элемента периодической системы – было бы делом гораздо более легким, чем разделение изотопов урана… Такие споры продолжались на протяжении всего этого приятного лета в Беркли. «Мы все время изобретали какие-нибудь новые фокусы, – говорит Бете, – придумывали, как их обсчитать, и отвергали большинство таких фокусов по результатам расчетов. Я мог собственными глазами увидеть колоссальную мощь разума Оппенгеймера, который был бесспорным лидером нашей группы… Этот интеллектуальный опыт был незабываемым»[1848].
В конце лета, объединив результаты подгруппы Сиборга со своими собственными, светила заключили, что разработка атомной бомбы потребует крупных научных и технических усилий[1849]. Гленн Сиборг услышал выводы, которые Оппенгеймер сделал из этих результатов, на совещании технического совета Металлургической лаборатории в Чикаго, 29 сентября. «У быстрых нейтронов нет своего дома, – пересказывает Сиборг слова теоретика из Беркли, – [а] он им, вероятно, нужен». «Оппенгеймер планирует работу над быстрыми нейтронами»[1850], – сказал совету Комптон. Оппенгеймер искал место, подходящее для проектирования и сборки бомбы. Он считал, что такие работы можно будет организовать в Цинциннати или в Теннесси[1851], рядом с реакторами, производящими плутоний.
В конце августа 1942 года Джеймс Брайант Конант услышал о результатах летних исследований в Беркли на совещании Исполнительного комитета программы S-1 и набросал страницу заметок под заголовком «Статус бомбы»[1852]. По словам светил, записал он, атомная бомба должна взорваться с «энергией, в 150 раз большей, чем по прежним расчетам», но, что плохо, потребует критической массы, «в 6 раз большей, чем [считалось] раньше[: ] 30 кг 235U». Двенадцати килограммов 235U хватило бы для взрыва, отметил Конант, но такой взрыв был бы неэффективным, так как высвободил бы «лишь 2 % энергии». Известие о супербомбе настолько потрясло председателя НКОИ, что он даже допустил описку:
Для денотации [sic: д. б. детонации] 5–10 кг жидкого тяжелого водорода потребуется 30 кг 235U.
Если использовать две или три тонны жидкого дейтерия и 30 кг 235U, это будет эквивалентно 108 [т. е. 100 000 000] тоннам ТНТ.
Предполагаемая зона поражения – 1000 кв. км, [или] 360 кв. миль. Смертельный уровень радиоактивности на этой же площади в течение нескольких дней.
Затем Конант провел твердой рукой жирную линию и подписал свою записку инициалами «ДжБК». Задним числом – возможно, позже – он добавил: «Исполнительный комитет S-1 считает вышеизложенное вероятным. Производство тяжелой воды ускоряется, насколько возможно. [Первые] 100 кг D будут получены к осени 1943 года, до того, как будут готовы 60 кг 235U!»
Исполнительный комитет немедленно отправил Бушу официальный отчет о ходе работ[1853]. Он обещал достаточное для испытаний количество делимого материала через восемнадцать месяцев – к марту 1944 года. По оценке этого отчета, 30-килограммовая бомба из 235U «должна производить разрушительное действие, эквивалентное взрыву более чем 100 000 тонн ТНТ», что значительно превышало предыдущую оценку, дававшую всего 2000 тонн. Кроме того, отчет эффектно представлял супербомбу:
При использовании такого устройства [из 235U] для детонации окружающего его жидкого дейтерия массой 400 кг разрушительная сила должна быть эквивалентна более чем 10 000 000 тонн ТНТ. Площадь территории, опустошенной взрывом, должна превысить 250 квадратных километров.
В заключение члены комитета – Бриггс, Комптон, Лоуренс, Юри, Эгер Мерфри и Конант – утверждали, что важность проекта по созданию бомбы превосходит все предыдущие оценки: «Мы пришли к убеждению, что успешное завершение этой программы до того, как успеха добьется противник, необходимо для победы. Мы полагаем также, что успех этой программы обеспечит победу в войне, если она не закончится ранее».
29 августа Буш передал отчет о состоянии работ наверх, военному министру, отметив, что «физики Исполнительного комитета единодушны во мнении, что этот важный дополнительный фактор [т. е. супербомба] может быть получен… Сейчас потенциальные итоговые возможности кажутся значительно большими, чем во время подачи [предыдущего] отчета»[1854].
Таким образом, разработка водородной бомбы началась в Соединенных Штатах еще в июле 1942 года.
В сентябре проблема, которую Лео Сцилард называл «чикагскими трудностями», – проблема распределения полномочий и обязанностей в отношении конструкции охлаждения реактора и многого другого – стала причиной кратковременного мятежа в Металлургической лаборатории. Инженерно-строительная фирма Stone & Webster, которую подрядили военные, все лето изучала производство плутония. «Классические инженеры, – называла их Леона Вудс, – знавшие мосты и несущие конструкции, каналы, шоссе и тому подобное, но не имевшие сколько-нибудь точного, или вообще никакого, представления о том, что требуется вновь создаваемой ядерной промышленности». Фирма прислала одного из своих лучших инженеров доложить руководителям Металлургической лаборатории о производственных планах. «Ученые сидели в мертвой тишине, презрительно кривя губы. Докладчик был безграмотен; его выступление вызвало у всех раздражение и беспокойство»[1855].
Вскоре после этого, одним жарким осенним вечером, потерявший терпение ученик Комптона Вольни Уилсон, склонный к идеализму молодой физик, отвечавший за приборное оборудование реактора, созвал дискуссионное совещание[1856]. (Студентом Уилсон проанализировал движения плавающих рыб и разработал стиль спортивного плавания дельфином[1857]. В 1938 году, используя этот стиль, он выиграл отборочные олимпийские соревнования, но затем был дисквалифицирован, так как новый стиль не был официально утвержден; такая близорукость судей Олимпийского комитета, возможно, повлияла на отношение Уилсона к властям вообще.) В воспоминаниях Комптона это совещание смешивается со сходными разногласиями, возникшими в июне; Вудс, работавшая под руководством Уилсона, помнит его более отчетливо:
Мы (человек 60 или 70 ученых) молча сидели в общем зале Экхарт-холла; еле заметный ветерок задувал в открытые окна горячий, влажный воздух. Никто не говорил – как на собрании квакеров. Наконец появился Комптон с Библией в руках…
Комптон считал, что Уилсон созвал совещание, чтобы обсудить, следует ли поручить производство плутония крупной промышленности или оставить его под контролем ученых Металлургического проекта. На самом же деле, как мне показалось, главным вопросом было, как избавиться от компании Stone & Webster[1858].
Комптон предложил аллегорию. Без какого-либо вступления он раскрыл Библию на Книге Судей, 7: 5–7[1859] и зачитал Лео Сциларду, Энрико Ферми, Юджину Вигнеру, Джону Уилеру и еще шести десяткам серьезных ученых историю о том, как Господь помог Гедеону отобрать из слишком многочисленных добровольцев своего народа нескольких человек, подходящих для сражения с мадианитянами. Он пытался ясно показать, что победа будет исключительно делом рук Господа. «Закончив чтение, – вспоминает Вудс, – Комптон сел на свое место». Неудивительно, чо после этого «снова воцарилось квакерское молчание». Или изумление. Затем встал Вольни Уилсон, который обрушился «на некомпетентность Stone & Webster… с хорошо обоснованной яростью». Говорили и многие другие члены группы, и все они выступали против бостонских инженеров. «Через некоторое время все замолчали и в конце концов встали и разошлись»[1860]. Комптон свел всю дискуссию к требованию, чтобы Металлургическая лаборатория подчинилась его власти. К счастью, собравшиеся ученые его проигнорировали. Вскоре армия передала ответственность за производство плутония организации более опытной, чем Stone & Webster. Когда это было предложено, Комптон с энтузиазмом поддержал такое изменение.
Реакцией Сциларда на конфликты в Металлургической лаборатории был гнев, который к этому времени, после четырех лет разочарований, начал превращаться в стоическое упорство. В конце сентября Сцилард написал проект длинного меморандума[1861], обращенного к коллегам, в котором он рассуждал не только о конкретных проблемах Металлургической лаборатории, но и более глубоком вопросе ответственности ученых за работу, которую они делают. И в этом наброске, и, хотя и более умеренно, в окончательном варианте записки похвалы руководству Комптона перемежаются с уничижительной критикой: «При разговорах с Комптоном у меня часто возникает ощущение, что я чересчур грубо играю на очень нежном инструменте»[1862]. Помимо личных характеристик Сцилард отмечал губительный эффект лишения полномочий тех, кто работал под началом Комптона: «Я часто думаю… что все могло бы быть иначе, если бы полномочия Комптона исходили от нашей группы, а не от УНИР»[1863]. В окончательном варианте меморандума он развивает эту мысль более подробно:
Ситуация могла бы быть иной, если бы Комптон считал себя нашим представителем в Вашингтоне и требовал от нашего имени всего того, что необходимо для успеха нашего проекта. Тогда он мог бы отказываться принимать решения по любым вопросам, затрагивающим нашу работу, без полноценного обсуждения таких вопросов с нами.
С этой точки зрения нам должно быть ясно, что в провалах в нашей работе виноваты мы, и только мы сами[1864].
Работу, начатую на демократических началах, подчинила себе – получила возможность подчинить себе – авторитарная организация. «Там и сям имеются небольшие очаги демократии, но они не образуют сколько-нибудь действенной связной сети»[1865]. Сцилард был убежден, что авторитарной организации не место в науке. Так же думали и Вигнер, и более отвлеченно относившийся к этому вопросу Ферми. «Если бы принесли им готовую бомбу на блюдечке, – вспоминает Сцилард слова Ферми, – они и тогда с вероятностью пятьдесят на пятьдесят смогли бы все запороть»[1866]. Но за рамками дебатов о достоинствах подрядчиков и систем охлаждения бунтовать продолжал только Сцилард:
Мы можем принять ту точку зрения, что президент возложил на д-ра Буша ответственность за успех этой работы. Д-р Буш возложил эту ответственность на д-ра Конанта. Д-р Конант переложил ее (в сопровождении лишь части необходимых полномочий) на Комптона. Комптон поручает каждому из нас некоторую частную задачу, и мы можем исполнять свой долг, ведя при этом очень приятную жизнь. Мы живем в приятной части приятного города, в приятном обществе друг друга, и работаем под руководством д-ра Комптона – самого приятного «начальника», какого только можно пожелать. У нас нет никаких оснований для недовольства, и, поскольку идет война, мы даже готовы работать сверхурочно.
Либо же мы можем признать, что те, кто положил начало работе над этим ужасным оружием, и те, кто внес существенный вклад в его разработку, ответственны перед Богом и миром за то, чтобы оно было готово к применению в должное время и должным образом.
Я полагаю, что сейчас каждый из нас должен решить, в чем, по его мнению, заключается его долг[1867].
Хотя военные были вовлечены в проект по созданию бомбы начиная с июня, полковнику Маршаллу из инженерных войск не удалось добиться для проекта более высокого приоритета среди других военных программ национального масштаба. Из-за разделения управления программой между УНИР и армией начинало казаться, что дело может зайти в тупик. Бушу казалось, что решением может стать вновь созданный Комитет по военной политике с широкими полномочиями, который отчасти сохранил бы гражданский контроль над проектом, но передал бы непосредственное руководство им энергичному военному офицеру, который пользовался бы поддержкой этого комитета. «С моей собственной точки зрения, – писал он в конце августа 1942 года, – и с учетом единодушного мнения группы людей, принадлежащих, по моему мнению, к числу величайших ученых мира, а также чрезвычайно компетентных инженеров, было бы желательно устранить все препятствия к успешному завершению всей этой программы… даже если это будет связано с созданием умеренных трудностей для других военных проектов»[1868].
Буш обсудил свои проблемы с генералом Брегоном Сомервеллом, начальником Служб снабжения американской армии. Сомервелл независимо разработал свое собственное решение: передать все полномочия инженерным войскам, которые находились под его командованием. Программе нужен был сильный руководитель. У него был кандидат на эту роль. В середине сентября он разыскал этого человека.
«В тот день, когда я узнал, что мне поручат руководство проектом, который закончился созданием атомной бомбы, – писал впоследствии уроженец города Олбани Лесли Ричард Гровс, – я был, наверное, самым рассерженным офицером в армии Соединенных Штатов». Гровс закончил военную академию Вест-Пойнт; в 1942 году ему было сорок шесть лет. Вот как он объясняет причины своего гнева:
Я узнал эту новость 17 сентября 1942 года, в 10:30 утра. К полудню этого дня я должен был сообщить звонком о своем согласии на предложенное мне назначение за границей. Я был тогда полковником инженерных войск, и в этот момент почти все заботы, связанные с руководством внутриамериканским строительным проектом стоимостью в десять миллиардов долларов, остались позади – как я надеялся, навсегда. Я хотел выбраться из Вашингтона, причем как можно скорее.
Мой высший начальник… Брегон Б. Сомервелл нашел меня в коридоре нового административного здания палаты представителей после моего отчета об одном строительном проекте на заседании Комитета по военным делам.
– Что касается этого заграничного назначения, – сказал генерал Сомервелл, – можете от него отказаться.
– Почему? – спросил я.
– Военный министр выбрал вас для выполнения очень важного задания.
– Где?
– В Вашингтоне.
– Но я не хочу оставаться в Вашингтоне.
– Если вы справитесь с этим делом, – тщательно подбирая слова, сказал генерал Сомервелл, – война будет выиграна.
Годы спустя люди часто вспоминают, что именно они сказали в какой-нибудь важный или даже исторический момент своей жизни… Я очень хорошо помню, что я ответил в этот день генералу Сомервеллу.
Я сказал:
– Хм[1869].
Гровс, занимавший пост заместителя начальника инженерных войск и руководивший всеми строительными работами для армии США, знал об атомном проекте достаточно, чтобы понимать, насколько сомнительно утверждение о его решающем значении, и почувствовать крайнее разочарование. Он только что завершил самый заметный проект в своей карьере – строительство Пентагона. Он видел бюджет программы S-1, бывший в общей сложности меньше тех сумм, которые он до этого тратил в неделю. Он хотел командовать войсками. Но, будучи профессиональным военным, он понимал, что выбора у него нет. Он отправился через Потомак на инструктаж в расположенном в Пентагоне кабинете бригадного генерала Вильгельма Д. Стайера, начальника штаба Сомервелла. Стайер дал ему понять, что работа идет полным ходом и дело должно быть нетрудным. Они вдвоем составили приказ от имени Сомервелла, уполномочивающий Гровса «полностью взять на себя руководство всем… проектом»[1870]. Гровс узнал также, что через несколько дней его должны повысить в звании до бригадного генерала – для придания ему большего авторитета, а также в качестве компенсации. Он предложил отложить официальное назначение на должность руководителя проекта до получения нового звания. «Я думал, что у меня могут возникнуть трения с многочисленными учеными, участвующими в проекте, – вспоминает он свое первоначальное невежество, – и мне казалось, что мое положение будет более прочным, если они с самого начала узнают меня как генерала, а не как полковника, повышенного в звании»[1871]. Стайер согласился.
Гровс имел рост сто восемьдесят сантиметров, широкие скулы, вьющиеся каштановые волосы, голубые глаза, редкие усы и живот такого размера, что он вспучивался сверху и снизу от брезентового ремня с форменной латунной пряжкой. Леона Вудс считала, что он весил килограммов сто сорок; в то время его вес был, вероятно, ближе к ста десяти, но он продолжал его набирать. В 1914 году он закончил Университет Вашингтона, в течение двух лет интенсивно изучал инженерное дело в МТИ, а затем поступил в Вест-Пойнт, который закончил в 1918 году с четвертым результатом на курсе. В 1920–1930-х годах он завершил свое обширное образование, проведя еще несколько лет в Военно-инженерном училище, Командно-штабном колледже и Военном колледже армии США. Он служил на Гавайях, в Европе и Центральной Америке. Его отец был юристом, но оставил юриспруденцию ради пасторского служения и был настоятелем сельской церкви и пролетарского городского прихода, пока военный министр администрации Гровера Кливленда не убедил его стать армейским капелланом на Западных территориях[1872]. «Учеба в Вест-Пойнте была самой заветной моей мечтой, – говорит Гровс. – Я вырос в армии и провел почти всю жизнь в армейских гарнизонах. Личности и выдающаяся приверженность долгу знакомых мне офицеров произвели на меня глубочайшее впечатление»[1873]. Энергичный военный инженер был женат; у него были тринадцатилетняя дочь и сын-первокурсник в Вест-Пойнте.
«Великолепный одинокий волк»[1874] – так описывает Гровса один из его подчиненных. Другой, непосредственным начальником которого теперь стал Гровс, свел проведенные с ним годы к язвительному отзыву, в котором проявляется невольное восхищение. Подполковник Кеннет Д. Николс – лысеющий, очкастый выпускник Вест-Пойнта, получивший в Университете штата Айова докторскую степень по гидротехнике, которому в 1942 году было тридцать четыре года, – вспоминает, что Гровс был…
…самым большим сукиным сыном, какого я встречал в своей жизни, но и одним из самых талантливых людей. Он обладал непревзойденным самолюбием и неутомимой энергией – он был человек крупный, тяжелый, но, кажется, никогда не уставал. Он был абсолютно уверен в своих решениях и абсолютно безжалостен в своем подходе к задачам, которые нужно было решить. Но в этом заключалась прелесть работы с ним – нам никогда не приходилось беспокоиться о принимаемых решениях или их смысле. Собственно говоря, я часто думаю, что, если бы мне нужно было начать все сначала, я бы выбрал своим начальником Гровса. Я, как и все остальные, терпеть его не мог, но у нас было своего рода взаимопонимание[1875].
Предыдущий начальник Николса, полковник Маршалл, работал на Манхэттене (именно в его кабинете в августе было придумано кодовое название проекта создания атомной бомбы – Манхэттенский инженерный округ). Но решения о приоритете проектов и поставках принимались в военное время не на Манхэттене, а в суматошных вашингтонских кабинетах, и туда-то полковник и отправил сражаться способного Николса. Поэтому Гровс зашел к Николсу сразу после разговора со Стайером. Там он обнаружил, что состояние проекта даже хуже, чем он опасался: «Информация, которую я получил, меня не обрадовала; честно говоря, она привела меня в ужас»[1876].
Он взял Николса с собой на встречу с Вэниваром Бушем в Институте Карнеги на Пи-стрит[1877]. Сомервелл не договорился с Бушем о визите Гровса, и директор УНИР был в ярости. Он грубо отказывался отвечать на вопросы Гровса, чем привел его в недоумение. Буш сдерживал свой гнев, пока Гровс с Николсом не ушли, а затем посетил Стайера. Разговор с ним он описывает в составленном тогда же меморандуме:
Я сказал ему, что (1) как я уже говорил генералу Сомервеллу, я по-прежнему считаю, что лучше всего было бы сначала получить военный заказ, а потом выбирать человека, который обеспечит выполнение программы; (2) после краткой беседы с генералом Гровсом я сомневаюсь, обладает ли он достаточным для этой работы тактом.
Стайер не согласился со мной по пункту (1), и я сказал лишь, что хотел быть уверен, что он понял мои рекомендации. По пункту (2) он согласился, что Гровс груб и т. д., но считает, что другие его качества возместят этот недостаток… Боюсь, что мы попали впросак[1878].
Уже через несколько дней Буш изменил свое мнение. Гровс немедленно взялся за худшие из его проблем и разрешил их.
Одним из первых вопросов, которые полковник-тяжеловес обсудил с Николсом, был вопрос о запасах руды: имеется ли достаточное количество урана? Николс рассказал ему о недавней неожиданно счастливой находке: речь шла о приблизительно 1250 тоннах необычайно богатой урановой смолки, состоящей на 65 % из оксида урана, которую компания Union Minire отправила в 1940 году в Соединенные Штаты со своей шахты Шинколобуэ в Бельгийском Конго, чтобы она не попала в руки немцев. Фредерик Жолио и Генри Тизард еще в 1939 году независимо друг от друга предупреждали бельгийцев о германской опасности. Две тысячи стальных бочек с рудой стояли на открытом воздухе в порту Ричмонд на Статен-Айленде. В пятницу 18 сентября Гровс отправил Николса в Нью-Йорк купить ее.
В воскресенье Гровс составил от имени Дональда Нельсона, гражданского руководителя Управления военного производства, письмо, присваивающее Манхэттенскому инженерному округу наивысший приоритет – ААА. Гровс лично отвез это письмо Нельсону. «Он ответил решительным отказом; однако его мнение быстро изменилось, когда я сказал, что мне придется сообщить президенту, что проект следует закрыть, потому что Управление военного производства не желает выполнять его указания»[1879]. Гровс блефовал, но не его угрозы повлияли на решение Нельсона; к этому времени с ним, вероятно, уже связывались Буш и Генри Стимсон. Он подписал письмо. «В течение почти целого года, – отмечает Гровс, – у нас не было никаких крупных затруднений в отношении приоритетного снабжения»[1880].
В тот же день Гровс утвердил директиву о приобретении земельного участка площадью более 210 квадратных километров вдоль реки Клинч на востоке штата Теннесси; этот документ пролежал на столе его предшественника в течение всего лета. В Металлургической лаборатории этот участок назвали «Площадкой Х». Пока начальником инженерного округа был Маршалл, он собирался купить землю после того, как существование цепной реакции будет доказано на опыте.
В следующую среду, 23 сентября, присвоение Гровсу звания бригадного генерала было официально утверждено. Не успел он привинтить на погоны новые звездочки, как ему пришлось присутствовать на созванном в кабинете вонного министра командном совещании обойденного Комитета по военной политике Буша: там собрались Стимсон, начальник Генерального штаба армии Джордж Маршалл, Буш, Конант, Сомервелл, Стайер и оказавшийся под рукой адмирал. Гровс изложил свои планы. Стимсон предложил создать управляющий комитет из девяти человек. Гровс считал, что комитет из трех человек будет более работоспособным, и настоял на своем. Дискуссия пошла дальше. Внезапно Гровс объявил, что должен уйти: как он объяснил, ему нужно было успеть на поезд в Теннесси, чтобы осмотреть Площадку Х. Изумленный военный министр согласился его отпустить, и Лесли Ричард Гровс, та новая метла, которой предстояло чисто вымести Манхэттенский инженерный округ, отбыл на вокзал Юнион-стейшн. «Вы выставили меня в самом выгодном свете, – с благодарностью сказал Сомервелл Гровсу, когда тот вернулся в Вашингтон. – Я сказал им, что, если дело поручить вам, оно на самом деле пойдет»[1881]. И дело пошло.
Энрико Ферми начал проектировать полномасштабный котел для цепной реакции в мае 1942 года, когда один из экспоненциальных реакторов, сооруженных его группой под западными трибунами стадиона Стэгг-Филд, показал коэффициент k, дающий в экстраполяции на бесконечность значение 0,995[1882]. Металлургическая лаборатория искала более высококачественный графит и организовывала производство чистого металлического урана, более плотного, чем оксид; эти и другие усовершенствования должны были привести к получению k, большего 1,0. «Я помню, как говорил об этом эксперименте в Индианских дюнах[1883], – рассказал Ферми жене уже после войны, – именно тогда я впервые увидел дюны… Дюны мне понравились: день был ясный, и туман не приглушал цвета… Мы вылезли из воды и гуляли по берегу»[1884].
Как вспоминает Леона Вудс, этим летом, начиная подготовку к работе, они – с Гербертом Андерсоном и Ферми – купались «каждый день в пять часов вечера в ледяном озере Мичиган, возле огромного каменного волнолома в конце 55-й улицы»[1885]. В то время она еще была стеснительной двадцатидвухлетней аспиранткой. «Однажды вечером Энрико пригласил в гости Эдварда и [Мици] Теллер, Хелен и Роберта Малликен (Роберт был моим научным руководителем), а также Герба Андерсона, Джона Маршалла и меня». Они играли в модную тогда игру «Убийство». «В этот вечер, как только погасили свет, я забилась в угол и с изумлением слушала, как эти блестящие, успешные, знаменитые, умудренные люди вопили, толкались и целовались в темноте, как маленькие дети»[1886]. Все хорошие люди стеснительны, утешал ее Ферми, когда они познакомились поближе; его самого тоже всю жизнь угнетала стеснительность. Она вспоминает его лукавую самоиронию: «Как он часто говорил, он сам поражался, когда думал, какой он стеснительный»[1887].