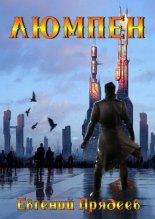Создание атомной бомбы Роудс Ричард
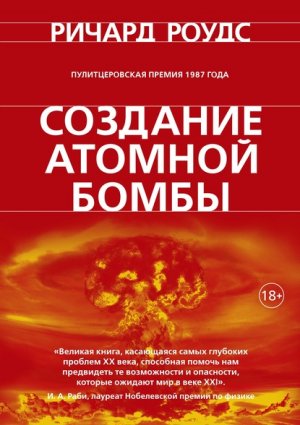
Я помню – и не забуду до самой смерти – прекрасное, безоблачное, безнадежное лето 1940 года… Как ни странно, в большинстве своем мы были в эти дни счастливы. По всей стране ощущалась своего рода коллективная эйфория. Не знаю, о чем мы думали. Мы были заняты. У нас была цель. Мы жили в состоянии постоянного возбуждения, обычно, если учитывать действительное положение вещей, не обещавшего ничего хорошего. В минуты отрезвления было трудно понять, на что мы можем надеяться. Но я сомневаюсь, что у многих из нас бывали такие минуты, да и вообще размышления. Все мы работали как сумасшедшие. Нас поддерживал прилив патриотического чувства, и Черчилль был одновременно его символом и сутью, его вдохновителем и выразителем[1521].
Этот прилив ощущали не только коренные англичане. Его чувствовали и ученые-иммигранты, получившие убежище в Британии. Франц Симон[1522], выдающийся химик, которого Фредерик Линдеман вывез в 1933 году из Германии и устроил в Кларендонской лаборатории, писал своему старому другу Максу Борну накануне битвы за Францию, что он хотел бы «отдать все свои силы борьбе за эту страну»[1523]. Хотя Симон, возможно, этого еще не сознавал, у него уже появилась такая возможность. Раньше в том же году, когда Фриш и Пайерлс только начинали обсуждать идеи, которые привели их к написанию пресловутых меморандумов, Фриш консультировался с Симоном по вопросам разделения изотопов. Фриш выбрал метод газовой термодиффузии – трубку Клузиуса, – потому что он показался ему самым простым, но Симон тогда же начал думать о других системах. В прошлом было опробовано около полудюжины разных подходов. Симон говорил в шутку, что без разделения изотопов нельзя даже на пол плюнуть; трудность состоит в сборе этих изотопов[1524]. Он хотел найти метод, подходящий для массового производства, потому что при соотношении содержания изотопов 1:139 разделение урана должно было производиться в крупных масштабах, как показали расчеты Фриша относительно 100 000 трубок Клузиуса. Фриш ярко описывал эту проблему следующей аналогией: «Это все равно, что прийти к врачу, который с большим трудом изготовил микроскопическое количество нового лекарства, и сказать ему: “А теперь нам нужно его столько, чтобы им можно было мостить улицы”»[1525].
Прилив патриотического чувства поддерживал и Марка Олифанта, и в этом состоянии он с еще большим, чем обычно, нетерпением относился к создающим помехи правилам. Когда Ф. Б. Мун усомнился в том, что газовая термодиффузия – оптимальный метод разделения изотопов, комитет Томсона его не поддержал, но по возвращении в Бирмингем Олифант просто предложил ему обсудить этот вопрос с Пайерлсом. «Всего за неделю-другую, – пишет Мун, – Пайерлс теоретически показал, что обычная диффузия будет более эффективна, и прямо написал об этом Томсону»[1526]. Пайерлс предложил комитету Томсона обратиться к Симону, лучшему специалисту в этой области. Комитет засомневался, хотя Симон уже получил к тому времени гражданство. Тогда Олифант без лишних промедлений разрешил Пайерлсу съездить к Симону в Оксфорд.
Тем временем Симон пытался обратить в свою веру скептически настроенного Линдемана. По совету Симона Пайерлс написал Линдеману 2 июня. В том же месяце они оба встретились с Линдеманом в Оксфорде. «Я не настолько близко с ним знаком, чтобы правильно перевести его хмыканье», – сообщал Пайерлс об этой встрече. Но он был уверен, что «убедил его в том, что все это дело заслуживает серьезного отношения»[1527].
Как и Пайерлс, Симон, рассмотрев несколько альтернативных вариантов, признал наилучшим методом разделения изотопов «обычную» газовую диффузию (в отличие от газовой термодиффузии). Скорость диффузии газов сквозь пористые материалы зависит от их молекулярного веса: более легкие газы диффундируют быстрее, чем более тяжелые. В 1913 году Фрэнсис Астон использовал этот принцип для разделения двух изотопов неона: он несколько тысяч раз повторил диффузию смешанного образца через трубочную глину – то есть неглазурованный фарфор, из которого делают курительные трубки. Диффузия через плотные материалы вроде трубочной глины происходит слишком медленно для применения в промышленных масштабах; Симон попытался найти более производительный механизм и пришел к выводу, что металлическая фольга, перфорированная миллионами микроскопических отверстий, должна работать быстрее. Если разделить цилиндрический объем на две части барьером из такой фольги и закачать в одну половину разделенного цилиндра смесь изотопов в газообразном виде, то газ, протекающий от одного конца цилиндра к другому, будет диффундировать через барьер. Газ, прошедший сквозь барьер, будет избирательно обогащен легкими изотопами по сравнению с газом, оставшимся за барьером. В случае гексафторида урана степень обогащения будет невысока; в идеальных условиях – всего 1,0043. Но, если повторить этот процесс достаточное число раз, можно получить любую степень обогащения, почти до 100 %.
Первоочередной задачей, как понимал Симон, был выбор материала для барьера. Чем мельче отверстия, тем более высокое давление может выдерживать сепараторная система, а чем выше давление, тем меньшего размера можно сделать установку. Каким бы ни был материал, он должен быть устойчивым к коррозионному воздействию гексафторида урана, – который они стали называть просто «гекс», возможно, даже не имея в виду его зловредные свойства[1528], – так как иначе микроскопические поры могли закупориться.
Одним июньским утром[1529] Симона посетило озарение: он взял молоток и расплющил им проволочный дуршлаг, который нашел у себя на кухне. Принеся получившийся предмет в лабораторию, он позвал двух своих ассистентов – венгра Николаса Курти и Г. С. Армса, высокого американца из Огайо, учившегося на стипендию Родса. «Армс, Курти, – объявил Симон, держа в руке дуршлаг, – по-моему, теперь мы можем разделить изотопы»[1530]. Расплющив молотком проволоку, он показал, как уменьшить отверстия до микроскопических размеров.
«Сначала мы использовали, – вспоминает Курти, – материал, который, кажется, называют “голландским полотном”, – очень тонкую сетку из медной проволоки, содержащую много сотен отверстий на дюйм». Ассистенты плющили этот материал вручную, чтобы получить отверстия еще меньшего размера. Испытывали медный барьер не на гексе, а на смеси водяного пара с углекислым газом, «то есть практически на обычной газированной воде»[1531]. Этот опыт был первым в целой серии шедших все лето и всю осень срочных экспериментов по изучению материалов, размеров пор, давления и других основных параметров, которые нужно было определить прежде, чем приступать к конструированию оборудования.
В конце июня Дж. П. Томсон дал своему комитету новое название, чтобы замаскировать его деятельность: MAUD. Это выглядит как аббревиатура, но на самом деле ею не является. Название возникло в таинственной телеграмме, которую Лиза Мейтнер послала своим английским друзьям: «недавно видела нильса и маргрете оба благополучны но расстроены новостями сообщите кокрофту и maud ray kent»[1532]. Получатель телеграммы передал сообщение Кокрофту, который решил, как он написал Чедвику, что maud ray kent – «анаграмма слов “radium taken»[1533]. Эта информация соответствовала другим сообщениям о том, что немцы забирают весь уран, какой только могут найти»[1534]. Томсон использовал первое слово загадочной анаграммы Кокрофта в качестве подходящего непонятного названия. Только в 1943 году члены комитета узнали, что гувернантку, учившуюсыновей Бора английскому, звали Мод Рэй; жила она в Кенте.
Сначала война переправилась через Ла-Манш по воздуху. В результате германской бомбардировки Варшавы осенью 1939 года, которую немцы называли тактической, так как польская столица была сильно укрепленным городом, британское Министерство авиации отказалось от своего обещания воздерживаться от стратегической бомбардировки[1535]. Однако ни одна из воюющих сторон не спешила начинать обмен налетами бомбардировщиков, и, хотя ночные затемнения усугубляли невзгоды и тревоги, которые переносили во время войны жители обеих стран, такое необъявленное перемирие продержалось до середины мая 1940 года. Затем в течение одной недели произошли два события, которые побудили Британию к активным действиям. Германские бомбардировщики, вылетевшие бомбить французские аэродромы в Дижоне, сбились с курса и сбросили свои бомбы на южногерманский город Фрайбург, в результате чего погибли пятьдесят семь человек. Германское Министерство пропаганды беззастенчиво обвинило в бомбежке британцев или французов и посулило им возмездие в пятикратном размере. Еще более мрачное и кровавое недоразумение привело к уничтожению центра города Роттердама. В северной части этого старинного нидерландского порта голландские войска продолжали упорно сопротивляться еще 14 мая. Германский командующий приказал провести «короткий, но опустошительный воздушный налет»[1536], надеясь, что это может решить исход битвы. Тем временем переговоры с голландской стороной продвинулись вперед, и налет был отменен, но сообщение об этом пришло слишком поздно, и половина из сотни бомбардировщиков «Хейнкель He-111», отправленных в налет, сбросили свой груз – 94 тонны бомб. Бомбы вызвали обширный пожар складов жира и маргарина. В первом официальном заявлении Нидерландов, выпущенном посольством в Вашингтоне, говорилось о 30 000 жертв и опустошенном городе; реакция западных демократий была негодующей. В действительности погибло около 1000 человек; около 78 000 жителей остались без крова.
Британия нанесла ответный удар 15 мая, отправив девяносто девять бомбардировщиков в налет на железнодорожные узлы и склады Рура. Гитлер, занятый войной во Франции, не сразу принял ответные меры, но выпустил директиву, подготовившую их. Он разрешил люфтваффе, «как только они смогут сосредоточить для этого достаточное число самолетов, развернуть в полном объеме боевые действия против английской метрополии»[1537][1538].
Первое воздушное наступление Германии, получившее название «битва за Британию», началось в середине августа. В течение целого месяца шли ожесточенные дневные бои между самолетами люфтваффе и истребителями британской авиации, боровшимися за превосходство в воздухе в преддверии операции «Морской лев», запланированным Германией вторжением через Ла-Манш. Нападений на города пока не было. Основными целями были британские аэродромы и авиастроительные заводы. Гитлер оставил решение о начале бомбардировки Лондона за собой – точно так же, как до этого сделал кайзер[1539]. Однако и города вскоре должны были войти в список целей; в ночь на 28 августа в планах люфтваффе была намечена бомбежка Ливерпуля. В дело снова вмешалась случайность: 24 августа германские бомбардировщики, вылетевшие бомбить нефтехранилища на Темзе, пропустили свою цель и сбросили бомбы на центр Лондона.
Черчилль немедленно принял ответные меры и отправил на Берлин в течение одной недели четыре бомбардировочных налета. Они не причинили большого физического ущерба, но подтолкнули Гитлера к истерическому возмездию:
И если британская авиация сбросит на нас три или четыре тонны бомб, то мы сбросим за одну ночь 150, 180, 250, 300, 400, тысячу тонн. Если они объявят о крупномасштабном нападении на наши города, то мы сотрем их города с лица земли![1540]
В любом случае битва за Британию шла к поражению люфтваффе; немцы потеряли около 1700 самолетов против приблизительно 900 британских, и такие потери были неприемлемы. Ночные налеты должны были быть менее опасны, так как бомбардировщики прикрывала темнота. Но в те времена, до появления надежных радаров, ночные бомбардировки были и гораздо менее точными, чем дневные, и для них требовались, соответственно, более крупные цели. Таким образом, города и гражданское население отчасти стали жертвами по умолчанию, поскольку технологий, необходимых для более точного бомбометания, еще не существовало. В любом случае Гитлер считал террор особо ценным оружием, способным, по его словам, уничтожить у врага «волю к сопротивлению»[1541]. Эта позиция получила отражение в записке военно-морского руководства от 10 сентября 1940 года: «…систематическая и продолжительная бомбардировка Лондона может привести противника в такое моральное состояние, при котором в операции “Морской лев” уже не будет необходимости»[1542]. Гитлер приказал начать бомбардировку. Поскольку она продолжалась несколько месяцев, ее, строго говоря, нельзя было назвать блицкригом – «молниеносной войной», – но жителям Британии, находившимся под бомбами, было не до тонких различий, и они вскоре стали называть ее просто «блицем».
Закон Грешема[1543] применим к бомбоубежищам в той же мере, что и к плохим и хорошим деньгам: первыми наполнялись людьми подвалы дорогих универмагов наподобие «Диккенс» или «Джонс», в которых служащие разносили угощения – шоколад и мороженое. Поскольку бомбежки происходили регулярно, ночь за ночью, у лондонцев было время привыкнуть к ним. Правда, такое привыкание может действовать в обоих направлениях: человек, исходно бесстрашный, может постепенно утратить самообладание, а человек, изначально боявшийся, может преодолеть свой страх.
Большинство лондонцев пережидало опасности налетов не в убежищах, а в собственных домах: 27 % укрывались в устроенных во дворах «убежищах Андерсона» из гофрированного железа, 9 % – в уличных бомбоубежищах и только 4 % в метро. К середине ноября на город упало 13 700 тонн фугасных боеприпасов и 12 600 тонн зажигательных бомб, в среднем по 201 тонне за ночь. За весь девятимесячный период блица, с сентября по май, было сброшено 18 800 тонн, то есть 18,8 килотонны, если использовать нынешнюю терминологию[1544]. В 1940 и 1941 годах в Лондоне погибли 20 083 гражданских лица, а в остальной Британии – еще 23 602, то есть в общей сложности жертвами блица за второй и третий годы войны (в которой Соединенные Штаты все еще сохраняли официальный нейтралитет) стали 43 685 человек[1545]. После этого бомбардировочные налеты шли в основном в обратном направлении. В 1942 году под бомбами погибли лишь двадцать семь лондонцев.
В декабре 1940 года Франц Симон, теперь уже официально работавший на комитет MAUD, составил отчет, имевший для будущего разработки урановой бомбы почти такое же важное значение, как и первые меморандумы Фриша и Пайерлса. Он был озаглавлен «Оценка размеров реальной сепараторной установки». Целью отчета, писал Симон, было «предоставление данных о размерах и стоимости установки, выделяющей из природного материала 1 кг 235U в сутки»[1546]. Он оценивал стоимость такой установки приблизительно в 5 000 000 фунтов и подробно описывал, что для нее потребуется.
Симон никогда не доверял почте. В разгар блица он доверял ей еще меньше. Он размножил свой отчет приблизительно в сорока экземплярах, накопил достаточное количество выдававшегося в ограниченных количествах бензина для поездки туда и обратно и, незадолго до Рождества, отправился из Оксфорда в Лондон, находившийся под угрозой бомбежек, чтобы доставить Дж. П. Томсону пло полугода напряженной работы, всех усилий, которые он приложил к борьбе за свою страну[1547].
Возможно, немцы действительно копили радий, как, по мнению Кокрофта, сообщали слова «maud ray kent». Во всяком случае, они точно запасали уран в промышленных количествах. В июне 1940 года, приблизительно тогда же, когда Симон колотил молотком по своему кухонному дуршлагу, в оккупированной Бельгии фирма Auer заказала у Union Minire шестьдесят тонн очищенного оксида урана[1548]. В этом же месяце в Гамбурге Пауль Хартек попытался измерить коэффициент размножения нейтронов в хитроумной системе из оксида урана и сухого льда – замороженной углекислоты, источника углерода, в котором нет никаких посторонних веществ кроме кислорода, – но не смог убедить Гейзенберга выделить ему уран в количестве, достаточном для получения однозначных результатов. У Гейзенберга были более масштабные планы. Он начал сотрудничество с фон Вайцзеккером из Институтов кайзера Вильгельма. В июле они начали проектировать деревянное лабораторное здание, которое предполагалось построить на территории Института биологии и вирусологии, рядом с физическим институтом. Чтобы отпугнуть любопытных, они назвали новое здание «Вирусным флигелем». В нем они собирались построить докритический урановый реактор.
Германия имела в своем распоряжении единственный в мире завод по производству тяжелой воды и тысячи тонн урановой руды в Бельгии и Бельгийском Конго. У нее были лучшие в мире химические заводы и компетентные физики, химики и инженеры. Ей недоставало только циклотрона для измерения ядерных постоянных. Падение Франции – Париж был оккупирован 14 июня, а 22 июня подписано перемирие, – решило эту проблему. Курт Дибнер, главный специалист Военного министерства по ядерной физике, поспешил в Париж. Как он выяснил, Перрен, фон Хальбан и Коварский бежали в Англию и увезли с собой двадцать шесть канистр тяжелой воды, добытые Алье, но Жолио решил остаться во Франции. Впоследствии французский лауреат стал председателем руководящего комитета Национального фронта, крупнейшей организации движения Сопротивления[1549].
Когда Жолио вернулся в лабораторию после начала оккупации, его долго допрашивали немецкие офицеры. Их переводчиком, присланным из Гейдельберга, оказался Вольфганг Гентнер, бывший студент Радиевого института, который проверял работу счетчика Гейгера, когда в 1933 году Жолио открыл наведенную радиоактивность. Однажды вечером Гентнер тайно встретился с Жолио в студенческом кафе и предупредил его, что циклотрон, который он строит, может быть реквизирован и увезен в Германию. Чтобы предупредить эту катастрофу, Жолио договорился о компромиссе: циклотрон должен остаться на месте, но немецкие физики могут использовать его для чисто научных экспериментов, а сам Жолио продолжит работать директором лаборатории[1550].
Вирусный флигель был закончен в октябре. Помимо лаборатории в нем находилась специальная выложенная кирпичом яма двухметровой глубины, аналогичная резервуару с водой, который Ферми использовал для исследования размножения нейтронов. К декабрю Гейзенберг и фон Вайцзеккер были готовы провести первые эксперименты. Наполнив яму водой, служившей одновременно отражателем и защитой от излучения, они опустили в нее большой алюминиевый контейнер, заполненный перемежающимися слоями оксида урана и парафина. Радиево-бериллиевый источник, установленный в центре контейнера, испускал нейтроны, но германским физикам не удалось обнаружить никакого размножения нейтронов. Этот эксперимент подтвердил то, что уже продемонстрировали Ферми и Сцилард: обычный водород, будь то в воде или в парафине, в сочетании с природным ураном не поддерживает цепную реакцию.
После осознания этого обстоятельства у германского проекта остались два возможных замедляющих материала – графит и тяжелая вода. Одно ошибочное измерение, полученное в январе, уменьшило их число до единицы. Работавший в Гейдельберге Вальтер Боте, выдающийся экспериментатор, который впоследствии получил Нобелевскую премию совместно с Максом Борном, измерил сечение поглощения в углероде, использовав для этого метровый шар из высококачественного графита, погруженный в резервуар с водой. Он получил сечение, равное 6,4 · 10–27 см2, то есть более чем вдвое превышающее результат Ферми, и заключил, что графит, как и обычная вода, поглощает слишком много нейтронов и непригоден для поддержания цепной реакции в природном уране[1551]. Фон Хальбан и Коварский, работавшие теперь в Кембридже и поддерживающие связь с комитетом MAUD, также получили завышенную оценку сечения поглощения в углероде – вероятно, в обоих экспериментах использовался графит, загрязненный поглощающими нейтроны веществами, такими как бор, – но их результаты впоследствии сравнили с результатами Ферми. Боте такой проверки провести не мог. Предыдущей осенью Сцилард обратился к Ферми с новым призывом к соблюдению секретности:
Когда [Ферми] завершил свои измерения [поглощения в углероде], снова встал вопрос секретности. Я пришел к нему в кабинет и сказал, что то значение, которое он получил, возможно, не следует делать достоянием гласности. На этот раз Ферми в самом деле вышел из себя; он искренне полагал, что это бессмысленно. Мне больше нечего было сказать, но в следующий раз, когда я зашел к нему, он сказал мне, что к нему приходил Пеграм, и Пеграм считает, что публиковать это значение нельзя. С этого момента начал действовать режим секретности[1552].
И случилось это как раз вовремя, так что немецкие исследователи отказались от дальнейшей работы с дешевым и действенным замедлителем. Измерения Боте положили конец экспериментам с графитом в Германии. Ничто в документальных свидетельствах не говорит о том, что завышенная оценка была получена преднамеренно, но стоит отметить, что в 1933 году Боте, которому покровительствовал Макс Планк, не получил места директора Физического института Гейдельбергского университета из-за своей антинацистской политической позиции. «Эти отвратительные склоки настолько подорвали мое здоровье, – писал он впоследствии в коротких неопубликованных мемуарах, – что мне пришлось провести долгое время в санатории Баденвайлер». Когда Боте поправился, Планк устроил его в Физический институт Общества кайзера Вильгельма в Гейдельберге, но «нацисты по-прежнему притесняли меня и даже обвиняли в фальсификации научных результатов»[1553].
Почти в то же самое время – в начале 1941 года – Хартек выяснил в Гамбурге то, что Отто Фриш незадолго до этого выяснил в Ливерпуле. Фриш перебрался в этот промышленный портовый город на северо-западе Англии, чтобы работать с Чедвиком и на его циклотроне. Там он изготовил трубку Клузиуса, в чем ему помогал ассистент из студентов, которого приставил к нему Чедвик (они действовали в лаборатории так энергично и координированно, что получили совместное прозвище Frisch and Chips[1554]), и обнаружил, как рассказывает сам Фриш, что «гексафторид урана – один из тех газов, для которых метод Клузиуса не подходит»[1555]. Это открытие совершенно не отбросило британскую программу назад, так как Симон уже вовсю работал над барьерной газовой диффузией. А вот немецкие исследователи так верили в термодиффузию, что даже не озаботились рассмотрением каких-либо альтернативных вариантов. Они быстро занялись этим вопросом и выявили несколько перспективных методов; как ни странно, барьерная диффузия в их число не входила. Повторное рассмотрение проблемы разделения еще более ясно показало, что 235U и 238U можно разделить только методами грубой силы, причем очень дорогостоящими.
В марте 1941 года, когда Хартек после совещания с коллегами сообщил о своих резльтатах в Военное министерство, он подчеркивал, что, по общему мнению, разделение изотопов может быть осуществимо «только для особых случаев, в которых дешевизна является соображением лишь второстепенной важности»[1556]. Он имел в виду только для бомбы – так он сказал после войны историку Дэвиду Ирвингу. Немецкие физики ставили «особые случаи» на второе место в своем списке; прежде всего они рекомендовали в срочном порядке заняться производством тяжелой воды. Подобно Ферми и Сциларду, они выбрали вначале цепную реакцию на медленных нейтронах в природном уране. Если добиться получения этой реакции, то потом, возможно, появятся и «особые случаи». При тех неполных знаниях, которыми они располагали, у них не было другого выбора.
В октябре 1940 года подполковник Судзуки представил свой доклад генерал-лейтенанту Ясуде. Доклад этот был сосредоточен на одной основополагающей теме: возможности доступа Японии к месторождениям урана. Он рассмотрел не только саму Японию, но и Корею с Бирмой и заключил, что его страна может получить достаточные запасы урана. Следовательно, возможность создания бомбы существует.
Тогда Ясуда обратился к директору японского Физико-химического исследовательского института, который передал эту задачу ведущему японскому физику Ёсио Нисине. Нисина родился в конце периода Мэйдзи, и в 1940 году ему было пятьдесят лет. Он был известен своими теоретическими трудами по комптоновскому эффекту и ранее работал с Нильсом Бором в Копенгагене, где пользовался репутацией космополита и человека исключительного. Он построил в своей токийской лаборатории «Рикен» небольшой циклотрон, а в 1940 году занимался с помощью ассистента, учившегося в Беркли, созданием нового полутораметрового ускорителя с 250-тонным магнитом, планы которого предоставил ему Эрнест Лоуренс. Под началом Нисины в лаборатории «Рикен» работали более ста молодых японских ученых, лучшие из лучших. Они называли его «Оябун» – «Старик», и он руководил лабораторией на западный манер, поддерживая теплые и неформальные отношения с сотрудниками.
Измерение сечений началось в лаборатории «Рикен» в декабре. В апреле 1941 года был получен официальный приказ: военно-воздушные силы Императорской армии дали разрешение на проведение исследований, направленных на создание атомной бомбы[1557].
Все американское физическое сообщество знало Лео Сциларда как главного проповедника секретности работы над делением ядра. В конце мая 1940-го в его почтовый ящик пришло недоуменное письмо от принстонского физика Луиса А. Тернера. Тернер написал в редакцию Physical Review сообщение[1558], копию которого он переслал Сциларду. Оно называлось «Получение атомной энергии из U 238» (Atomic energy from U 238), и Тернер спрашивал, не следует ли отказаться от его публикации. «Кажется, эти рассуждения достаточно отвлеченны и не могут принести никакого вреда, – писал Тернер Сциларду, – но об этом лучше судить кому-нибудь другому»[1559].
В январском выпуске журнала Reviews of Modern Physics была опубликована блестящая обзорная статья Тернера по делению ядра[1560]; в ней цитировались почти сто статей, вышедших за двенадцать месяцев, которые прошли с момента сообщения об открытии Гана и Штрассмана. Само число этих статей говорило о важности этого открытия для физики и о поспешности, с которой физики взялись за исследование этой области. Тернер также отметил недавний отчет Нира и Колумбийского университета, подтверждавший, что деление медленными нейтронами происходит в 235U. Не заметить этот отчет было трудно: New York Times и другие газеты широко разрекламировали эту историю. Тернер писал Сциларду, то ли саркастически, то ли искренне, что ему было «несколько трудно понять руководящие принципы [секретности исследований деления] с учетом широкой огласки, которую получило недавно разделение изотопов»[1561]. То, что он прочитал при подготовке своего обзора, и новые измерения Колумбийского университета навели его на дальнейшие размышления; их результатом было письмо в Physical Review.
Поскольку деление медленными нейтронами происходит в 235U, говорилось в письме, а обычный уран состоит из этого изотопа всего на 1/140 часть, «естественно заключить, что в случае использования медленных нейтронов потенциальным источником атомной энергии можно считать лишь 1/140 часть любого количества урана»[1562]. Но на самом деле все может сложиться иначе, продолжал Тернер. Возможно, энергия деления большей части 238U, хотя ее и нельзя высвободить непосредственно, может быть высвобождена непрямым путем.
Тернер имел в виду возможность преобразования части урана, бомбардируемого нейтронами, в трансурановые элементы, те самые трансураны, на исчезновение которых в результате открытия деления надеялся Бор. При захвате нейтрона атом 238U превращается в изотоп 239U. Само это вещество может быть подвержено делению, предполагал Тернер. Но даже независимо от того, делится 239U или нет, его ядро энергетически неустойчиво и с высокой вероятностью превращается путем бета-распада в новые элементы, более тяжелые, чем уран. А один или несколько из этих элементов могут быть подвержены делению медленными нейтронами – что позволило бы использовать 238U, хотя и не напрямую.
Следующим после урана элементом периодической системы должен быть элемент 93. Однако Тернер считал наиболее вероятным кандидатом на деление не, а следующий за ним элемент, в который элемент 93, вероятно, должен распадаться: он назвал этот элемент «эка-осмием»[1563][1564]. А, предполагал Тернер, число нейтронов в котором изменилось с четного на нечетное при поглощении нейтрона перед распадом (239 нуклонов – 94 протона = 145 нейтронов + 1 = 146), так же как при превращении 235U в 236U, должен быть даже еще более склонен к делению, чем более легкий изотоп урана: «В … избыточная энергия должна быть даже больше, чем в, и следует ожидать большего сечения деления»[1565].
Пока Тернер обдумывал эти теории, два человека в Беркли, Эдвин М. Макмиллан и Филипп М. Абельсон, независимо от него приближались к демонстрации их справедливости. Экспериментатор Макмиллан, худой, веснушчатый человек родом из Калифорнии, был одним из тех, кто в 1930-х годах внес самый большой вклад в доведение циклотронов Эрнеста Лоуренса до такого состояния, в котором они стабильно работали и давали достоверные результаты. Вскоре после того, как в конце января 1939 года до Беркли дошла новость об открытии деления, он разработал простой и изящный эксперимент для изучения этого явления. «Когда ядро урана поглощает нейтрон и происходит деление, – впоследствии говорил Макмиллан в одном из своих выступлений, – два получившихся фрагмента разлетаются в разные стороны с огромной силой, достаточной, чтобы они смогли пролететь в воздухе или другой среде на некоторое расстояние. Величина этого расстояния, называемая “пробегом”, представляет значительный интерес, и я взялся ее измерить». Сначала он взял для этого тонкие листы алюминиевой фольги, «как книжные страницы»[1566], сложенные стопкой поверх слоя оксида урана, под который была подложена фильтровальная бумага. Он бомбардировал уран медленными нейтронами. Некоторые из фрагментов от деления вылетали вверх в стопку фольги; каждый из таких фрагментов, достигнув конца своего пробега, длина которого зависела от его массы, оставался в одном из листов фольги; затем Макмиллан мог просто последовательно проверить листы в ионизационной камере, найти характеристический период полураспада различных продуктов деления и определить длину их пробега (ядро урана может делиться многими способами с образованием ядер множества разных более легких элементов).
Однако нейтронная бомбардировка вызывает радиоактивность и в самом алюминии, что затрудняло измерения периодов полураспада. Поэтому Макмиллан заменил фольгу на стопку папиросной бумаги, предварительно обработанной кислотой, чтобы удалить любые следы минералов, которые могут стать радиоактивными под воздействием нейтронов. «Ничего особо интересного в отношении фрагментов от деления из этого не выяснилось»[1567], – отмечает он. Зато в урановом покрытии фильтровальной бумаги, лежавшей под стопкой папиросной бумаги, «обнаружилось нечто весьма интересное». Он нашел там два радиоактивных элемента с периодами полураспада, отличными от периодов вылетавших продуктов деления. А так как то, что оставалось в урановом слое, никуда не вылетало, эти два элемента, видимо, не были продуктами деления. Вероятно, они получились из урана в результате захвата нейтронов. Макмиллан подозревал, что один из этих двух элементов, период полураспада которого составлял 23 минуты, был тем же элементом, который Ган, Мейтнер и Штрассман в 1939 году определили как 239U, «изотоп урана, порожденный резонансным захватом нейтрона»[1568]. Другой радиоактивный элемент, остающийся в урановом слое, имел более долгий период полураспада, около 2 суток. В отчете о своих экспериментах с фольгой и папиросной бумагой Макмиллан предпочел не высказывать предположений о природе этого второго элемента, но про себя, как он вспоминает, он думал, что «элемент с двухсуточным периодом может… быть продуктом бета-распада урана-239 и, следовательно, изотопом [трансуранового] элемента 93; собственно говоря, это объяснение было самым разумным»[1569].
Чтобы проверить это толкование, Макмиллану нужно было узнать что-нибудь о химических свойствах этого вещества. Он ожидал, что элемент 93 будет химически подобен рению, металлу с атомным номером 75, стоящему в периодической системе рядом с осмием, – то есть будет, если использовать старую терминологию, «эка-рением». Он бомбардировал более крупный образец урана и обратился за помощью к Эмилио Сегре, работавшему тогда в Беркли научным сотрудником. «Сегре был очень хорошо знаком с химией [рения], потому что в 1937 году он и его коллеги [исследуя рений] открыли [сходный элемент], который теперь называют технецием». Сегре начал химический анализ облученного урана; тем временем Макмиллан повысил точность своих измерений периода полураспада и получил 2,3 суток. Сегре, говорит Макмиллан, «показал, что материал с периодом полураспада в 2,3 суток не имеет никаких свойств рения, а ведет себя как редкоземельный элемент». Редкие земли, элементы с 57-го (лантан) по 71-й (лютеций), образуют последовательность близкородственных и странных с точки зрения химии элементов, расположенных между барием и гафнием. Поскольку они обладают средними в периодической системе атомными весами, близкими к барию, они часто оказываются продуктами деления. Когда Сегре обнаружил, что элемент с периодом полураспада 2,3 суток вопреки ожиданиям ведет себя не как рений, а как редкая земля, Макмиллан решил, что дело именно в этом: «Поскольку среди продуктов деления много редкоземельных элементов, в то время казалось, что это открытие означает конец всей этой истории»[1570]. Сегре даже опубликовал о своей работе статью «Безуспешные поиски трансурановых элементов» (An unsuccessful search for transuranic elements).
Возможно, Макмиллан на этом и успокоился бы, но тот факт, что вещество с периодом полураспада 2,3 суток не вылетает из уранового слоя, продолжал его тревожить. «Шло время, и по мере того, как процесс деления становился все понятнее, мне было все сложнее поверить, что один из продуктов деления может вести себя настолько не похоже на остальные, и в начале 1940 года я вернулся к этой задаче». К тому времени уже работал новый полутораметровый циклотрон с массивным магнитом в прямоугольной раме, достаточно большой, чтобы в ней разместилась для фотографии вся группа Лоуренса – двадцать семь человек; два ряда сидело на нижней челюсти чудовища (в центре хорошо виден сам Лоуренс), а третий стоял внутри его пасти. Макмиллан использовал его для более подробного исследования изотопа с периодом полураспада 2,3 суток. Кроме того, он изучал это вещество с химической точки зрения и обнаружил одно важное обстоятельство: оно не всегда выделялось из раствора при фракционной кристаллизации, как можно было бы ожидать, будь оно действительно редкоземельным элементом.
«К тому времени наступила весна 1940 года, – продолжает Макмиллан, – и в Беркли приехал в краткосрочный отпуск д-р Филипп Абельсон»[1571]. Абельсон был тем самым молодым экспериментатором, которому Луис Альварес бросился сообщать новость об открытии деления, выскочив недостриженным из парикмахерского кресла в Беркли. Он получил в Беркли докторскую степень и устроился на работу на ФЗМ под руководством Мерла Тьюва. Как и Макмиллан, он сомневался в том, что вещество с периодом полураспада 2,3 суток – всего лишь очередной редкоземельный продукт деления. В апреле 1940-го он нашел время начать разбираться с его химией – хотя в аспирантуре он занимался физикой, еще до этого он получил в Университете штата Вашингтон степень бакалавра по химии. Но ему нужен был более крупный образец подвергнутого бомбардировке урана, чем можно было получить на оборудовании ФЗМ. «Когда он приехал в отпуск, – говорит Макмиллан, – и мы выяснили, что у нас есть общие интересы, мы решили поработать вместе»[1572]. Макмиллан изготовил новую партию облученного урана. Абельсон занялся химическими исследованиями.
«Не прошло и дня, – вспоминает Абельсон, – как я установил, что химические свойства вещества с 2,3-суточной активностью отличаются от свойств всех известных элементов… [Оно] вело себя очень похоже на уран»[1573]. Оказалось, что трансураны – не металлы, подобные рению и осмию, а схожие с ураном члены новой последовательности элементов, похожих на редкоземельные. Чтобы располагать строгим доказательством того, что они получили именно трансуран, они выделили образец чистого урана с сильной 23-минутной активностью 239U и показали при помощи измерений периодов полураспада, что интенсивность 2,3-суточной активности возрастает по мере ослабления активности 23-минутной. Если вещество с 2,3-суточной активностью химически отличается от любого другого элемента и возникает в результате распада 239U, значит, оно должно быть элементом 93. Макмиллан и Абельсон описали полученные результаты. Макмиллан уже придумал название для нового элемента – нептуний, по аналогии с названием планеты, следующей за Ураном, – но они решили не предлагать названия в своем отчете. Они отослали свой отчет под названием «Радиоактивный элемент 93» (Radioactive element 93)[1574] в Physical Review 27 мая 1940 года, в тот же день, когда Луис Тернер послал Сциларду свои теории относительно трансуранов: так близко друг к другу иногда оказываются в науке предвидение и открытие.
Видимо, 30 мая, когда Сцилард ответил на письмо Тернера, он еще не знал о работе, проведенной в Беркли (статья была опубликована 15 июня), так как он ее не упоминает. Однако он согласился с логикой рассуждений Тернера, отметил, что они «впоследствии могут оказаться очень важным вкладом»[1575], – и предложил держать их в секрете. Сцилард увидел нечто большее, чем Тернер. Он понял, что подверженный делению элемент, возникающий в уране, можно будет выделить химическими методами: что сравнительно простой и сравнительно дешевый процесс химической очистки сможет заменить чудовищно сложный и дорогостоящий процесс физического разделения изотопов и позволит создать бомбу. Однако нестабильный элемент 93, нептуний, еще не был тем самым элементом, подверженным делению, и Сцилард еще не сознавал, насколько малое количество делящегося материала потребуется для получения критической массы. Тернер пришел к своим выводам первым, но не единственным. Где-то в июле – еще до того, как в Германию поступил июньский номер Physical Review с сообщением о результатах Макмиллана и Абельсона, – та же идея независимо пришла в голову фон Вайцзеккеру, ехавшему в тот момент в берлинском метро[1576]. Он, однако, предполагал, что можно будет использовать элемент 93; он сообщил о своей идее в Военное министерство в пятистраничном докладе. В начале 1941 года группа, работавшая в Кавендишской лаборатории в Британии, пришла к аналогичным выводам и представила их комитету MAUD. Но немцы считали, что урановый реактор, в котором можно будет производить новые элементы, сможет работать только на тяжелой воде, а британцы возлагали большие надежды на разделение изотопов. Поэтому ни та ни другая группа не стала работать над подходом Тернера.
Абельсон вернулся в Вашингтон, но Макмиллан продолжал работать. Нестабильный нептуний был подвержен бета-распаду с периодом полураспада 2,3 суток; Макмиллан подозревал, что он распадается в элемент 94. По аналогии с ураном, который самопроизвольно испускает альфа-частицы, можно было предположить, что и элемент 94 является естественным альфа-излучателем. Поэтому Макмиллан стал искать испускаемые смешанным образцом урана и нептуния альфа-частицы с пробегом, отличным от пробега альфа-частиц, которые испускает уран. К осени он их нашел. Тогда, «обнаружив, что альфа-излучение не исходит из изотопов протактиния, урана или нептуния»[1577], он попытался применить химические методы разделения элементов. Он был в шаге от открытия.
Но в это время американская наука, подстегиваемая призывами из Британии, наконец переходила на военное положение. В конце лета 1940 года Черчилль отправил в Америку Генри Тизарда с делегацией специалистов и покрытым черной эмалью металлическим сундуком – в буквальном смысле слова «черным ящиком», – битком набитым военными тайнами. Жемчужиной этой коллекции был полостной магнетрон, созданный в бирмингемской лаборатории Марка Олифанта. В составе делегации был будущий нобелевский лауреат Джон Кокрофт, получивший задание первостепенной важности: он должен был объяснить, как работает высокомощный генератор микроволнового излучения. Американцы никогда раньше не видели ничего подобного. В один из выходных дней в октябре Кокрофт встретился с Эрнестом Лоуренсом и мультимиллионером Альфредом Лумисом, физиком и финансистом, последним ученым-любителем. Дело было в личной лаборатории Лумиса в фешенебельном нью-йоркском пригороде Таксидо-парк. Эта встреча положила начало созданию новой лаборатории НКОИ в МТИ. Чтобы сохранить работу лаборатории в тайне, ее назвали Радиационной лабораторией, как будто бы серьезные ученые на самом деле могли заниматься столь сомнительными вещами, о которых болтали прожектеры от ядерной физики. Лумис хотел, чтобы новую лабораторию возглавил Лоуренс. Лоуренс предпочел остаться в Беркли и заниматься проектированием и финансированием нового 4,5-метрового циклотрона, но готов был предложить лучшим из своих сотрудников переехать в Кембридж[1578]. В числе прочих он уговорил переехать и Макмиллана: «В ноябре 1940 года я уехал из Беркли, чтобы принять участие в разработке радара для национальной обороны»[1579]. Приоритеты Лоуренса и Макмиллана отражают приоритеты всей американской науки на конец 1940 года. Циклотроны мирного времени и радары для противовоздушной обороны казались важнее, чем сверхбомбы. Остававшийся в Ливерпуле Джеймс Чедвик смотрел на этот вопрос иначе. Он был настолько возмущен (что вообще было ему несвойственно) публикацией отчета Макмиллана и Абельсона об элементе 93, что потребовал – причем успешно, – чтобы британское посольство заявило официальный протест. В Беркли действительно был отправлен один из атташе, который сделал Эрнесту Лоуренсу, лауреату Нобелевской премии по физике 1939 года, выговор за разглашение секретной информации немцам в столь опасное время.
Летом 1939 года Лаура и Энрико Ферми вместе со своими двумя детьми переехали из квартиры на Манхэттене через мост Джорджа Вашингтона и за «Палисады», в приятный пригородный поселок Леония, штат Нью-Джерси. Там жили со своими семьями многие сотрудники Колумбийского университета, в том числе Гарольд Юри, невысокий, энергичный человек, который и убедил Ферми купить там дом, превознося, как пишет Лаура, «превосходные государственные школы Леонии и преимущества жизни в буржуазном городке, в котором у наших детей может быть всё, что есть у других детей»[1580]. Юри дал им множество полезных советов и, в частности, предупредил итальянскую пару о необходимости неустанной борьбы с росичкой[1581]. Ферми вырос в римских квартирах; он быстро заявил, что Digitaria sanguinalis[1582] – «дикое однолетнее растение»[1583], не приносящее никакого вреда, и предпочел не заниматься этим вопросом. Лаура была готова бороться с сорняками, но не могла отличить росичку от газонной травы. Юри зашел однажды помочь ей советом и сразу разобрался, в чем дело. «Знаете, Лаура, в чем беда с вашим газоном? – сочувственно спросил ее нобелевский лауреат по химии. – Вся ваша трава – росичка»[1584]. Жить в Леонии было приятно; Ферми работал над интеграцией в американское общество. Как вспоминает Сегре, его друг «целенаправленно изучал современную американскую культуру и читал комиксы… Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь из людей, иммигрировавших взрослыми, так искренне стремился стать настоящим американцем»[1585].
В конце 1940 года Сегре поехал в Индиану на собеседование в Университете Пердью[1586]. Собеседование это было бесцельным, потому что он не собирался уходить из Беркли, – «там была слишком хорошая установка, на которой я мог сделать то, чего не смог бы сделать нигде больше»[1587]. Оттуда он поехал дальше на восток, в гости к Ферми, жившим в Леонии. Как вспоминает Сегре, и он, и Ферми независимо от Тернера уже думали об элементе 94. 15 декабря, пишет он, «мы долго гуляли вдоль Гудзона в морозную погоду, разговаривая о том, что изотоп элемента 94 с массой 239… может быть подвержен делению медленными нейтронами. Если бы это оказалось правдой, [его] можно было бы использовать в качестве ядерной взрывчатки вместо 235U. Более того, [этот новый элемент] можно было бы производить в ядерном реакторе, работающем на обычном уране. Это открывало совершенно новые перспективы создания ядерной взрывчатки, поскольку устраняло необходимость разделения изотопов урана, которое было в то время поистине пугающей задачей»[1588].
В то же время в Нью-Йорке оказался Лоуренс. «Мы с Ферми, Лоуренсом и Пеграмом встретились в кабинете декана Пеграма в Колумбийском университете и разработали планы облучения на циклотроне, которое позволило бы получить достаточное количество [элемента 94]»[1589]. После Рождества Сегре вернулся в Беркли.
Один молодой химик, Гленн Т. Сиборг, уже начал работать там над обнаружением и выделением элемента 94. Сиборг родился в Мичигане в шведско-американской семье, но вырос в Лос-Анджелесе. В 1937 году, когда ему было двадцать пять, он получил в Беркли докторскую степень по химии. Он был чрезвычайно высок и худ, по-шведски сдержан, но талантлив, и работать с ним было приятно. На старших курсах его настльной книгой была «Прикладная радиохимия», сборник лекций, которые Отто Ган прочитал в 1933 году в Корнелле: радиохимия была его страстью. Ею он и занимался в Беркли в январе 1939 года, когда стало известно об открытии деления. Подобно Филиппу Абельсону, он был взволнован этим открытием и огорчен тем, что упустил его; тем вечером, когда он узнал об этой новости, он бродил по улицам в течение нескольких часов.
Еще в конце августа он бомбардировал нейтронами образец урана, чтобы получить нептуний, и поручил одному из своих аспирантов-второкурсников, Артуру Ч. Валю, изучить его химию. В его поисках элемента 94 также принимал участие Джозеф У. Кеннеди, работавший в Беркли, как и Сиборг, преподавателем химии. К концу ноября группа провела еще четыре бомбардировки и достаточно хорошо изучила химические свойства нептуния, чтобы разработать технологию выделения высокочистых образцов. Затем Сиборг написал Макмиллану в МТИ; впоследствии он кратко изложил содержание этого письма в тщательно отредактированных воспоминаниях, написанных в форме дневника: «Учитывая, что он уехал из Беркли… и, следовательно, больше не может продолжать свою работу [по изучению нептуния и поискам элемента 94], я написал, что мы с большим удовольствием занялись бы дальнейшим ее развитием на правах его соавторов»[1590]. В середине декабря Макмиллан ответил согласием; к тому времени, как Сегре вернулся в Беркли, Сиборг уже выделил из подвергнутого бомбардировке материала значительные образцы разных фракций, в том числе урана, продуктов деления, очищенного нептуния и редкоземельной фракции, возможно, содержащей элемент 94.
Таким образом, следовало провести два параллельных исследования[1591]. Группа Сиборга должна была заняться обнаруженным ею источником особенно интенсивного альфа-излучения в надежде доказать, что он является изотопом элемента 94, химически отличным от всех остальных известных элементов. Одновременно с этим Сегре и Сиборг собирались получить большое количество нептуния-239, найти продукт его распада (который должен был быть 23994) и попытаться оценить его способность к делению.
9 января Сегре с Сиборгом в течение шести часов бомбардировали на полутораметровом циклотроне десять граммов твердого уранового соединения, гексагидрата азотнокислого уранила (UNH). На следующее утро они бомбардировали в течение часа еще пять граммов этого же вещества. После полудня они уже знали по результатам измерений в ионизационной камере, что бомбардировка в циклотроне позволяет получить элемент 94. По их расчетам, один килограмм UNH, должным образом облученный, должен был давать около 0,6 микрограмма[1592] (миллионной части грамма) этого элемента, получающегося из нептуния по истечении времени, необходимого для бета-распада.
20 января группа Сиборга идентифицировала испускающее альфа-частицы дочернее вещество нептуния-239. Чтобы окончательно доказать, что это именно элемент 94, требовалась химическая очистка, и эта тонкая, трудоемкая работа шла в течение всего февраля. Самый важный шаг вперед был сделан в начале одной из недель, когда все регулярно работали за полночь, пытаясь проследить до самого конца сложные процессы фракционирования. Днем в воскресенье[1593] 23 февраля Валь обнаружил, что может осадить источник альфа-излучения из кислотного раствора, используя в качестве носителя торий. Однако потом ему не удалось отделить альфа-источник от тория. Он поговорил с профессором химии, работавшим в Беркли, и тот посоветовал использовать более сильный окислитель.
Тем же вечером Сиборг и Сегре начали на полутораметровом циклотроне бомбардировку 1,2 килограмма UNH для преобразования части содержащегося в нем урана в нептуний. Они упаковали UNH в стеклянные пробирки, установили пробирки в отверстия, просверленные в 25-сантиметровом брикете парафина, и поместили парафин в деревянный ящик. Затем они установили деревянный ящик за бериллиевой мишенью большого циклотрона, который выбивал из бериллия многочисленные нейтроны мощным пучком дейтронов – самых удобных частиц для ускорения в циклотроне, ядер дейтерия, полученных из тяжелой воды, – с энергией 16 МэВ. Установив UNH в циклотрон, Сиборг поднялся на третий этаж Гилман-холла, под самую крышу, в тесную комнатку с маленьким балконом, в которой Валь занимался фракционированием. Этим вечером Валь испытывал новый окислитель; Сиборг был рядом с ним. Метод сработал; торий осадился из раствора, а альфа-источник остался в нем, причем в таком количестве, что на линейном усилителе возникало около 300 импульсов в минуту. Это, пишет Сиборг, стало «ключевым шагом к нашему открытию»[1594], но еще нужно было осадить альфа-источник, и они занимались этим всю ночь. Как вспоминает Сиборг[1595], он заметил наступление нового дня – освещенные здания Сан-Франциско к западу, за заливом, – когда вышел на балкон, чтобы очистить свои легкие от испарений. «Это окончательное отделение от Th, – подчеркивает Сиборг, – продемонстрировало, что наш источник альфа-излучения может быть отделен от всех других элементов, и, таким образом, стало ясно, что наше альфа-излучение связано с новым элементом, имеющим атомный номер 94»[1596].
Бомбардировка килограммового образца Сегре и Сиборга продолжалась неделю с периодическими перерывами на другие эксперименты, занимавшие циклотрон. Радиоактивность UNH усилилась; когда они сконцентрировали полученный 239Np, интенсивность излучения возросла до опасно высокого уровня. Они начали работать с защитными очками и свинцовыми экранами; сперва они растворили уран в двух литрах эфира, а затем пропустили раствор через последовательность тщательных осаждений.
Пятое и шестое переосаждения были закончены в четверг 6 марта. Из 1,2 килограмма UNH было выделено менее одной миллионной грамма чистого 239Np, смешанного с носителем в количестве, достаточном для получения пятна на дне миниатюрной платиновой чашки, имевшей около полутора сантиметров в поперечнике и около сантиметра с четвертью в глубину. Высушив эту крошку вещества, отвергнутого Богом в момент творения, они попросту обрезали бортики платиновой чашки, залили образец защитным слоем клея «Duco», прикрепили его к куску картона, наклеили этикетку «Образец А» и оставили до тех пор, пока нептуний полностью не распался в 23994.
В пятницу 28 марта (на той же неделе командующий Африканским корпусом фельдмаршал Эрвин Роммель начал крупномасштабное наступление в Северной Африке, норма выдачи мяса в Британии была уменьшена до 170 граммов на человека в неделю, а британские самолеты-торпедоносцы успешно атаковали итальянский флот, возвращавшийся из Эгейского моря, что очень заинтересовало японцев) Сиборг записал:
Сегодня утром мы с Кеннеди и Сегре провели первые испытания делимости 23994 на образце А…
За последние несколько недель Кеннеди собрал портативную ионизационную камеру с линейным усилителем, пригодным для регистрации импульсов деления… Образец А (содержащий, по нашим оценкам, 0,25 микрограмма 23994) был помещен около защищенного экраном окна ионизационной камеры в парафиновой оболочке вблизи бериллиевой мишени метрового циклотрона. Нейтроны, полученные в результате облучения бериллиевой мишени дейтронами с энергией 8 МэВ, дают интенсивность деления в 1 событие в минуту на микроампер. Когда ионизационную камеру окружают кадмиевым экраном, интенсивность деления падает практически до нуля…
Это убедительно свидетельствует о том, что 23994 подвержен делению медленными нейтронами[1597].
Название нового элемента, который делился как 235U, но мог быть химически отделен от урана, они официально предложили только в 1942 году. Но Сиборг уже знал, как его нужно назвать. В 1789 году Мартину Клапроту пришла мысль связать открытый им новый элемент с недавним открытием планеты Уран; Макмиллан продолжил эту традицию, использовав название Нептуна; Сиборг решил назвать элемент 94 в честь Плутона, девятой планеты Солнечной системы[1598], открытой в 1930 году и названной именем греческого бога подземного мира, бывшего одновременно богом плодородия земли и богом, владеющим душами умерших: его назвали плутонием.
Фриш и Пайерлс получили свое малое расчетное значение критической массы 235U, исходя из разумных теоретических предположений. Всю эту зиму группа Мерла Тьюва с ФЗМ продолжала совершенствовать свои измерения сечений; в марте Тьюв смог отправить в Англию измеренное значение сечения деления 235U быстрыми нейтронами, с которым британцы получили значение критической массы, несколько превышавшее оценку Фриша и Пайерлса: около восьми килограммов без отражателя, от четырех до четырех с половиной килограммов при наличии окружающего уран достаточно массивного и хорошо отражающего экрана[1599]. «Первая проверка теории, – торжествующе писал Пайерлс в этом месяце, – дала совершенно положительный результат, и нет никаких сомнений в том, что вся схема может быть реализована (если будут успешно решены технические проблемы разделения изотопов), и урановый шар критического размера может быть получен»[1600].
Чедвик также продолжал измерения сечений. Он и так был человеком трезвомыслящим; новые числа, которые он увидел, отрезвили его еще сильнее. Он описывал эту перемену в интервью, которое он дал в 1969 году:
Я до сих пор хорошо помню весну 1941 года. Тогда я осознал, что ядерная бомба не просто возможна, – а неизбежна. Рано или поздно те же идеи не могут не появиться у кого-то еще. Вскоре их будут обдумывать все, и какая-нибудь страна воплотит их в жизнь. И мне не с кем было об этом поговорить. Видите ли, главными сотрудниками лаборатории были Фриш и [польский физик-экспериментатор Йозеф] Ротблат. Как бы высоко я их ни ценил, они не были британскими гражданами, а все остальные были просто юнцами. Я провел множество бессонных ночей. Но я понимал, насколько серьезный оборот может принять дело. И мне пришлось начать принимать снотворное. Другого средства не было. С тех пор я не переставал его принимать. Прошло уже 28 лет, и мне кажется, что за эти 28 лет я не провел без снотворного ни одной ночи[1601].
12
Сообщение из Британии
Зимой 1941 года Джеймс Брайант Конант приехал в Лондон[1602], чтобы открыть там бюро связи между британским правительством и Национальным комитетом оборонных исследований. Конант был первым американским ученым, обладавшим административными полномочиями, который посетил воюющую страну после импровизированного визита делегации Тизарда, и впоследствии он считал эту поездку «самым необычным впечатлением в моей жизни». «Я видел крепких духом людей под бомбами. Я видел непоколебимое правительство, загнанное в угол. Почти ежечасно я видел или слышал что-нибудь, что наполняло меня гордостью за принадлежность к роду человеческому»[1603].
Президенту Гарварда, которому в конце марта исполнялось сорок семь лет, оказали радушный прием не только из-за его университетской должности или принадлежности к НКОИ. В течение долгих месяцев «странной войны» он энергично выступал против американского изоляционизма, и в его приезде все видели признак долгожданных перемен к лучшему – все, за исключением одного лишь премьер-министра. Черчилль не особенно радовался предстоящему обеду с президентом Гарварда. «О чем я буду с ним разговаривать?» – спрашивал он во всеуслышание. «Он думал, что вы окажетесь седобородым старцем, источающим мудрость и академическую церемонность»[1604], – сказал Конанту впоследствии помощник Черчилля Брендан Брэкен. Однако за обедом в подвальном бомбоубежище дома № 10 по Даунинг-стрит воинственно пробританские взгляды американца и его твидовый костюм в конце концов успокоили премьер-министра, и он произнес типично черчиллевский монолог, в котором повторил один из своих любимых афоризмов последнего времени: «Дайте нам инструменты, и мы завершим эту работу»[1605].
В 1920 году, когда двадцатисемилетний Конант ухаживал за своей будущей женой – она была единственным ребенком гарвардского химика и нобелевского лауреата Т. У. Ричардса, новатора в области измерения атомных масс элементов, – он поделился с нею своими мечтами о великом будущем, которые могли бы показаться абсурдными, исходи они от человека менее талантливого. «Я сказал, что хочу добиться трех вещей. Сначала я хочу стать ведущим специалистом по органической химии в Соединенных Штатах; после этого я хотел бы стать президентом Гарварда, а потом – членом правительства, возможно, министром внутренних дел»[1606]. Могло показаться, что эти цели не имеют друг с другом ничего общего, но Конанту удалось в той или иной форме поочередно добиться каждой из них. Он родился в семье, жившей в штате Массачусетс с 1623 года. Закончив Латинскую школу в Роксбери и Гарвард-колледж, он получил под руководством своего будущего тестя сразу две докторские степени, по органической и физической химии. Во время Первой мировой войны он исследовал отравляющие газы в Эджвуде и закончил войну майором. В своей биографии, написанной ближе к концу жизни, он оправдывал свое участие в этой работе следующим образом:
Я не понимал в 1917 году и по-прежнему не понимаю в 1968-м, чем фугасный снаряд, вырывающий солдату кишки, лучше, чем оружие, воздействующее на его легкие или кожу. Любая война безнравственна. Единственная логически неуязвимая точка зрения – это стопроцентный пацифизм. Как только мы отходим от этой позиции, как это бывает, когда страна вступает в войну, дальше можно осмысленно говорить только о нарушении соглашений о методах ведения войны или о последствиях применения тех или иных тактик или вооружений[1607].
Как и Вэнивар Буш, Конант был патриотом и сторонником военного применения передовых технологий.
«Конант добился международной известности как в химии природных соединений, так и в физической органической химии»[1608], – пишет гарвардский химик украинского происхождения Джордж Б. Кистяковский. Среди этих природных соединений были хлорофилл и гемоглобин, и Конант внес свой вклад в расшифровку строения обеих этих жизненно важных молекул. Его исследования также помогли обобщить концепцию кислот и оснований, которая считается теперь фундаментальной. Хотя он и не стал ведущим американским специалистом по органической химии, он вошел в число наиболее авторитетных ученых. Когда Калтех пытался переманить его, предлагая щедрое финансирование исследований, Гарвард перебил это предложение и отказался с ним расстаться.
Второй пункт этого юношеского списка, получение должности президента своей альма-матер, Конант выполнил в 1933 году. Обратившимся к нему представителям Гарвардской корпорации он сказал, что не стремится к этой должности, что, по-видимому, было необходимым условием ее получения, но готов занять ее, если будет избран. На момент избрания ему было сорок лет. Именно он создал современный Гарвард с его выдающимися научными достижениями и принципами – «публикуй или умри», «вперед или вон».
Третья мечта Конанта осуществилась после войны, хотя и не буквально: он получил высокое назначение[1609], но министром так и не стал. Его многолетняя добровольная служба государству началась с НКОИ.
В конце зимы 1941 года он встречался в Англии с руководителями британского правительства, получил аудиенцию у короля, принял почетную степень Кембриджского университета и гулял потом по живописным задворкам колледжей, отвоевал для представительства НКОИ место среди враждебно настроенных американских военных и военно-морских атташе, еще раз обедал с Черчиллем. Его миссия в Британии была скорее дипломатической, нежели технической. Он обсуждал химическое оружие и производство взрывчатых веществ, но не мог принять участие в интенсивном обмене информацией о радарах, потому что очень мало что понимал в электронике. Хотя он знал о работах по урану, и эта тема входила в круг его официальных обязанностей в НКОИ, режим секретности и его «прочная вера в принцип “ограничения информации необходимым минимумом”» не позволили Конанту выяснить, что узнали о возможности создания бомбы британцы.
В Оксфорде он встретился с «французским ученым» – вероятно, Хансом фон Хальбаном, – который жаловался на бездействие в области исследований урана и тяжелой воды. «Поскольку его жалобы явно “выходили за рамки официальных каналов”, я быстро закончил разговор и забыл об этом случае». Такую реакцию можно было понять: Конант не мог знать, какой режим безопасности распространяется в Британии на представителей «Свободной Франции». Но не был он откровенен и с Линдеманом. Они обедали вдвоем в лондонском клубе. «Он заговорил об исследованиях деления атомов урана. В ответ я повторил те сомнения, которые выражал я сам, и выражали при мне другие, на заседаниях НКОИ». Линдеман отмел их и пошел в наступление.
«Вы не учитываете, – сказал [Линдеман], – возможности создания бомбы огромной мощности». – «Как такое возможно?» – спросил я. «Путем выделения урана-235, – сказал он, – и создания механизма, который будет резко соединять две части этого материала, в результате чего в получившейся массе спонтанно возникнет самоподдерживающаяся реакция».
Как это ни поразительно, глава отдела химии и взрывчатых веществ НКОИ добавляет при этом, что – хотя дело было уже в марте 1941 года, – «именно тогда я впервые услышал даже о теоретической возможности создания бомбы». При этом он даже не стал интересоваться подробностями. «Я предположил, и вполне справедливо, что, когда и если Буш захочет узнать о работах, ведущихся в Англии в области атомной энергии, он сделает это через Бриггса»[1610]. Неудивительно, что венгерские заговорщики продолжали рвать на себе волосы.
Затем в дискуссию впервые вступил заслуженный американский физик, на мнение которого нельзя было не обратить внимания. Еще до того, как Сиборг и Сегре подтвердили делимость плутония, Эрнест Лоуренс сравнил господствовавшие в Америке скептицизм и консерватизм со все возрастающим энтузиазмом своих британских друзей и принялся действовать с характерным для себя рвением. В 1930-х годах Ральф Г. Фаулер, овдовевший зять Эрнеста Резерфорда, приезжал в Беркли и встречался с изобретателем циклотрона на пикниках и вечеринках по выходным. Теперь Фаулер был британским координатором научных связей в Вашингтоне и, пользуясь такой близкой позицией, убеждал Лоуренса вмешаться в это дело. К этому же призывал его и Марк Олифант, с которым Лоуренс встретился и подружился в Кавендишской лаборатории, куда он заезжал после Сольвеевского конгресса 1933 года.
Лоуренс поддерживал поиски плутония отчасти потому, что не питал больших надежд на разделение изотопов какими-либо из обсуждавшихся ранее методов – при помощи центрифуги, термодиффузии или барьерной диффузии. Однако где-то в начале этого года он задумался об электромагнитном разделении изотопов, тем же методом, который уже удалось применить в микроскопических масштабах Альфреду Ниру. Лоуренсу пришло в голову, что его уже устаревший метровый циклотрон можно превратить в большой масс-спектрометр. То, что Нир считал электромагнитное разделение в промышленных масштабах невозможным, только подстегнуло нобелевского лауреата из Беркли. Лоуренс жил, так сказать, от установки к установке; разработка установки, которая смогла бы освободить 235U из заключения в массе 238U (пока уран-графитовый реактор Ферми производил рожденный в Беркли плутоний)[1611], была для него достойной целью, реальным объектом приложения сил.
К этому состоянию он приближался постепенно. Эмоционально он был еще не готов отложить в сторону свои планы мирного времени. В феврале Беркли посетил Уоррен Уивер, директор отделения естественных наук Фонда Рокфеллера, желавший проверить, как идет строительство 4900-тонного, 4,7-метрового циклотрона, на которое менее чем за год до этого фонд выделил 1 150 000 долларов. Лоуренс не преминул пожаловаться на медлительность Уранового комитета – Уивер сотрудничал с другим отделом НКОИ, – но затем отвез его за территорию университета, на площадку для циклотрона на склоне холма, и рассказал администратору Фонда Рокфеллера, сперва раздраженному, а затем очарованному, о своих планах сооружения более совершенной и гораздо более крупной установки.
В марте, когда вернувшийся из Лондона Конант приехал в Беркли с выступлением, Лоуренс повторил ему свои жалобы. «Надавите наконец на комитет Бриггса, – внушал энергичный калифорниец президенту Гарварда. – Что, если германские ученые сумеют сделать атомную бомбу раньше, чем мы хотя бы исследуем существующие возможности?»[1612] Это подготовило Лоуренса к полномасштабному наступлению. Он начал его 17 марта, когда встретился в МТИ с Карлом Комптоном и Альфредом Лумисом.
Лумис обратился к физике после прибыльной карьеры в юриспруденции и области банковских инвестиций. Комптон был заслуженным физиком и стал президентом МТИ в 1930 году, после пятнадцати лет преподавания в Принстоне, где он в свое время защитил диссертацию. Оба они хорошо разбирались в политике организаций. Тем не менее пыл Лоуренса произвел на них такое впечатление, что почти сразу после того, как Лоуренс вышел из комнаты, Комптон позвонил Вэнивару Бушу, а тем же вечером продиктовал продолжившее этот разговор письмо к нему[1613]. Бриггс был «по природе своей человеком неспешным, консервативным и методическим и привык действовать в ритме государственных организаций мирного времени», – писал Комптон, пересказывая прямолинейные жалобы Лоуренса; он «проводит политику, соответствующую этим качествам и еще более ограниченную требованиями секретности». Британцы вышли вперед, хотя в Америке собралось «самое большое число самых лучших физиков мира». Немцы работают «очень активно». Бриггс привлек к работе лишь очень немногих физиков-ядерщиков Соединенных Штатов. Исследования деления открывают и другие возможности помимо разработки получения энергии из цепной реакции на медленных нейтронах, и эти возможности, «если они будут успешно реализованы, могут быть использованы в гораздо более важных военных приложениях».
Хотя Лумис и Комптон могли себе позволить читать Бушу такие нотации, оба они благоговели перед Лоуренсом – незадолго до этого Лумис пожертвовал одному частному фонду 30 000 долларов, только чтобы дать Лоуренсу возможность ездить по стране, – и считали, что Бушу лучше всего предоставить ему полную свободу действий: «Спешу добавить, что сам Эрнест никоим образом не предлагал принять участие в какой-либо реорганизации и даже не думал о такой возможности, но мне кажется, что это решение было бы идеальным»[1614].
Самолюбие Буша не уступало размерами его обязанностям, и Лумис с Комптоном должны были об этом знать. Возможно, кампанию Лоуренса было бы благоразумнее поддержать, тем более что Лумис был двоюродным братом и близким другом Генри Л. Стимсона, уважаемого и влиятельного военного министра; но вместо этого Буш увидел в ней попытку подрыва своей власти, первую, возникшую в физическом сообществе с тех пор, как он придумал НКОИ, и с готовностью ринулся в бой, в победоносном исходе которого он не сомневался. Через два дя после совещания в МТИ он встретился с Лоуренсом в Нью-Йорке и дал себе волю:
Я прямо сказал ему, что главный тут я, что мы установили процедуру управления и что он может либо подчиниться ей как член НКОИ и вносить свои озарения через внутренние механизмы системы, либо полностью отделиться и делать все, что ему заблагорассудится, как частное лицо. Он согласился подчиниться дисциплине, и я организовал ему несколько превосходных встреч с Бриггсом. Однако я очень ясно дал Лоуренсу понять, что рассчитываю, что Бриггс будет получать наилучшие из возможных советы и консультации, но в конечном счете я буду поддерживать решения Бриггса и его комитета, если только не возникнет каких-либо несомненных причин, требующих моего личного вмешательства. Мне кажется, что таким образом этот вопрос был окончательно решен, но некоторый осадок остался[1615].
Пригрозив Эрнесту Лоуренсу изгнанием, в котором он оказался бы на том же положении, что и иммигранты, Буш сумел на некоторое время приостановить разрастание урановой проблемы. Но эта пауза не продлилась и месяца.
В 1940 году Лоуренс привлек к работе над радарами в МТИ гарвардского экспериментатора Кеннета Бейнбриджа, физика-ядерщика по профессии – Бейнбридж строил гарвардский циклотрон. Когда Конант поехал в Лондон открывать там новое представительство НКОИ, за ним поехали Бейнбридж и другие, чтобы сотрудничать с британцами каждый в своей профессиональной области. Поскольку Бейнбридж знал не только радары, но и ядерную физику, и даже исследовал разделение изотопов, британцы допустили его на официальное заседание комитета MAUD. К удивлению Бейнбриджа, комитет имел «очень ясное представление о критической массе и механизме [создания бомбы] и призывал срочно начать обмен сотрудниками… По их оценке, для устранения всех трудностей производства атомного оружия потребуется не менее трех лет»[1616]. Бейнбридж немедленно связался с Бриггсом[1617] и предложил ему прислать кого-нибудь в качестве представителя США по вопросам, связанным с ураном.
За административным напором Буша скрывалась искренняя растерянность. «Я не ученый-атомщик, – откровенно пишет он, – и многое из этого было мне не по зубам»[1618]. В том апреле он понимал ситуацию так, что «мы можем потратить действительно огромные деньги, но в настоящее время мы не знаем верного пути к военным результатам большой важности»[1619]. Однако он ощущал нарастающее давление – понукания Лоуренса, сведения Бейнбриджа, подтверждающие достижения британцев, – и обратился за сторонней помощью.
«Стратегия Буша на посту координатора исследований для военных целей по всей стране, – пишет американский физик-экспериментатор Артур Комптон, младший брат Карла, – предполагала использование Национальной академии [наук] в качестве последней инстанции для разрешения важных научных споров»[1620]. После встречи с Бриггсом в один из вторников в середине апреля Буш написал Фрэнку Т. Джуэтту, высокопоставленному инженеру компании Bell Telephone, который был тогда президентом Национальной академии. Бриггс получил сообщение Бейнбриджа и известил о нем Буша; Буш и Бриггс «встревожились» и стали совещаться. «По-видимому, британцы делают столько же, сколько мы, если не больше; однако кажется, что, если эта проблема действительно важна, основное бремя должна нести наша страна». Буш хотел «энергичного, но беспристрастного рассмотрения всей этой ситуации высококомпетентной группой физиков». Членами этой группы следовало выбрать людей, обладающих «достаточными знаниями для понимания вопроса и достаточной непредубежденностью для хладнокровной оценки»[1621].
Джуэтт, Буш и Бриггс набрали свою экспертную группу на состоявшемся в следующую пятницу очередном собрании Национальной академии. Они включили в состав этой комиссии Лоуренса и только что вышедшего в отставку директора исследовательской лаборатории компании General Electric, физикохимика Уильяма Д. Кулиджа. Они разыскали нобелевского лауреата Артура Комптона, преподававшего физику в Чикагском университете, и предложили ему возглавить проверку. Комптон скромно усомнился в своем «соответствии такой задаче»[1622], но охотно принял это предложение.
Артур Холли Комптон был сыном пресвитерианского священника и профессора философии в колледже Вустера, Огайо. Мать Комптона исповедовала меннонитскую веру, поддерживала миссионерство и получила в 1939 году титул «Американской матери года». Артур пошел в науку вслед за своим старшим братом Карлом и превзошел его достижения, но сохранил при этом и семейное благочестие. «Артур Комптон ежедневно общался с Богом», – отмечает Леона Вудс, молодая ученица Энрико Ферми из Чикагского университета. Тем не менее она считала Комптона «отличным ученым и отличным человеком… Всю свою жизнь он был замечательно красив, атлетически подтянут и силен»[1623]. Ферми когда-то пришел к выводу, пишет Вудс, что «рост и красота обычно бывают обратно пропорциональны уму», но «делал исключение для Артура Комптона… ум которого он ценил чрезвычайно высоко»[1624].
Как можно понять по уважительному отношению Ферми, Комптон был первоклассным физиком. Он закончил Вустерский колледж и защитил диссертацию в Принстоне. В 1919 году, в первый же год существования стипендий Национального исследовательского совета, он получил такую стипендию и использовал ее для работы в Кавендишской лаборатории под руководством Резерфорда. Та трудная работа, которую он начал там, – изучение рассеяния и поглощения гамма-лучей – непосредственно привела к открытию эффекта, названного его именем, за которое он получил Нобелевскую премию.
В 1920 году, пишет Комптон, он принял профессорскую должность в «довольно мелком»[1625] Университете имени Вашингтона в Сент-Луисе, чтобы отойти от основного направления физики и сосредоточиться на своих исследованиях рассеяния, которые он тогда распространял с гамма-излучения на рентгеновские лучи. Он рассеивал рентгеновское излучение на блоке графита, после чего улавливал их и измерял длины их волн методом Мозли, при помощи рентгеновского спектрометра на кристалле кальцита. Он обнаружил, что рентгеновское излучение, рассеянное на графите, имеет большие длины волн, чем до рассеяния: как если бы звук, отраженный от далекой стены, странным образом возвращался с более низким тоном. Но если рентгеновское излучение – то есть свет – представляет собой всего лишь движение волн, их длины не должны изменяться. Собственно говоря, в 1923 году Комптон продемонстрировал то, что Эйнштейн постулировал в 1905-м в своей теории фотоэлектрического эффекта: что свет есть волна и в то же время частица, фотон. Фотоны рентгеновского излучения упруго соударялись с электронами, как сталкиваются бильярдные шары, отражались от них и отдавали при этом часть своей энергии. Кристалл кальцита позволял обнаружить увеличение длин рентгеновского излучения. Арнольд Зоммерфельд назвал эффект Комптона – упругое рассеяние фотонов на электронах – «вероятно, самым важным открытием, какое только можно было сделать при современном состоянии физики»[1626], потому что он доказывал существование фотонов, в которое в 1923-м многие все еще не верили, и наглядно демонстрировал двойственную природу света – одновременно частицы и волны.
Этот хитроумный экспериментатор терял все свое хитроумие, как только переходил от науки к проповеди Божественного слова. Его твердая логика превращалась в рассуждения в духе Шатокуа[1627], и он мог делать совершенно несуразные заявления – например утверждать, что принцип неопределенности Гейзенберга каким-то образом выходит за пределы атома и действует в мире людей, подтверждая наличие свободы воли. Бор слышал лекцию Комптона о свободе воли, когда был в Соединенных Штатах в начале 1930-х годов, и отзывался о ней презрительно. «Бор очень хорошо отзывался о Комптоне как ученом и человеке, – вспоминает один из друзей датского лауреата, – но считал его философию слишком примитивной: “Комптон хочет сказать, что для Бога принципа неопределенности не существует. Это бессмыслица. В физике мы говорим не о Боге, а о том, что мы можем познать. Если уж нам и придется говорить о Боге, говорить о нем нужно будет совершенно иначе”»[1628].
В 1941 году война уже принесла брату Артура Комптона немало благ: Карл стал видной фигурой научного сообщества национального уровня и добился создания в МТИ важной научной лаборатории. Артур хотел по крайней мере не меньшего. Дело затруднял пацифизм, к которому его склоняли меннонитская вера его матери и идеи, широко обсуждавшиеся в то время в американских молитвенных собраниях, своего рода церковный эквивалент изоляционизма:
В 1940 году, на сорок восьмом году жизни, я начал остро ощущать свою гражданскую обязанность внести свой вклад в войну, которая угрожала в то время охватить мою страну и уже охватила такую большую часть мира. В частности, я поговорил об этом со своим чикагским пастором. Он поинтересовался, почему я не поддерживаю его призыв к молодым прихожанам объявлять себя пацифистами. Я ответил так: «До тех пор, пока я убежден, что существуют ценности, более важные для меня, чем моя жизнь, – а я в этом убежден, – я не могу искренне утверждать, что этически неправильно рисковать своей жизнью или, если это необходимо, лишать жизни других ради защиты этих ценностей.
Таким образом, «вскоре после этого»[1629], когда Буш и Национальная академия призвали Артура Комптона на службу, он был к этому готов.
Экспертный комитет немедленно встретился в Вашингтоне с некоторыми из сотрудников Бриггса. Неделю спустя, 5 мая 1941 года, он снова собрался в Кембридже, чтобы заслушать других членов Уранового комитета и Бейнбриджа. «За этим, – пишет Комптон, – последовали две недели, проведенные за обсуждением возможности военного применения урана с другими живо заинтересованными в этом вопросе людьми»[1630]. Комптон быстро составил семистраничный доклад и 17 мая передал его Джуэтту.
Доклад[1631] начинался с заявления о том, что комитет рассмотрел «вопросы возможных военных аспектов атомного деления» и перечисления трех таких возможностей: «производство высокорадиоактивных материалов… для транспортировки самолетами и распространения по вражеской территории при помощи бомб», «источник энергии для подводных лодок и других судов» и «бомбы большой взрывчатой силы». Получение радиоактивной пыли должно было потребовать года подготовки, начиная с момента «первого успешного получения цепной реакции», то есть ожидалось «не ранее 1943 года». Для источника энергии требовалось по меньшей мере три года после получения цепной реакции. Бомбы требовали концентрации 235U или, возможно, производства плутония в цепной реакции, и, следовательно, вряд ли можно было «ожидать появления атомных бомб раньше 1945 года».
Больше там не было ничего: никакого упоминания ни о делении быстрыми нейтронами, ни о критической массе, ни о механизмах сборки бомб. Основная часть доклада была посвящена описанию «продвижения к получению цепной реакции» и рассматривала системы из урана и графита, урана и бериллия и урана и тяжелой воды. Комитет предлагал выделить Ферми все средства, необходимые ему для промежуточных экспериментов и дальнейшей работы. Кроме того, в более оригинальном ключе, он подчеркнул обнаруженную в этой новой области долговременную задачу решающего значения:
Нам представляется маловероятным, чтобы использование ядерного деления приобрело военное значение менее чем за два года… Однако, если получение цепной реакции и управление ею возможны, это может быстро стать решающим фактором военных действий. Поэтому, учитывая перспективу конфликта, который может продолжаться в течение десятилетия или более, важно занять лидирующее положение в развитии этих нововведений. Страна, которой удастся первой создать и подчинить себе этот процесс, получит преимущество, которое будет возрастать по мере увеличения числа его применений[1632].
Когда Буш получил доклад НАН, он был занят реорганизацией государственной науки. НКОИ, использовавший в равной степени возможности военных лабораторий и Национального экспертного совета по аэронавтике, был удобен для исследовательской работы, но не имел полномочий для дальнейшей конструкторской деятельности. Буш предложил создать новое управляющее агентство с широкими полномочиями во всей государственной научной деятельности военного назначения, Управление научных исследований и разработок (Office of Scientific Research and Development). Его директор – сам Буш – должен был подчиняться лично Рузвельту. Буш подготовил свой переход в УНИР, предложив Конанту возглавить НКОИ. «И только когда стало ясно, что я скоро получу новое назначение, – пишет Конант, – Буш, обдумывавший, что ему делать с комитетом Бриггса, начал мне доверять». По сравнению с тем, что он видел в Британии, сказал Конант Бушу, его реакция на доклад Комптона была «почти полностью негативной»[1633].
Джуэтт доставил Бушу доклад с сопроводительным письмом, в котором называл его «авторитетным и впечатляющим»[1634], но в частном порядке предупредил Буша, что «втайне опасается», что этот доклад «может быть местами чересчур оптимистичным и не вполне уравновешенным»[1635]. Джуэтт также попросил нескольких старших коллег, в том числе лауреата Нобелевской премии по физике 1923 года Роберта Э. Милликена из Калтеха, оценить доклад и в начале июня переслал их отзывы Бушу. Ответ Буша отражал его раздражение вкупе с поразительным непониманием того, что происходило в Британии:
Вся эта урановая история – сплошное мучение! Я просмотрел замечания Милликена, и из них совершенно ясно, что он писал их, не понимая нынешнего положения дел. По-видимому, британцы получили безусловное подтверждение возможности цепной реакции с использованием 238 [sic], что радикально меняет характер дела. Милликен исходит в своих замечаниях из убеждения, что перспективы существуют только у 235. Это и естественно, поскольку он не получил информации о последних достижениях, о которых британцы сообщили нам по большому секрету.
Он был согласен, что работу «следует вести в несколько более энергичной форме», но по-прежнему рассматривал ее перспективы глубоко скептически:
Даже если физики получат все, на что рассчитывают, я полагаю, что до появления каких-либо практических результатов нам предстоит еще долгий период инженерной работы высочайшей сложности, если только речь не будет идти о взрывчатке, в чем я очень сомневаюсь[1636].
Скептицизм директора УНИР сохранялся, несмотря на новости о замечательной делимости плутония. В течение всей весны 1941 года Сегре и Сиборг продолжали работать над определением различных сечений рукотворного элемента. В воскресенье 18 мая, изготовив наконец образец, достаточно тонкий для точных измерений, они рассчитали сечение деления плутония медленными нейтронами, и оно оказалось в 1,7 раза выше, чем у 235U. В понедельник, когда Лоуренс узнал об этой новости, он немедленно начал действовать:
Мы рассказали Лоуренсу о полученном вчера неоспоримом доказательстве деления 23994 медлеными нейтронами, и он пришел в сильное возбуждение. Он тут же позвонил в Чикагский университет и рассказал об этом Артуру Х. Комптону… Комптон немедленно попытался позвонить Вэнивару Бушу (безуспешно), а затем послал ему телеграмму… В своей телеграмме Комптон указывал, что этот опыт… значительно увеличивает значение проблемы деления, так как количество имеющегося материала [т. е. 238U, преобразованного в плутоний] возросло теперь более чем в 100 раз… Он сказал, что Альфред Лумис и Эрнест Лоуренс просили его еще раз подчеркнуть важность ускоренного проведения работы [по урану и графиту] в Колумбийском университете[1637].
Каждый раз, когда американская программа увязала в бюрократической нерешительности, ее «выручал» Гитлер со своей военной машиной. Главным обострением этого лета была начавшаяся утром в воскресенье 22 июня операция под кодовым названием «План “Барбаросса”» – открытие Восточного фронта, наступление на восток силами 164 дивизий, в том числе финских и румынских сил, с целью молниеносного вторжения в СССР. Грандиозной целью фюрера, которую он особо выделял в секретной директиве, выпущенной шестью месяцами раньше, было «разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии»[1638][1639]. Гитлер рассчитывал еще до наступления зимы дойти до Урала и захватить промышленную и сельскохозяйственную базу Советского Союза; к июлю немецкие танки уже переправились через Днепр и угрожали Киеву.
Впечатление, которое произвело на Конанта то, что он увидел в Лондоне, и расширение масштабов войны – все это парадоксальным образом усугубило его скептическое отношение к программе, управление которой он только что взял на себя:
Я сказал Бушу, что в первом докладе Комптона меня особенно беспокоило предположение, что получение цепной реакции достаточно важно, чтобы оправдать огромные расходы денежных и человеческих ресурсов. На мой взгляд, защита свободного мира находилась в столь опасном состоянии, что серьезного рассмотрения заслуживали только те действия, которые с большой вероятностью могли дать результат в течение нескольких месяцев, максимум года или двух. Летом 1941 года, когда я еще живо помнил то, что видел и слышал в Англии, меня раздражали доводы некоторых физиков, работавших с Урановым комитетом, с которыми я время от времени встречался. Они возбужденно говорили об открытии нового мира, о революции, которую энергия, получаемая из уранового реактора, должна произвести в нашем индустриализованном обществе. Эти фантазии оставляли меня безучастным. Я утверждал, что, пока нацистская Германия не будет повержена, вся наша энергия должна быть направлена на достижение одной насущной цели.
Конант, испытавший на себе лондонский блиц, чувствовал себя как в осажденной крепости; Бушу же, как отмечает Конант, «предстояло принять важнейшее решение относительно приоритетов работы»[1640]. Оба они хотели получить четкую, прагматичную оценку ситуации. Они решили, что докладу Комптона необходимо вливание здравого смысла, которое даст инженерная экспертиза. Комптон без лишнего шума отошел от дел; его место временно занял У. Д. Кулидж, ученый из компании General Electric. Конант привлек к работе еще одного инженера из Bell Laboratories и другого из компании Westinghouse, и в начале июня расширенный таким образом комитет заново рассмотрел исходный доклад.
Бриггс выступал убедительно. К этому моменту он уже получил протокол заседания технического подкомитета MAUD от 9 апреля, на котором Пайерлс сообщил, что результаты измерения сечений подтверждают возможность создания бомбы на быстрых нейтронах. Кроме того, Бриггс только что узнал от Лоуренса[1641], что сечение деления плутония быстрыми нейтронами приблизительно в десять раз выше, чем у 238U. Лоуренс даже представил отдельный отчет по элементу 94, в котором – впервые в официальных американских документах – подчеркивалась важность деления быстрыми нейтронами по сравнению с медленными. Но Бриггса по-прежнему больше интересовала цепная реакция на медленных нейтронах для производства энергии, и эта же точка зрения была отражена во втором докладе НАН. «Летом 1941 года, – вспоминает сотрудник Джона Даннинга Юджин Бут, – Бриггс зашел к нам в подвал Пьюпин-холла в Колумбийском университете посмотреть на наш эксперимент по выделению 235U методом [газовой] диффузии гексафторида урана. Он проявил интерес к нашей работе, выразил свое одобрение, но денег не дал»[1642].
Комптон считал, что этим летом американская программа была на грани смерти: «Ответственные представители правительства… были почти готовы исключить исследования деления из военной программы»[1643]. Он полагал, что программу спасло предложение Лоуренса использовать для бомбы плутоний. Возможно, делимость элемента 94 убедила самого Комптона. Для ответственных представителей правительства она не была решающим аргументом. Они были люди твердые, и им нужны были твердо установленные факты. Такие факты начинали появляться. «Более важную роль, чем доводы Комптона и Лоуренса, – пишет Конант, – сыграли известия о выводах группы английских физиков, которые заключили, что создание бомбы из урана-235 – дело абсолютно осуществимое»[1644].
Британцы пытались сообщить об этом в течение всей зимы и весны. В июле они предприняли очередную попытку. Дж. П. Томсон закончил проект заключительного отчета комитета MAUD 23 июня, на следующий день после того, как начал осуществляться план «Барбаросса». Во время появления проекта отчета MAUD в Лондон приехал на совещание с британцами Чарльз К. Лауритсен, уважаемый опытный физик из Калтеха, начинавший работать на НКОИ в области ракетостроения. Комитет пригласил его на заседание, проходившее 2 июля в Берлингтон-хаусе. Лауритсен внимательно слушал и записывал, а потом лично поговорил с восемью из двадцати четырех физиков, занимавшихся теперь этой работой[1645]. На следующей неделе, вернувшись в Соединенные Штаты, он немедленно сообщил Бушу о выводах MAUD. «По сути дела, – говорит Конант, – он кратко изложил содержание “проекта отчета”»[1646]. Физики, с которыми говорил Лауритсен, ратовали за создание в США газодиффузионной установки промышленной мощности.
Британское правительство передало окончательный вариант отчета MAUD[1647] правительству Соединенных Штатов только в начале октября, но комитет утвердил его еще 15 июля (после чего немедленно прекратил свою работу), и к тому времени Бушу уже передали экземпляр проекта Томсона, в котором содержались все основные выводы. Отчет MAUD отличался от доклада Национальной академии так же, как подробный чертеж здания отличается от наброска архитектора. В самом его начале говорилось:
Сейчас мы пришли к выводу о существовании возможности создания действующей урановой бомбы, содержащей около 10 кг активного материала, которая была бы эквивалентна по своей разрушительной силе 1800 тоннам ТНТ, а также выпускала бы большое количество радиоактивных веществ… Предполагаемая стоимость завода, производящего 1 кг [235U] в сутки (или 3 бомбы в месяц), может составить около 5 000 000 фунтов… Несмотря на такие, весьма большие, расходы, мы считаем, что разрушительный эффект, как материальный, так и психологический, столь велик, что к производству бомб такого рода следует приложить максимальные усилия… Материал для производства первой бомбы может быть готов к концу 1943 года… Даже если война закончится до того, как бомбы будут готовы, эти усилия не будут потрачены впустую, кроме как в маловероятном случае полного разоружения, так как ни одна из стран не рискнет оказаться без оружия такой разрушительной силы.
Выводы и рекомендации отчета уместились всего в три четких пункта:
1) Комитет полагает, что схема создания урановой бомбы реализуема и, вероятно, приведет к получению решающих результатов в ведении войны.
2) Комитет рекомендует продолжать эти работы в самом приоритетном режиме и наращивать их масштабы, насколько это необходимо для получения такого оружия в максимально короткое время.
3) Существующее сотрудничество с Америкой следует продолжать и расширять, особенно в области экспериментальных работ.
«После получения неофициальных новостей из Великобритании, – пишет Комптон в заключение своего описания тайной истории проекта, которую он вчерне написал в 1943 году, – директору УНИР и председателю НКОИ стало ясно, что требуется приложить большие усилия к развитию в обозначенных в отчете направлениях»[1648].
Однако организацией этих усилий они занялись не сразу. Конант, как он вспоминал после войны, тоже еще не был убежден в том, что урановая бомба будет работать так, как это было описано в отчете. Однако британские исследования и взвешенные суждения по меньшей мере давали ясную программу военного развития. На пробу Буш показал эту программу вице-президенту США Генри Уоллесу, единственному ученому в правительстве – он занимался генетикой растений и вывел несколько сортов кукурузы. «В течение июля, – пишет Конант, – Буш имел с вице-президентом Уоллесом беседу о выделении больших государственных средств на урановую программу»[1649]. После этой беседы Буш, видимо, решил подождать официальной передачи заключительного отчета MAUD.
«Если каждый необходимый шаг будет требовать десяти месяцев рассуждений, – жаловался Лео Сцилард Александру Саксу в 1940 году, – то эффективное развитие в этой области, очевидно, будет невозможным»[1650]. Американская программа развивалась быстрее, но не намного.
Этим летом, пока Лоуренс с Комптоном пропагандировали плутоний, один высокий, костлявый, потрепанный войной австриец, прятавшийся в глубине германских научных учреждений, пытался сделать так, чтобы этот новый элемент никто не заметил. Он был старым другом Отто Фриша:
Мы с Фрицем Хоутермансом познакомились в Берлине, но в Лондоне [перед войной] я гораздо чаще встречался с этим впечатляющим, похожим на орла человеком, наполовину евреем – и к тому же коммунистом, – чудом спасшимся от гестапо. Его отец был голландец, но он очень гордился еврейскими корнями своей матери и часто замечал в ответ на антисемитские высказывания: «Когда ваши предки еще жили на дереве, мои уже подделывали банковские чеки!» У него было множество блестящих идей[1651].
Хоутерманс получил в Гёттингене докторскую степень по экспериментальной физике, но был силен и в теории. Одна из его блестящих идей, разработанная в конце 1920-х годов в Берлинском университете совместно с приезжавшим туда британским астрономом Робертом Аткинсоном, касалась производства энергии в звездах. Аткинсон был знаком с недавними оценками своего старшего коллеги Артура Эддингтона, по которым температура горения Солнца и других звезд составляет 10 миллионов градусов и более, а продолжительность их существования – миллиарды лет; никакого объяснения такого умопомрачительного расхода энергии не существовало. Летом 1927 года, гуляя по окрестностям Гёттингена, эти двое задумались, не может ли столь устойчивое горение звезд быть объяснено ядерными преобразованиями, подобными тем, что производил в Кавендишской лаборатории Резерфорд. Они быстро разработали базовую теорию, предполагавшую, как объяснял впоследствии Ханс Бете, «что при высоких температурах, существующих внутри звезды, одни ядра могут проникать внутрь других и вызывать ядерные реакции, протекающие с высвобождением энергии»[1652]. Энергия может высвобождаться, когда горячие (и, следовательно, быстро движущиеся) ядра водорода сталкиваются с такой силой, что преодолевают электрические барьеры друг друга и сливаются вместе, образуя ядра гелия и выделяя при этом энергию связи. Впоследствии Хоутерманс и Аткинсон вместе с Джорджем Гамовым назвали такой процесс термоядерной реакцией, потому что он происходит при столь высоких температурах.
В 1933 году Хоутерманс эмигрировал в Советский Союз, «но пал жертвой, – пишет Фриш, – одной из сталинских чисток и провел пару лет в тюрьме. Его жене с двумя маленькими детьми удалось бежать и уехать в США. Когда Гитлер в 1939 году заключил временный пакт со Сталиным, один из его пунктов предусматривал обмен заключенными, и Хоутерманса выдали гестапо». Макс фон Лауэ, которого Фриш превозносил как «одного из немногих германских ученых, имевших достаточно авторитета и смелости, чтобы противостоять нацистам»[1653], сумел добиться освобождения Хоутерманса и устроил его на работу к состоятельному немецкому инвестору барону Манфреду фон Арденне, который изучал физику и содержал частную лабораторию в берлинском пригороде Лихтерфельде. Фон Арденне проводил исследования урана независимо от Гейзенберга и Военного министерства; за финансированием этой работы он обратился в германское почтовое управление, которое распоряжалось большим и по большей части не использовавшимся бюджетом на исследовательские работы. Министр почт, воображая, как он преподнесет Гитлеру секретное оружие, которое решит исход войны, выделил средства на сооружение генератора Ван де Граафа на миллион вольт и двух циклотронов. В 1941 году все эти установки еще строились. Пока они не вступили в строй, Хоутерманс занялся теорией.
К августу он самостоятельно разработал все идеи, необходимые для создания бомбы. Он описал их в отчете на тридцать девять страниц под названием «К вопросу об инициировании цепной реакции»[1654]: в нем рассматривались цепные реакции на быстрых нейтронах, критическая масса, 235U, разделение изотопов и элемент 94. Хоутерманс обращал особое внимание на производство элемента 94. «Каждый нейтрон, который вместо деления ядра урана-235 оказывается захвачен ураном-238, – писал он, – создает новое ядро, подверженное делению тепловыми нейтронами»[1655]. Он по секрету обсуждал свои идеи с Вайцзеккером и Гейзенбергом, но позаботился о том, чтобы почтовое ведомство хранило его отчет в сейфе, где он не мог попасть на глаза Военному министерству. Сотрудничеству ради выживания он научился еще в Советском Союзе: там, в НКВД – КГБ того времени, – ему выбили все зубы и месяцами держали в одиночном заключении. Но и в СССР, и в Германии он скрывал столько информации, сколько осмеливался. Его агитация за элемент 94 и его получение из цепной реакции в природном уране, вероятно, способствовала тому пренебрежению, с которым в Германии относились к разделению изотопов. Начиная с лета 1941 года германская программа разработки атомной бомбы опиралась исключительно на уран и тяжелую воду из Веморка.
Британцы, по крайней мере, знали, в каком направлении работать. Тизард относился к отчету MAUD скептически и сомневался, что бомба может быть создана до конца войны. У Линдемана – ставшего теперь благодаря своей дружбе с премьер-министром лордом Черуэллом – таких сомнений не было. Черуэлл внимательно следил за работой MAUD. Он уважал Томсона; Симон был его старым другом; Пайерлс все-таки истолковал его хмыканье правильно. Он доверял их мнению и взялся сократить пространный отчет до памятной записки, которую можно было бы представить Черчиллю. Черчилль предпочитал читать документы не длиннее половины страницы. Этот документ был так важен, что Черуэлл позволил ему вырасти до двух с половиной страниц. Он считал, что исследования нужно продолжать в течение еще шести месяцев, а затем выдать еще один отчет. Он считал, что установка по разделению изотопов должна быть сооружена не в Соединенных Штатах, а в Англии – несмотря на недостаток рабочей силы и опасность бомбежек – или «в крайнем случае» в Канаде. В этом он был не согласен с выводами комитета MAUD. «В пользу [размещения установки в Англии], – писал он, – говорит большее удобство с точки зрения сохранения секретности… но прежде всего то обстоятельство, что тот, кто будет обладать такой установкой, сможет диктовать свои условия всему миру. Как бы я ни доверял своему соседу и ни полагался на него, мне совершенно не хотелось бы целиком отдавать себя в его руки. Поэтому я не настаивал бы, чтобы эту работу взяли на себя американцы». В его изложении шансы на успех были выше, но значительно выше были и ставки:
По оценкам людей, работающих над этими задачами, вероятность достижения успеха в течение ближайших двух лет составляет десять к одному. Я бы не стал ставить при шансах худших чем два к одному или даже равных. Но мне совершенно ясно, что мы должны идти вперед. Было бы непростительно позволить немцам одержать победу или обратить исход войны после их поражения[1656].
Черчилль получил рекомендации Черуэлла 27 августа. Через три дня он проинструктировал своих военных советников, иронически ссылаясь на воздействие блица: «Хотя лично меня вполне устраивают и существующие виды взрывчатки, мне кажется, что мы не должны мешать усовершенствованиям, и поэтому я думаю, что следует действовать в направлении, предложенном лордом Черуэллом»[1657].
Начальники штабов британских вооруженных сил дали свое согласие 3 сентября.
Марк Олифант изо всех сил помогал стимулировать американскую программу. «Если бы конгресс знал подлинную историю американского атомного проекта, – скромно сказал после войны Лео Сцилард, – он, я не сомневаюсь, учредил бы специальную медаль за особые заслуги, чтобы вручать ее назойливым иностранцам, и д-р Олифант получил бы ее первым»[1658]. Конант предполагает в своей секретной истории 1943 года, что «самой важной» причиной изменения направления программы, произошедшего осенью 1941 года, было то, что «решительные сторонники прямого наступления на урановую проблему стали более громогласными и решительными»[1659] и в первую очередь упоминает влияние Олифанта.
В конце августа Олифант прилетел в Соединенные Штаты – рейсы гидросамолетов Clipper компании Pan American через Лиссабон казались ему слишком медленными, и он обычно летал на неотапливаемых бомбардировщиках – для работы над радарами с коллегами из НКОИ. Но кроме того, ему было поручено узнать, почему Соединенные Штаты игнорируют результаты работы комитета MAUD. «Протоколы и отчеты… были отправлены Лайману Бриггсу… и нас удивляло практически полное отсутствие реакции на них… В Вашингтоне я зашел к Бриггсу и обнаружил, что этот косноязычный, посредственный тип убрал отчеты в свой сейф и не показывал их членам комитета». Олифант был «поражен и подавлен»[1660].
Затем он встретился с Урановым комитетом. Одним из новых членов комитета был талантливый экспериментатор из Чикагского университета, подопечный Артура Комптона Сэмюэл К. Аллисон. Олифант «пришел на заседание, – вспоминает Аллисон, – и прямо заговорил о “бомбе”. Он сказал нам, что мы должны сосредоточить все свои усилия на создании бомбы и не имеем права заниматься электростанциями или чем-нибудь еще кроме бомбы. Бомба будет стоить двадцать пять миллионов долларов, сказал он, а в Британии нет ни денег, ни рабочих рук, так что сделать ее предстоит нам». Аллисон был удивлен. Бриггс держал комитет в неведении. «Я думал, что мы создаем источник энергии для подводных лодок»[1661].
В отчаянии Олифант обратился к самому результативному из известных ему единомышленников в Соединенных Штатах. Он послал телеграмму Эрнесту Лоуренсу: «Я даже прилечу из Вашингтона на встречу в Беркли в удобное для Вас время»[1662]. Он полетел туда в начале сентября.
Лоуренс отвез Олифанта на холм за территорией университета, к площадке 4,5-метрового циклотрона, где они могли поговорить, не опасаясь, что их кто-нибудь услышит. Олифант пересказал содержание отчета MAUD, которого Лоуренс еще не видел. Лоуренс, в свою очередь, рассказал о возможности электромагнитного выделения 235U в перестроенных циклотронах и о достоинствах плутония. «Как же я восхищаюсь тем, как организована работа в Вашей лаборатории, – писал ему Олифант после этой встречи. – Я уверен, что в Ваших руках урановый вопрос получит адекватное и полное рассмотрение»[1663]. Вернувшись в свой кабинет, Лоуренс позвонил Бушу и Конанту и договорился, что они примут Олифанта. От Олифанта он получил краткое письменное изложение британского секретного отчета.
Конант пригласил вернувшегося в Вашингтон Олифанта на ужин и с интересом его выслушал. Буш встретился с ним в Нью-Йорке и уделил ему двадцать минут – на грани приличия. Ни тот ни другой администратор не признался, что знаком с отчетом MAUD[1664]. «Сплетни на запретные темы среди физиков-ядерщиков»[1665], – пишет о странствиях Олифанта в своей тайной истории Конант.
Олифант также поговорил с Ферми. Он нашел итальянского лауреата еще более осторожным, чем обычно, «уклончиво говорящим о бомбе на быстрых нейтронах и не вполне удовлетворенным теорией деления Бора и Уилера»[1666].
До или после этих встреч в Вашингтоне и Нью-Йорке Олифант заехал в компанию General Electric в Скенектади к Уильяму Д. Кулиджу, временному председателю комитета, составившему второй доклад НАН. По крайней мере, эта встреча вызвала что-то вроде возмущения. Кулидж немедленно написал Джуэтту и передал ему полученные от Олифанта новости, подчеркивая, что в чистом 235U «цепная реакция… должна происходить благодаря прямому воздействию быстрых нейтронов… Этой информации, насколько мне известно, еще не было в нашей стране на момент подачи второго доклада комитета Национальной академии. Я считаю, что на рассказ Олифанта следует обратить серьезное внимание»[1667]. На самом деле эта информация в Соединенных Штатах уже была – но Бриггс хранил ее под замком в своем сейфе. Олифант вернулся в Бирмингем, не будучи уверен, удалось ли ему произвести хоть какое-нибудь впечатление.
Лоуренс уже начал действовать. После отъезда Олифанта из Беркли он позвонил в Чикаго Артуру Комптону. «Некоторые события внушили ему веру в возможность создания атомной бомбы, – пересказывает их разговор Комптон. – Если такая бомба будет разработана вовремя, она может решить исход войны. Активность немцев в этой области заставляет его думать, что нам чрезвычайно важно поспешить с ее разработкой»[1668]. Сцилард говорил обо всем этом еще два года назад. 25 сентября Лоуренс должен был выступать в Чикаго. В это же время в город должен был приехать Конант, получавший там почетную степень. Комптон решил пригласить обоих к себе домой. Там Лоуренс смог бы лично убедить председателя НКОИ.
После Панамериканской научной конференции, на которой Эдвард Теллер определился со своим политическим долгом, он продолжал преподавать в Университете Джорджа Вашингтона, но начал искать работу в области исследований деления. В марте 1941 года семья Теллер присягнула на верность Соединенным Штатам и получила американское гражданство; одним из их поручителей был Мерл Тьюв. В том же месяце принес присягу и Ханс Бете, который уехал на весенний семестр из Корнелла преподавать в Колумбийском университете. В конце семестра Бете рекомендовал университету пригласить ему на замену Теллера. Теллер принял это предложение, чтобы более тесно сотрудничать с Ферми и Сцилардом – а также разрешать их споры со свойственной ему деликатностью, – и переехал на Манхэттен, в квартиру на Морнингсайд-драйв.
Ферми находил время теоретизировать даже в разгар экспериментальной работы. Одним приятным сентябрьским днем они с Теллером обедали в университетском клубе. После обеда, когда они шли обратно к Пьюпин-холлу, – «совершенно внезапно»[1669], как говорит Теллер, – Ферми начал размышлять вслух, можно ли при помощи атомной бомбы нагреть массу дейтерия настолько, чтобы в ней начался термоядерный синтез. Такой механизм, бомба, синтезирующая из водорода гелий, должна давать на три порядка больше энергии, чем бомба, основанная на делении, причем с гораздо меньшей удельной стоимостью эквивалентной взрывчатой силы. Для Ферми эта идея была малозначащим пустяком. Теллер увидел в ней грандиозную задачу и воспринял ее чрезвычайно серьезно.
Теллер любил браться за неизведанное. Когда он приходил к теоретическому пониманию чего-либо, он обычно обращался к следующей теме, не ожидая экспериментального подтверждения. Атомную бомбу он уже понял. Теперь он стал рассматривать возможность создания бомбы водородной. Он провел обширные вычисления. Их результаты были неутешительными. «Я решил, что дейтерий нельзя поджечь атомными бомбами»[1670], – вспоминает он. «В следующее воскресенье мы отправились на прогулку. Семейство Ферми и семейство Теллер. И я объяснил Энрико, почему сделать водородную бомбу никогда не удастся. И он мне поверил»[1671]. На некоторое время Теллер даже поверил сам себе.
Однако Энрико Ферми и Эдвард Теллер придумали использовать цепную ядерную реакцию для возбуждения в водороде реакции термоядерной не первыми. По-видимому, эта честь принадлежит японскому физику Токутаро Хагиваре с факультета естественных наук Университета Киото. Хагивара следил за ведущимися в мире исследованиями деления и проводил собственные изыскания. В мае 1941 он читал лекции о «Сверхвзрывчатом веществе 235U», в которых давал обзор имеющихся знаний. Он понимал, что для взрывчатой цепной реакции требуется 235U, и сознавал необходимость разделения изотопов: «В связи с потенциалом применения такой взрывной цепной реакции следует найти практический метод ее получения. Непосредственной и чрезвычайно важной задачей является нахождение средств крупномасштабного производства урана-235 из природного урана». Затем он описывал связь, которую увидел между ядерным делением и термоядерным синтезом: «Если каким-то образом появится возможность производства больших количеств урана-235 соответствующей концентрации, то уран-235 может с большой вероятностью быть использован в качестве запального вещества для водорода. Мы возлагаем на это большие надежды»[1672].
Но прежде, чем японцы или американцы могли создать водородную бомбу, им нужно было создать бомбу атомную. И ни в той ни в другой стране для этого еще не было достаточно надежной поддержки.
«Был прохладный сентябрьский вечер, – вспоминает Артур Комптон. – Моя жена встретила пришедших к нам Конанта и Лоуренса и принесла нам к камину по чашке кофе. Потом она занялась своими делами наверху, и мы втроем[1673] смогли поговорить откровенно»[1674].
Лоуренс говорил страстно. Он «очень энергично выражал свое недовольство американской программой, – пишет Конант. – Д-р Олифант встречался с ним летом, и его рассказ о надеждах британцев еще более разжег в Лоуренсе ревностное стремление к более активным действиям во всей этой области»[1675]. Конант прекрасно знал о надеждах британцев, но также хорошо знал и что разговоры ничего не стоят. Он предпочел играть роль адвоката дьявола и легко ввел в заблуждение Комптона, которому показалось, что именно его доводы сыграли решающую роль:
У Конанта были сомнения. Исходя из отчетов, полученных до сих пор, он заключил, что поддержку ядерных исследований в рамках военной программы пора прекратить… Мы не могли позволить себе растрачиваться на научные или промышленные мероприятия атомной программы, военная ценность которой была чрезвычайно сомнительной, когда каждая унция наших сил требовалась для национальной обороны.
Я выступил в поддержку Лоуренса…
Конант начал склоняться на нашу сторону[1676].
«Я не мог устоять перед искушением, – говорит президент Гарварда, – охладить риторический пыл [Лоуренса] и спросить, готов ли он приостановить свои собственные исследовательские программы»[1677].
«Если эта задача так важна, как вы говорите, – заметил [Конант], – то мы обязаны начать работу над нею. Я убеждал Вэнивара Буша отложить урановый проект на время войны. Теперь вы показали мне планы создания конкретного высокомощного оружия. Если такое оружие будет создано, мы должны создать его первыми. Но я должен предупредить вас, что из такого предприятия не выйдет ничего существенного, если только мы не вложим в него всё, что у нас есть».
Он обратился к Лоуренсу: «Эрнест, вы говорите, что уверены в важности этих бомб на основе деления. Готовы ли вы посвятить следующие несколько лет своей жизни их созданию?»
…Этот вопрос застал Лоуренса врасплох. Я до сих пор помню выражение его глаз, когда он сидел там с полуоткрытым ртом. Ему нужно было принять серьезное личное решение… Он колебался лишь мгновение: «Если вы скажете, что мне нужно это сделать, я это сделаю»[1678].
Вернувшись в Вашингтон, Конант проинформировал Буша о, как он говорит, «результатах совещания, в которое [меня] втянули помимо моей воли»[1679]. Два администратора решили заказать Национальной академии третий доклад, причем на этот раз комитет Комптона расширили, включив в его состав У. К. Льюиса, инженера-химика, имевшего выдающуюся репутацию в области оценки потенциального успеха производства в промышленных масштабах по результатам лабораторных исследований, и коллегу Конанта по Гарварду Джорджа Б. Кистяковского, штатного специалиста НКОИ по взрывчатым веществам.
В восемнадцать лет Кистяковский – высокий, широкий в кости, громогласный, с плоским славянским лицом и неизменной уверенностью в себе – пошел добровольцем в Белую армию и сражался в боях Гражданской войны. «Я вырос в семье, для которой вопросы гражданских прав, свободы человека имели большое значение, – рассказывал он впоследствии интервьюеру. – Мой отец был профессором социологии, писал статьи и книги на эту тему и имел неприятности с царским режимом, причем очень существенные. Мать тоже интересовалась политикой. Я думаю, оба они прошли через краткий период увлечения марксизмом, а потом отказались от него. В сущности, поэтому я и вступил в восемнадцатом году в антибольшевистскую армию. Уж точно не потому, что я любил царизм. Разумеется, задолго до того, как все это закончилось, я проникся абсолютным отвращением к белой армии». Кистяковский бежал в Германию и в 1925 году получил докторскую степень в Берлинском университете. Он мог остаться там и дальше, но его научный руководитель посоветовал ему поискать другое место. «Он сказал мне, что, если я хочу сделать научную карьеру, мне лучше эмигрировать; в Германии я никогда не получу работы – “Здесь вы всегда будете русским”»[1680]. Принстон согласился дать украинскому химику временную работу, а вскоре после этого принял его в постоянный штат. Потом о нем узнали в Гарварде и пригласили работать там. Он перешел в Гарвард в 1930 году, а в 1938-м стал профессором химии. Конант был одним из тех, кто переманивал Кистяковского из Принстона в Гарвард. Он высоко ценил мнение своего друга и коллеги-химика. «Когда я пересказал ему идею о возможности сборки бомбы путем быстрого соединения двух масс делящегося материала, первой его реакцией было замечание в духе Фомы неверующего. “Кажется, это будет трудно сделать на поле боя”, – сказал он». Однако окончательно убедило Конанта в том, в чем его не смогли убедить ни надежды британцев, ни призывы физиков, именно мнение Кистяковского:
Когда мы снова встретились несколько недель спустя, все его сомнения исчезли. “Такую систему можно заставить работать, – сказал он. – Я убежден на сто процентов”.
Мои сомнения относительно проекта Бриггса испарились, как только я услышал обдуманное мнение Джорджа Кистяковского. Я был знаком с Джорджем много лет… Я попросил его возглавить отдел взрывчатых веществ НКОИ… Я полностью доверял его мнению. Если уж его убедила программа Артура Комптона, то кто я был такой, чтобы сомневаться?[1681]
Олифант убедил Лоуренса, Лоуренс убедил Комптона, Кистяковский убедил Конанта. Конант говорит, что мнения Комптона и Лоуренса «много значили для Буша». Но «еще важнее»[1682] был отчет MAUD, который Дж. П. Томсон, ставший теперь британским научным представителем в Оттаве, официально передал Конанту 3 октября. 9 октября, не ожидая третьего доклада Национальной академии наук, Буш отнес этот отчет прямо президенту.
Франклин Рузвельт, Генри Уоллес и директор УНИР встретились в этот четверг в Белом доме. В меморандуме, который Буш написал в тот же день для Комптона[1683], он ясно отмечает, что основой обсуждения был отчет MAUD: «Я рассказал собравшимся о выводах британцев». Он сказал президенту и вице-президенту, что взрывчатый сердечник атомной бомбы может весить около десяти килограммов, что такая бомба может взрываться с силой, эквивалентной приблизительно тысяче восьмистам тоннам ТНТ, что для выделения 235U потребуется огромная промышленная установка, стоимость которой во много раз превышает стоимость крупного нефтеперегонного завода, что сырье может поступать из Канады и Бельгийского Конго и что, по оценкам британцев, первые бомбы могут быть изготовлены к концу 1943 года. Буш попытался объяснить, что завод по производству атомных бомб будет производить не более двух или трех бомб в месяц, но не был уверен, осознал ли президент такую «сравнительно низкую производительность». Он подчеркнул, что его утверждения основаны «в первую очередь на расчетах и некотором количестве лабораторных исследований, но не на проверенных фактах» и, следовательно, гарантировать успеха не могут.
По сути дела, Буш представлял британские расчеты и британские выводы. Его доклад создавал впечатление, что Британия добилась в этой области больших результатов, чем Америка. Поэтому разговор перешел на вопрос о том, как Соединенные Штаты связаны или могут связаться с британской программой. «Я рассказал о полном обмене информацией с Британией по техническим вопросам, и такой обмен был одобрен». Буш объяснил, что «техники» в Британии также сформулировали политику – предложили, чтобы государство разрабатывало атомную бомбу в качестве оружия для войны – и передали свои выводы непосредственно Военному кабинету. В Соединенных Штатах, сказал Буш, отдел НКОИ и экспертный комитет занимаются техническими вопросами; стратегические же решения принимают только он и Конант.
Стратегические решения были прерогативой президента. Как только Буш обозначил их, Рузвельт взял дело в свои руки. По мнению Буша, это решение было самым важным результатом этой встречи; в записке, составленной для Конанта, он подчеркнуто упомянул о нем в первую очередь. Рузвельт хотел, чтобы стратегические решения принимала только небольшая группа людей (которая получила название «Высшая политическая группа» – Top Policy Group). Он назначил ее членов: в нее вошли вице-президент Генри Уоллес, военный министр Генри Л. Стимсон, начальник Генерального штаба армии США Джордж К. Маршалл, Буш и Конант. Полномочия всех этих людей исходили непосредственно от президента. Рузвельт инстинктивно сосредоточил в своих руках все политические решения относительно ядерного оружия.
Таким образом, с самого начала существования атомной программы США ученых бесцеремонно лишили права голоса в принятии решений о политическом и военном применении оружия, которое они должны были создать. Буш с готовностью принял эту узурпацию. С его точки зрения, речь попросту шла о том, кто будет распоряжаться этой программой. Он оставался наверху пирамиды, в «ближнем кругу», и тут же начал использовать это положение, чтобы загнать физическое сообщество в установленные рамки. Уже через несколько часов, как он писал в ноябре Фрэнку Джуэтту, он «обратил внимание Артура Комптона и его сотрудников на то, что им предлагается докладывать о технологиях, а соображения общей стратегии – не их тема».
Важно отметить, что Буш связывал такое ограничение политических полномочий с защитой от критики: «Многие из прошлых затруднений были вызваны тем, что, в частности, у Эрнеста Лоуренса были прочные убеждения относительно стратегических принципов, и он широко о них рассказывал… Я не могу… привлечь его к участию в обсуждении, так как не имею на это полномочий от президента». Именно эту проверку – на способность не вмешиваться в стратегические решения – он использовал для оценки лояльности Лоуренса и Комптона: «Я думаю, что [Лоуренс] теперь понимает это, я уверен, что это понимает Артур Комптон, и мне кажется, что наши затруднения по этой части остались в прошлом»[1684].
Ученые могли решить, хотят ли они участвовать в создании ядерного оружия. Этим их свобода выбора и ограничивалась. Отказ от всех прочих полномочий в этой области был ценой, которую нужно было заплатить за пропуск в структуру, ставшую впоследствии отдельным, тайным государством, суверенитет которого был связан с государством общественным только через личность и власть президента.
На решение многих повлиял патриотизм, но, если судить по заявлениям физиков, еще более сильным мотивом был их страх – страх победы Германии, страх возникновения тысячелетнего рейха, неуязвимого благодаря атомным бомбам. И еще сильнее страха был фатализм. Бомба уже существовала в природе в скрытом виде так же, как скрыто существует в живом организме геном. Любая страна могла прийти к ее овеществлению. Поэтому речь шла не просто о состязании с Германией. Как, по-видимому, чувствовал Рузвельт, речь шла о гонке на время.
В меморандуме Буша есть признаки того, что Рузвельта больше всего заботило не противостояние Германии, а долгосрочные последствия получения настолько радикально нового типа средств уничтожения. «Мы довольно подробно обсудили послевоенные меры контроля, – писал Буш Конанту, – а также источники сырья» (в то время считалось, что источники сырья редки и немногочисленны; казалось, что тот, кто возьмет их под свой контроль, вполне сможет монополизировать бомбу). Рузвельт думал не только создании бомб для войны, в которую Соединенные Штаты еще даже не вступили. Он думал об изменениях в военной сфере, которые должны были изменить политическую структуру всего мира.
Затем Буш, бывший столь успешным администратором отчасти потому, что сознавал пределы своих возможностей, предложил, чтобы «расширенной программой» – то есть программой промышленного производства, когда придет его время, – управляла организация более крупная, чем УНИР. Рузвельт согласился. Подытоживая свои обязанности, Буш сказал президенту, что понимает, что должен всеми возможными способами способствовать ускорению исследований[1685], но «не предпринимать никаких определенных шагов в этой расширенной области до получения от него дальнейших указаний… Тот дал понять, что это так». Деньги, сказал ему президент, «придется брать из особого источника, предназначенного для столь необычных целй, и… он может организовать такое финансирование».
Решение о создании атомной бомбы в Соединенных Штатах еще не было принято. Но уже было решено тщательно исследовать, возможно ли ее создание. Это решение принял один человек, Франклин Рузвельт, и принял он его в тайне, не посоветовавшись ни с конгрессом, ни с судами. Оно казалось решением военным, а он был Верховным главнокомандующим.
Затем Буш и Конант заказали Артуру Комптону третий доклад НАН. Комптон попросил Сэмюэла Аллисона предложить кого-нибудь, кто мог бы помочь ему в расчетах критической массы 235U. До этого Аллисон переписывался по вопросам поглощения в углероде с Энрико Ферми и теперь горячо рекомендовал его. Комптон «зашел в кабинет Ферми в Колумбийском университете. Он подошел к доске и просто и быстро вывел для меня уравнение, позволяющее рассчитать критическую массу шара, в котором происходит цепная реакция. Он знал наизусть самые свежие экспериментальные значения постоянных. Он рассказал мне о достоверности данных… Даже по самым осторожным оценкам выходило, что количество делящегося металла, необходимое для производства ядерного взрыва, вряд ли может быть больше пятидесяти килограммов»[1686][1687][1688].
Комптон перешел в кабинет Гарольда Юри, чтобы выяснить, как обстоят дела с разделением изотопов. Благодаря удостоенной Нобелевской премии работе Юри по изотопам водорода он был, по общему мнению, ведущим специалистом в этой области во всем мире; именно он с самого начала руководил исследованиями разделения изотопов для Уранового комитета и Военно-морской исследовательской лаборатории. Он лично исследовал химическое выделение 235U (оказавшееся невозможным с химическими соединениями, имевшимися в то время) и разделение при помощи центрифуги. По его оценке, для производства одного килограмма 235U в сутки завод по разделению изотопов методом центрифугирования должен был содержать от 40 до 50 тысяч центрифуг метровой длины и стоить около 100 миллионов долларов; незадолго до этого он направил компании Westinghouse от имени Уранового комитета заказ на изготовление прототипа такой установки.
На первых порах Юри относился к барьерной газовой диффузии скептически. Он был несовместим с Джоном Даннингом, возможно, потому что оба они были энтузиастами, и только в конце 1940 года, когда развитие центрифуги уже шло полным ходом, Юри обратил внимание на метод, над разработкой которого упорно трудились за свой собственный счет Даннинг и Юджин Бут. Они выбрали газовую диффузию однажды за ужином, возвращаясь домой из поездки в Скенектади в 1940 году, систематически перебрав и отвергнув все другие методы как неподходящие для крупномасштабного производства – приблизительно так же, как сделали Пайерлс и Симон[1689]. Их интересовала ядерная энергетика, вспоминает Бут, а не бомбы. «Мы пошли к производству энергии путем разделения изотопов, исходя из простых общих соображений. Если цепная реакция возможна в обычном уране, то обогащенный уран позволит создать энергетическую установку меньшего размера и, вероятно, меньшей стоимости»[1690].
В ноябре 1940 года Даннинг и Юри произвели совместную оценку процесса газовой диффузии. Тогда Даннинг использовал в качестве материала для барьера фриттованное стекло – частично расплавленный и потому пористый кремнезем, материал, из которого изготавливают фарфор, – которое гексафторид урана мог разъедать. По их оценке, газодиффузионная сепараторная установка должна была содержать порядка пяти тысяч барьерных резервуаров – «ступеней», – но определить ее стоимость и энергопотребление они не пытались.
К осени 1941 года Даннинг и Бут, не имевшие никакой официальной поддержки, достигли тем не менее значительных успехов. Они перешли на барьеры из латуни, из которой был вытравлен цинк (латунь – сплав меди и цинка; вытравливание цинка делает этот металл пористым)[1691]. В ноябре, следующем после приезда Комптона месяце, им удалось успешно обогатить на своем оборудовании измеримое количество урана.
Затем Комптон поехал в Принстон к Юджину Вигнеру, который тесно сотрудничал с Ферми. Вигнер объяснил Комптону разницу между делением быстрыми и медленными нейтронами. Он поддерживал уран-графитовую систему, которую Ферми разрабатывал для производства элемента 94. «Он призывал меня, – пишет Комптон, – почти что со слезами на глазах, помочь запуску атомной программы. То, как сильно он боялся, что нацисты сделают бомбу первыми, производило еще более сильное впечатление, поскольку он жил в Европе и был хорошо знаком с ними»[1692].
Вернувшись в Чикаго, Комптон поговорил с Гленном Сиборгом, который приехал на восток из Беркли по просьбе Комптона. Сиборг был уверен, что сможет разработать технологию крупномасштабного химического отделения элемента 94 от урана с дистанционным управлением.
Вооружившись всей этой новой информацией, 21 октября Комптон созвал в Скенектади[1693] совещание своего комитета. Лоуренс прислал письмо, в котором писал, что хочет привлечь к работе Роберта Оппенгеймера: «Я очень доверяю Оппи и очень хочу, чтобы его мнение учитывалось в наших дискуссиях»[1694]. В разговоре у камина Комптона, узнав, что Лоуренс обращался к Оппенгеймеру, тогда еще не допущенному к участию в программе, за помощью по теоретическим вопросам, Конант сделал Лоуренсу выговор[1695], но теперь просьба Лоуренса была удовлетворена.
Один из споров между Лоуренсом и Оппенгеймером о том, что Лоуренс называл «левацкой деятельностью»[1696] теоретика, чуть было не закончился исключением последнего из атомного проекта. Оппенгеймер, женившийся к этому времени на Кэтрин Пьюнинг, которую называли Китти, и имевший шестимесячного сына, начал стремиться участвовать в этой работе. «Многие мои знакомые ушли работать над радарами и другими аспектами военных исследований, – объяснял он впоследствии. – Я довольно сильно им завидовал»[1697]. Чего ему будет стоить допуск к этой работе, он узнал, когда пригласил Лоуренса на проходившее в его элегантном новом доме на Игл-Хилл организационное собрание профсоюза, Американской ассоциации научных работников, ААНР (American Association of Scientific Workers), в число руководителей которой входил, в частности, Артур Комптон. Лоуренс не хотел иметь ничего общего с «принципами и идеалами», как он называл политическую деятельность, и не позволял заниматься ею своим сотрудникам. «Мне не нравится эта идея, – говорил он им, – я не хочу, чтобы вы в это ввязывались. Я знаю, что в этом нет ничего дурного, но у нас большие планы, связанные с военной промышленностью, и это было бы неправильно. Я не хочу давать кому-нибудь в Вашингтоне повод к нам придраться»[1698]. Оппенгеймера было не так-то легко переубедить; он спорил с Лоуренсом, напирая на то, что забота о человечестве должна быть делом каждого и что более успешные должны помогать «неудачникам»[1699]. Борьба с нацистами важнее, возражал Лоуренс. Он рассказал Оппенгеймеру о выговоре, сделанном Коннантом. Оппенгеймер отложил свое решение. Совещание 21 октября, на котором он смог сравнить достоинства ведущих ученых урановой программы со своими собственными блестящими талантами, заставило его передумать. «Только после первой личной встречи с представителями находившегося еще в зачаточном состоянии предприятия по получению атомной энергии, – рассказывал он, – я начал видеть, в чем я могу принести непосредственную пользу»[1700]. Увидев, как именно он может включиться в военные работы, он быстро пожертвовал своими неудачниками и 12 ноября писал Лоуренсу:
Я… заверяю Вас, что с ААНР никогда больше не возникнет никаких затруднений… Я очень сомневаюсь, чтобы сейчас кто-нибудь захотел создать организацию, которая каким-либо образом будет затруднять, раскалывать или задерживать предстоящую нам деятельность. Я поговорил пока что не со всеми заинтересованными лицами, но все те, с кем я уже говорил, согласны с нами, так что Вы можете забыть об этом[1701].
В начале совещания в Скенектади Лоуренс зачитал подготовленное Олифантом краткое изложение отчета MAUD. Затем выступил Комптон с отчетом о своих октябрьских поездках. Оппенгеймер вступил в разговор во время обсуждения критической массы 235U и предложил свою оценку – около 100 килограммов, что было близко к значению Ферми, 130 000 граммов. «Кистяковский, – пишет Комптон, – разъяснил огромные экономические преимущества возможности нанесения тяжелого удара при помощи бомбы, которую может доставить один-единственный самолет».
Однако Комптон обнаружил, к своему огорчению, что не может добиться от инженеров, входивших в экспертную комиссию, – тех самых прагматиков, которых ввели в нее по настоянию Буша, чтобы сделать доклады НАН более реалистическими, – оценки времени, которое потребуется для создания бомбы, или стоимости такого предприятия:
Все они единодушно отказались… Им не хватало данных. Дело в том, что перед ними была вся существующая на свете информация по этому вопросу, и необходимо было получить хоть какой-то ответ, хотя бы самый приблизительный, а иначе по нашим рекомендациям невозможно было принять никаких мер. После некоторого обсуждения я предложил назвать суммарное время от трех до пяти лет и суммарную стоимость… в несколько сотен миллионов долларов. Никто из членов комитета не возражал[1702].
Таким образом, американские цифры были взяты с потолка, как и предшествовавшие им британские. Атомная энергетика была для инженеров еще слишком неизведанной областью.
Если Комптона такое нежелание брать на себя конкретные обязательства огорчило, то Лоуренс пришел в ужас. В течение следующих суток он отправил председателю комитета резкое требование, приправленное угрозами:
На нашем вчерашнем совещании проявилась тенденция подчеркивать неопределенности и, следовательно, возможность того, что уран не станет фактором, влияющим на ход войны. На мой взгляд, это очень опасно…
Если ответы на связанные с ураном вопросы окажутся, когда мы их получим, отрицательными, это не будет катастрофой, но если эти ответы окажутся фантастически положительными, а мы не сможем получить их первыми, это может стать причиной тяжелейших несчастий для нашей страны. Поэтому я твердо убежден, что всякий, кто сомневается в необходимости энергичного, полномасштабного развития урановой программы, берет на себя тяжкую ответственность[1703].
Но Комптон, которому уже угрожал более серьезный специалист по этой части, Вэнивар Буш, хорошо знал, что ему следует делать, хотя он еще не знал, что Буш уже согласился на ускорение и расширение программы. Ему было трудно оценить «разрушительную силу бомбы». Вычисление этого параметра «было связано с определением давления газов, значений удельной теплоемкости при еще неизвестных температурах, распространения излучения и частиц сквозь материалы, а также действия инерции»[1704]. Он обратился за помощью к Грегори Брейту. Брейт был одержим секретностью еще сильнее, чем Бриггс. «Помощи ждать было неоткуда», – нехотя признает Комптон. Он обратился к Оппенгеймеру. «Я был знаком с Оппи около четырнадцати лет и знал его высочайшую компетентность в выделении существенных элементов сложных задач и правильной интерпретации того, что он в них находил. Поэтому я был рад получить от него письмо с полезными советами»[1705]. Комптон продолжал работать весь конец октября.
В сентябре Вернер Гейзенберг получил в Лейпциге первые сто пятьдесят литров тяжелой воды от Norsk Hydro и немедленно приступил к подготовке нового эксперимента с цепной реакцией, аналогичного неудачной прошлогодней попытке, предпринятой в Вирусном флигеле в Далеме: 76-сантиметровую алюминиевую сферу заполнили перемежающимися слоями тяжелой воды и оксида урана, которого там было более ста тридцати шести килограммов, в центре сферы установили нейтронный источник, а затем погрузили сферу в лабораторный резервуар с водой. На этот раз Гейзенберг обнаружил некоторое увеличение числа нейтронов, достаточное, чтобы предположить возможность успеха. Теперь немецкий лауреат знал из работ фон Вайцзеккера и Хоутерманса, что самоподдерживающаяся цепная реакция в природном уране производит элемент 94. «Именно начиная с сентября 1941 года, – замечает он в связи с этим, – мы увидели перед собою ясный путь, ведущий к созданию атомной бомбы»[1706].
Он решил поговорить с Бором. Он так никогда и не дал четкого объяснения того, чем именно, по его мнению, Бор мог ему помочь. Его жена Элизабет полагает, что «в Германии ему было одиноко. Нильс Бор был для него вторым отцом… Он считал, что может говорить с Бором о чем угодно… Для него всегда был важен совет старого друга, более опытного в делах человеческих и политических». «Перед [ним] вставал призрак атомной бомбы, – объясняет Элизабет Гейзенберг, – и он хотел дать Бору понять, что Германия не создаст и не сможет создать бомбы… Втайне он надеялся даже, что это сообщение когда-нибудь сможет предотвратить применение атомной бомбы против Германии. Эта мысль постоянно мучила его… Такая смутная надежда была, вероятно, самой сильной побудительной причиной этой поездки»[1707].
В конце октября Гейзенберг и фон Вайцзеккер были в Копенгагене на научной конференции, которую Бор, как обычно, бойкотировал – он бойкотировал все совместные датско-германские мероприятия, подчеркивая этим свой отказ от сотрудничества с Германией. Однако он готов был встретиться с Гейзенбергом и принял его, по словам жены немецкого физика, «очень тепло и гостеприимно»[1708].
Гейзенберг отложил свой жизненно важный разговор до долгой вечерней прогулки с Бором около Дома почета Карлсберга, в районе пивоварни. «Зная, что Бор находится под наблюдением германских политических органов, – вспоминал он после войны, – и что его отзывы обо мне, вероятно, будут переданы в Германию, я постарался провести эту беседу так, чтобы не подвергать свою жизнь непосредственной опасности». Как вспоминает Гейзенберг, он спросил Бора, имеют ли физики моральное право работать над «урановой проблемой» в военное время, когда существует возможность, что такая работа приведет к «серьезным последствиям в области военных технологий». Бор, вернувшийся из Соединенных Штатов с убеждением, что создание бомбы практически невозможно, «немедленно понял смысл этого вопроса, как я увидел по его слегка испуганной реакции». По-видимому, Гейзенберг считал, что Бор посвящен в американские секреты и его реакция – проявление чувства вины при намеке на разоблачение. Однако следующий ответ Бора говорит о том, что он скорее был поражен услышанным от Гейзенберга откровением: он спросил Гейзенберга, действительно ли бомба возможна. По словам Гейзенберга, он ответил, что для ее создания потребуются «гигантские технические усилия», и он надеется, что осуществить их в течение нынешней войны не удастся. «Бор был потрясен моим ответом; он, очевидно, предположил, что я пытаюсь сказать ему, что Германия достигла больших успехов на пути к изготовлению атомного оружия. Хотя после этого я пытался разубедить его в этом ложном впечатлении, мне это, вероятно, не удалось… Я был очень недоволен результатами этого разговора»[1709].
Так рассказывает об этой вечерней беседе Гейзенберг. Версия Бора менее подробна. Его сын Оге, в свою очередь ставший позднее нобелевским лауреатом и преемником отца на посту директора Копенгагенского института, изложил ее в своих воспоминаниях:
Впечатление, что Германия считает [исследования атомной энергии] чрезвычайно важными с военной точки зрения, было подкреплено осенью 1941 года визитом в Копенгаген Вернера Гейзенберга и К. Ф. фон Вайцзеккера… В частном разговоре с моим отцом Гейзенберг завел речь о военном использовании атомной энергии. Отец высказывался очень сдержанно и выразил скептическое отношение к этому вопросу в связи с огромными техническими трудностями, которые пришлось бы преодолеть, но у него создалось впечатление, что, по мнению Гейзенберга, такие новые возможности могли бы решить исход войны, если бы война затянулась… Рассказ [Гейзенберга об этой встрече] не опирается на то, что произошло в действительности[1710].
Роберт Оппенгеймер, который тоже слышал об этом разговоре непосредственно от Бора, сводит его к одному замечанию: «Из Германии приехали Гейзенберг с фон Вайцзеккером и другие. У Бора создалось впечатление, что они приехали не столько рассказать, что они знают, сколько проверить, не знает ли Бор чего-нибудь такого, чего не знают они; как мне кажется, ситуация была патовая»[1711].
Эти два рассказа не вполне несовместимы друг с другом, но в обоих опущен один чрезвычайно важный факт: что Гейзенберг передал Бору чертеж экспериментального реактора на тяжелой воде, над сооружением которого он работал[1712]. Если он сделал это тайно, он, несомненно, рисковал своей жизнью. Если же он действовал с одобрения нацистов, цинично пытаясь таким образом ввести в заблуждение разведку союзников, то он, несомненно, больше не видел в Боре отца, как пишет Элизабет Гейзенберг. Каковы бы ни были его намерения, этот поступок произвел на Бора ложное впечатление. Элизабет Гейзенберг считает, что «Бор, по сути дела, услышал только одну фразу: немцы знают, что атомные бомбы можно сделать. Он был глубоко потрясен этой новостью и впал в такое оцепенение, что совершенно не воспринял всего остального»[1713]. Но из рассказов Оге Бора и Оппенгеймера следует, что реакция Бора этим не ограничилась: он также был возмущен и даже не мог поверить, что, по мнению Гейзенберга, Бор мог бы по каким-либо причинам, каким-либо образом, сотрудничать с нацистской Германией. Гейзенберг, в свою очередь, был потрясен до глубины души, что Бор не увидел его колебаний или не счел их заслуживающими доверия, не понял, как пишет его жена, что его «приверженность стране и ее народу не равнозначна приверженности режиму». Напротив, добавляет она, «Бор сказал Гейзенбергу, что прекрасно понимает, что во время войны необходимо отдавать своей стране все свои способности и силы». Поскольку это означало, что Бор подозревает его в самом худшем – в готовности работать на нацистов, – неудивительно, что «Гейзенберг был глубоко шокирован ответом Бора»[1714].
Эта встреча, а в особенности чертежи, которые передал ему Гейзенберг, доставила Бору новые поводы для тревоги, но он по-прежнему сомневался, что какая-либо страна, особенно в военное время, может позволить себе выделить достаточные промышленные мощности на решение задачи разделения изотопов. Его, несомненно, ранило кажущееся предательство блестящего и некогда верного ученика. Гейзенберг же, как говорит его жена, находился «в состоянии растерянности и отчаяния»[1715]. Несмотря на риск, на который он пошел, ему не удалось ни убедить Бора в своей искренности, ни начать диалог, который помог бы избежать возможной катастрофы. В отсутствие такого диалога он смог разве что еще сильнее встревожить самого могущественного врага Германии известием об успехах на пути к получению цепной реакции. Как пишет об этом периоде в жизни Гейзенберга Рудольф Пайерлс, «он согласился ужинать с дьяволом и, возможно, обнаружил, что достаточно длинной ложки просто не существует»[1716][1717].
Артур Комптон отправил Вэнивару Бушу и Фрэнку Джуэтту экземпляры проекта третьего доклада Национальной академии наук[1718] перед выходными, начавшимися 1 ноября. Новый доклад был кратким – шесть машинописных страниц через два интервала (плюс сорок девять страниц технических приложений и иллюстраций) – и наконец-то прямо касался нужной темы: «Главная задача этого доклада – рассмотрение возможностей получения взрывной реакции деления 235U»[1719]. Успехи, достигнутые в области разделения изотопов урана, писал Комптон, вызвали срочную необходимость повторного рассмотрения (это обоснование было не вполне искренним: на самом деле перемены были вызваны британскими результатами).