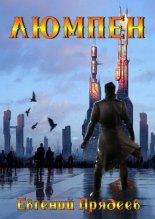Создание атомной бомбы Роудс Ричард
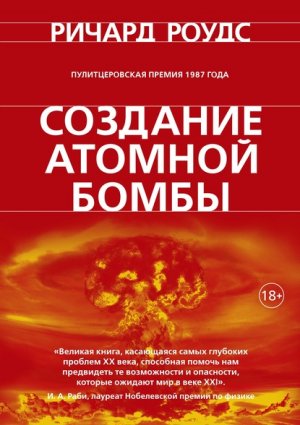
Д-р Л. Онзагер из Йельского университета рассказал, однако, о новом приборе, в котором, по его расчетам, изотопы элементов могут быть разделены в газообразной форме в трубках, охлажденных с одного конца и нагретых до высоких температур с другого.
Другие физики утверждали, что такой процесс должен быть дорогостоящим почти до нецелесообразности, а выход изотопа 235 должен оказаться бесконечно малым. Тем не менее, указали они, если процесс разделения д-ра Онзагера окажется работоспособным, то осуществление ядерного взрыва, способного уничтожить область размером с весь Нью-Йорк, будет делом сравнительно легким. Одной нейтронной частицы, попавшей в ядро атома урана, заявили они, будет достаточно для запуска цепной реакции в миллионах других атомов[1312].
Статья в Times подразумевает справедливость доводов Бора в пользу 235U, хотя даже сам Бор, по-видимому, все еще говорил только о реакции на медленных нейтронах. Ферми и другие по-прежнему не были убеждены в том, какую роль играет 235U. Хотя крупномасштабное разделение двух изотопов урана оставалось делом трудным, несколько раньше в том же месяце Джону Даннингу пришла в голову идея о возможности их разделения в микроскопических количествах на масс-спектрографе Альфреда Нира. Даннинг немедленно написал Ниру длинное, воодушевленное письмо, в котором просил его, по сути дела, разрешить спор между Ферми и Бором и дать огромный толчок развитию исследований цепной реакции. И Нир, и Даннинг, и Ферми были на заседании Американского физического общества. При личной встрече Даннинг снова убеждал Нира попытаться произвести разделение приблизительно так же, как он просил его об этом в ключевом абзаце своего письма:
Есть одно из направлений работы, заслуживающее особенно энергичных усилий, и именно в этом направлении нам требуется Ваша помощь… Жизненно важно получить некоторые изотопы урана в чистом виде в количестве, достаточном для настоящего испытания. Если бы вы смогли добиться эффективного разделения даже малых количеств двух основных изотопов [третий изотоп, 234U, присутствует в природном уране в ничтожно малом количестве; его содержание составляет 1:17 000], существует большая вероятность того, что мы с [Юджином Т.] Бутом сможем продемонстрировать, бомбардируя при помощи циклотрона, в каком из них происходит деление. Другого способа разрешения этого вопроса не существует. Если бы могли организовать сотрудничество, и Вы помогли бы нам, выделив несколько образцов, мы смогли бы объединенными усилиями разрешить весь этот спор[1313].
Самым важным для Даннинга, причиной его воодушевления, было то обстоятельство, что если за деление медленными нейтронами отвечает 235U, то сечение его деления должно быть в 139 раз больше, чем сечение деления медленными нейтронами природного урана, так как в природном веществе этот изотоп присутствует с содержанием всего лишь 1:140. «Выделение изотопа 235, – подчеркивает в своих мемуарах Герберт Андерсон, – значительно облегчило бы получение цепной реакции. Более того, при наличии чистого изотопа перспективы создания бомбы беспрецедентной взрывчатой силы стали бы весьма реальными»[1314].
Ферми обратился к Ниру с аналогичной просьбой; как вспоминает Нир, он «вернулся к себе и придумал, как можно несколько усовершенствовать наш прибор, чтобы повысить его производительность… Я работал над этой задачей, но в первое время она казалась настолько отвлеченной, что я занимался ею не так интенсивно, как мог бы. Она была лишь одним из нескольких дел, которые я пытался сделать»[1315].
В любом случае Ферми больше интересовало получение цепной реакции в природном уране, а не разделение изотопов. «Маленькое сечение деления в природном [элементе] его не смущало, – отмечает Андерсон. – “Оставайтесь со мной, – советовал он, – мы будем работать с природным ураном. Вот увидите. Мы получим цепную реакцию первыми”. Я остался с Ферми»[1316].
К середине апреля Сциларду удалось бесплатно одолжить около 250 кг черного, закопченного оксида урана у компании Eldorado Radium Corporation[1317], принадлежавшей братьям Борису и Александру Прегелям, родом из России. Борис учился в Радиевом институте в Париже; компания Eldorado занималась торговлей редкими минералами и владела крупным месторождением урана на Большом Медвежьем озере на Северо-Западных территориях Канады.
Как и в предыдущем эксперименте Ферми и Андерсона, новый проект предполагал оценку производства нейтронов в резервуаре с жидкостью. Для получения более точных данных экспериментаторам требовалась выдержка более длительная, чем позволяла получить родиевая фольга с 44-секундной радиоактивностью, которую они использовали обычно. Вместо этого они планировали наполнить резервуар 10-процентным раствором сульфата марганца, похожего на железо металла, который придает аметисту фиолетовый цвет и дает при бомбардировке нейтронами радиоактивный изотоп с периодом полураспада около 3 часов. «Уровень [радио]активности, наведенной в марганце, – объясняли они впоследствии в своем отчете, – пропорционален числу присутствующих [медленных] нейтронов»[1318]. Таким образом, водород, содержащийся в воде, должен был обеспечивать замедление как первичных нейтронов из центрального нейтронного источника, так и всех вторичных нейтронов, возникающих в распаде, а марганец, растворенный в воде, позволял измерить их количество – схема эксперимента отличалась элегантной экономичностью.
Атомы, расположенные на поверхности массы урана, более подвержены воздействию нейтронов[1319], чем атомы, находящиеся в ее глубине. Поэтому Ферми и Сцилард решили не складывать весь свой оксид урана в один большой контейнер, а распределить его по всему резервуару, упаковав его в пятьдесят две банки размерами приблизительно с обрезки водопроводной трубы – около пяти сантиметров диаметром и чуть больше полуметра длиной.
Упаковка банок и смешивание марганцевого раствора, который приходилось менять, выделяя из него марганец, после каждого эксперимента, требовали большого труда. Нелегким делом было и измерение радиоактивности марганца, занимавшее каждый раз по полночи. Ферми взялся за работу с энтузиазмом. «Он любил работать усерднее, чем все остальные, – отмечает Андерсон, – но и все остальные работали очень усердно». Кроме Сциларда. «Сцилард считал, что его время должно быть посвящено размышлениям»[1320]. Ферми негодовал. «Сцилард совершил смертный грех, – вспоминает Сегре, присоединяясь к мнению Ферми. – Он сказал: “Я не хочу работать, пачкая руки, будто какой-нибудь подручный маляра”»[1321]. Когда Сцилард сказал, что нанял себе заместителя, молодого человека, оказавшегося, как вспоминает Андерсон, «весьма компетентным»[1322], Ферми согласился на это без каких-либо комментариев. Однако он никогда больше не участвовал в совместных экспериментальных работах со Сцилардом.
В окончательном варианте схема установки выглядела так:
Источник Сциларда, Ra + Be, находится в центре резервуара, содержащего 540 литров раствора марганца; 52 банки UO 2 расположены вокруг него
Эксперимент удался. Три физика обнаружили, что нейтронная активность «в присутствии оксида урана приблизительно на 10 % выше, чем без него. Этот результат показывает, что число нейтронов, испускаемых ураном в нашей установке, превышает число нейтронов, поглощаемых ураном»[1323]. Однако этот эксперимент породил и некоторые неясные вопросы. Например, резонансное поглощение явно оказалось препятствием, поскольку оно приводило к захвату нейтронов, которые в противном случае могли бы участвовать в цепной реакции. По оценке отчета об эксперименте, «среднее испускание [вторичных нейтронов] составляет около 1,2 нейтрона на тепловой нейтрон», но отмечалось, что «это число следует увеличить, возможно, до 1,5»[1324], потому что некоторые из нейтронов, очевидно, оказались захвачены, так и не вызвав деления, – в подтверждение большого резонанса захвата около 25 эВ, который Бор относил на своих графиках на счет 238U.
Другая трудность была связана с использованием в качестве замедлителя воды. Как группа Ферми установила в Риме в 1934 году, водород более эффективно замедляет нейтроны, чем любой другой элемент, а медленные нейтроны избегают паразитного резонанса захвата 238U. Но сам водород также поглощает некоторые из медленных нейтронов, что еще более уменьшает число нейтронов, способных вызвать деление урана. К тому времени уже было ясно, что для запуска цепной реакции в природном уране необходимо бережно хранить все до единого возможные вторичные нейтроны. Георг Плачек, приехавший в гости из Корнелла, в котором он теперь обосновался, осмотрел установку и проницательно предрешил ее будущее. Вот как рассказывает об этом Сцилард:
Мы были склонны считать, что… водно-урановая система будет способна поддерживать цепную реакцию… Плачек сказал, что этот вывод ошибочен, потому что для получения цепной реакции нам пришлось бы устранить поглощение [нейтронов] водой; то есть нужно было бы уменьшить количество воды в системе, а уменьшив количество воды в системе, мы увеличили бы паразитическое поглощение [нейтронов] ураном [так как в отсутствие воды уменьшилось бы число замедленных нейтронов]. Он посоветовал нам отказаться от водно-урановой системы и использовать для замедления нейтронов гелий. Ферми это показалось забавным, и после этого Ферми неизменно называл гелий «плачековым гелием»[1325].
В июне группа из Колумбийского университета написала отчет о своем эксперименте отправила получившуюся статью под названием «Образование и поглощение нейтронов в уране»[1326] в Physical Review, в котором она была получена 3 июля. Ферми уехал в Анн-Арбор на летнюю школу по теоретической физике и, по словам Андерсона, отвлекся «на интересную задачу из области космических лучей»[1327]. Либо Ферми не был согласен со Сцилардом относительно срочности исследований цепной реакции, либо он хотел забыть, хотя бы на время, о безразличии флота и убедительной критике его уран-водной системы, которую высказал Плачек; вероятно, сыграли свою роль оба этих фактора. Андерсон занялся тем временем исследованием резонансного поглощения в уране, которое впоследствии стало темой его диссертации.
Сцилард остался в жарком и влажном городе: «Я остался в Нью-Йорке в одиночестве. У меня по-прежнему не было должности в Колумбийском университете; мой трехмесячный период [доступа к работе в лаборатории] закончился, но никаких экспериментов все равно не проводилось, и мне оставалось только думать»[1328].
Сначала Сцилард думал о возможностях замены воды другими веществами. Ближайшим в периодической системе распространенным материалом, который мог подойти – то есть имел сечение захвата значительно меньшее, чем у водорода, был дешевым и стабильным, термически и химически, – был углерод. Неорганический углерод, химически идентичный алмазу, но имеющий другую кристаллическую структуру, – это графит, черный, маслянистый, непрозрачный, блестящий материал, из которого по большей части состоят карандашные грифели. Хотя углерод замедляет нейтроны гораздо слабее, чем водород, в тщательно продуманной конструкции можно было выгодно использовать даже это различие.
Льюис Штраус уезжал в Европу на неделе, начавшейся после 2 июля. Надеясь, что финансист сможет добиться поддержки исследований урана от бельгийской компании Union Minire, Сцилард в последний момент послал Штраусу письмо, в котором утверждал, что цепная реакция в уране «станет возможна в ближайшем будущем»[1329], но предпочел не упоминать о своей новой уран-графитовой концепции. По-видимому, он хотел сначала обсудить ее с Ферми; в тот же день, 3 июля, он подробно написал о ней итальянскому лауреату. «Сейчас мне кажется, – писал он, – что углерод с высокой вероятностью может оказаться хорошей заменой водороду, и я испытываю сильное искушение сделать ставку на эту вероятность». Он хотел попробовать провести «крупномасштабный эксперимент со смесью углерода и оксида урана», как только можно будет накопить достаточное количество материалов. Тем временем он собирался организовать эксперимент меньших размеров для более точного измерения сечения захвата углерода, для которого на тот момент был известен только верхний предел значений. Если бы углерод оказался материалом неподходящим, «следующим перспективным кандидатом могла бы стать тяжелая вода», обогащенная дейтерием, хотя потребовалось бы «несколько тонн» этой редкой и дорогой жидкости. Дейтерий, 2H, имеет гораздо меньшее сечение захвата нейтронов, чем обычный водород.
В дни, близкие к сто шестьдесят третьей годовщине Декларации независимости[1330], идеи Сциларда развивались стремительно. 5 июня он посетил National Carbon Company of New York[1331], чтобы разузнать о возможности покупки блоков высокоочищенного графита (так как инородные вкрапления, например бора с его большим сечением захвата, вызвали бы поглощение слишком большого количества нейтронов). В тот же день он написал Ферми о том, что ему удалось узнать: «По-видимому, достаточно чистый углерод можно приобрести по разумной цене»[1332]. Он также упомянул о послойном расположении урана и углерода.
В конце недели Ферми написал в Анн-Арборе ответ на первое сообщение Сциларда. Он независимо пришел к сходному плану:
Благодарю Вас за Ваше письмо. Я тоже рассматривал возможность использования углерода для замедления нейтронов… По моим оценкам, в возможной конфигурации должно содержаться около 39 000 кг углерода в смеси с 600 кг урана. Если это действительно так, количество нужных материалов, наверное, не будет слишком большим.
Однако, поскольку количество урана, которое можно использовать, особенно в однородной смеси, чрезвычайно мало… возможно, применение толстых слоев углерода, разделенных слоями урана, позволило бы использовать несколько большую долю урана[1333].
Идея послойного расположения урана и графита или разделения их каким-либо другим образом, родилась из расчетов, которые Ферми выполнил в июне для эксперимента в резервуаре с водным раствором марганца. Расчеты Ферми навели обоих на мысль о том, что и в новой конструкции, которую они разрабатывали независимо друг от друга, нужно перемежать оксид урана с графитом. Такое перемежение дало бы вторичным нейтронам достаточно места для замедления, вызванного столкновениями с замедляющим веществом, до встречи с ядром 238U. В следующем своем письме, 8 июля, Сцилард отмечает, что «углерод и оксид урана следует не смешивать, а размещать послойно или, во всяком случае, в виде упакованных отдельно в какую-нибудь тонкую металлическую оболочку»[1334]. Однако письма от 5 и 8 июля, по-видимому, еще не дошли до Ферми, когда тот отправил свое письмо.
К тому времени, как Сцилард получил письмо Ферми, он продвинулся в своих размышлениях еще дальше и понял, что расположение маленьких урановых шаров среди блоков графита было бы «еще более выгодным с точки зрения цепной реакции, чем рассматривавшаяся исходно система плоских слоев урана»[1335]. Сцилард имел в виду конфигурацию решетки. Такая решетка соответствует конструкции геодезического купола, если представить себе, что он образует законченный шар и его внутреннее пространство заполнено равномерно распределенными узлами так же, как его поверхность. По расчетам Сциларда объемы материалов выходили несколько большими, чем получалось у Ферми: «около 50 тонн углерода и 5 тонн урана»[1336]. Весь эксперимент, как он полагал, должен был стоить около 35 000 долларов[1337].
Если в графите и уране можно получить цепную реакцию, считал Сцилард, то вероятна и возможность создания бомбы. А раз он сумел прийти к таким выводам, то можно предположить, что это удастся и его коллегам в нацистской Германии. Где-то в начале июля он разыскал Пеграма и попытался убедить его в необходимости срочного проведения крупномасштабного эксперимента для разрешения этого вопроса. Декан не поддался на его уговоры: «С его точки зрения, хотя это дело действительно казалось довольно срочным, поскольку было лето и Ферми был в отъезде, до осени все равно нельзя было сделать ничего полезного»[1338].
В течение нескольких недель Сцилард пытался выбить финансирование из американских военных самостоятельно. В конце мая он попросил Вигнера связаться с Абердинским испытательным полигоном вооруженных сил, предприятием по разработке вооружений, расположенным в штате Мэриленд. Обдумывая возможности системы из урана и графита, он разговаривал с Россом Ганном о поддержке флота. Теперь он получил письмо Ферми от 9 июля и письмо Ганна от 10-го, и они его не порадовали. Ферми писал о послойном расположении углерода и урана, но его вычисления были выполнены для однородной системы – смеси измельченного графита с измельченным оксидом урана. «Я очень хорошо понимал, что Ферми… рассчитал однородную смесь только потому, что рассчитать ее было легче всего. Это говорило о том, что Ферми не относился к этому по-настоящему серьезно»[1339]. В свою очередь, Ганн сообщил, что «договориться [с флотом] о каком-либо соглашении, которое действительно было бы Вам полезно… по-видимому, практически невозможно. Я сожалею о таком положении дел, но не вижу никакого выхода»[1340].
Несмотря на поистине олимпийское самомнение Лео Сциларда, даже он не чувствовал себя в силах спасти мир в одиночку. Теперь он обратился за моральной поддержкой к своим соотечественникам-венграм. Эдвард Теллер переехал на лето на Манхэттен и преподавал физику в Колумбийском университете; к ним присоединился и Юджин Вигнер, специально приехавший из Принстона. Впоследствии в воспоминаниях Сциларда появлялось несколько разных вариантов их разговора, но письмо, написанное им 15 августа 1939 года, можно считать достоверным современным свидетельством: «Д-р Вигнер полагает, что наш долг – заручиться поддержкой администрации [Рузвельта]. Несколько недель назад он приезжал в Нью-Йорк, чтобы обсудить эту идею со мной и д-ром Теллером»[1341]. Сцилард показал Вигнеру свои расчеты уран-графитовой системы. «Они произвели на него большое впечатление и обеспокоили его»[1342]. И Теллер, и Вигнер, писал Сцилард в 1941 году в пояснительной записке, «были согласны, что это направление следует развивать, не теряя времени; в последующем обсуждении оформилось мнение о том, что следует попытаться заручиться поддержкой правительства, а не частного сектора промышленности. В частности, д-р Вигнер очень настоятельно рекомендовал проинформировать правительство Соединенных Штатов»[1343].
Однако разговор отклонился от этого проекта и зашел о «беспокойстве по поводу того, что случится, если Германия завладеет огромным количеством урана, которое бельгийцы добывают в Конго». Возможно, Сцилард подчеркнул бесплодность всех тех контактов с государственными органами, которые уже пытались установить он сам и Ферми. «Поэтому мы стали думать, по каким каналам мы могли бы связаться с бельгийским правительством и предупредить его о нежелательности продажи урана Германии»[1344].
Сцилард вспомнил, что его старый друг Альберт Эйнштейн знаком с бельгийской королевой. Эйнштейн познакомился с королевой Елизаветой в 1929 году, когда ездил в Антверпен к своему дяде; после этого физик и глава государства регулярно переписывались, причем Эйнштейн называл ее в своих лишенных всякой церемонности письмах просто «королевой».
Венгры знали, что Эйнштейн проводит лето на Лонг-Айленде. Сцилард вызвался съездить к Эйнштейну и попросить его предупредить Елизавету Бельгийскую. Поскольку у Сциларда не было автомобиля, – и он так и не научился водить, – он заручился обещанием Вигнера отвезти его на Лонг-Айленд. Они позвонили в секретариат Эйнштейна в Институте перспективных исследований и выяснили, что тот живет в летнем доме на Олд-Гроув-роуд на мысе Нассау-Пойнт, клочке земли, разделяющем две части залива Пеконик, заливы Литтл-Пеконик и Грейт-Пеконик, в северо-восточной части острова.
Они позвонили Эйнштейну и договорились о встрече. В это же время Сцилард пытался также осуществить предложение Вигнера о выходе на американско правительство, обратившись за советом к осведомленному экономисту из иммигрантов, Густаву Штолперу, берлинцу, бывшему депутату рейхстага, перебравшемуся в Нью-Йорк. Штолпер согласился помочь в поисках достаточно влиятельного посланника[1345].
Утром в воскресенье 16 июля[1346] Вигнер подобрал Сциларда и поехал с ним через Лонг-Айленд к заливу Пеконик. Они добрались до места вскоре после полудня, но никак не могли разузнать у встречных дорогу, пока Сцилард не догадался назвать имя Эйнштейна. «Мы уже были готовы сдаться и вернуться в Нью-Йорк, – двое венгерских ученых мирового уровня, заблудившиеся в летнюю жару среди проселочных дорог, – когда я заметил мальчика лет семи-восьми, стоявшего на обочине. Я высунулся из окна и сказал: “Послушай, ты, случайно, не знаешь, где тут живет профессор Эйнштейн?” Мальчик знал и предложил показать нам дорогу»[1347].
Ч. П. Сноу, навещавший Эйнштейна в том же летнем доме двумя годами раньше и также заблудившийся по дороге, позволяет представить себе тамошнюю обстановку:
Он вошел в гостиную через минуту или две после нашего приезда. Из мебели там были только несколько садовых кресел и маленький стол. Окно выходило на воду, но ставни были полузакрыты, чтобы не впускать в дом жару. Было очень влажно.
Голова Эйнштейна выглядела вблизи именно так, как я представлял ее себе: величественной, но с придающим человечности комическим оттенком. Огромный морщинистый лоб; ореол седых волос; громадные, выпуклые глаза шоколадного цвета. Не знаю, чего я ожидал бы от такого лица, если бы не знал, кому оно принадлежит. Некогда один проницательный швейцарец сказал, что его ясность придает ему сходство с выражением лица умелого ремесленника, что Эйнштейн похож на надежного, старомодного часовщика из какого-нибудь маленького городка, который, возможно, ловит бабочек по воскресеньям.
Меня удивило его телосложение. Он только что вернулся с парусной прогулки, и на нем были только шорты. Его тело было массивным и очень мускулистым: на талии и плечах уже начал откладываться жир, как это бывает у футболистов в среднем возрасте, но он все еще оставался человеком необычайно сильным. Держался он сердечно, просто, совершенно без стеснения. Его большие глаза смотрели на меня, как будто он думал: зачем я приехал, о чем хочу с ним поговорить?
…Шли часы. Я смутно помню, как входили и выходили какие-то люди, но не помню, кто они были. Стояла удушающая жара. По-видимому, никакого фиксированного времени для еды установлено не было. Мне кажется, что в это время он уже ел очень мало, но по-прежнему курил трубку. Время от времени появлялись блюда с бутербродами – с разными колбасами, сыром, огурцом. Обстановка была очень непринужденной и восточноевропейской. Пили мы только газированную воду[1348].
В подобной обстановке Сцилард и рассказал Эйнштейну об экспериментах со вторичными нейтронами в Колумбийском университете и своих расчетах цепной реакции в уране и графите. Много лет спустя он вспоминал, насколько его удивил тот факт, что Эйнштейн даже не слышал до этого о возможности цепной реакции. Когда он упомянул о ней, Эйнштейн воскликнул: «Daran habe ich gar nicht gedacht!»[1349] – «Я об этом даже не думал!» Тем не менее, как говорит Сцилард, он «очень быстро осознал, что из этого может последовать, и был готов сделать все, что от него требовалось. Он был готов взять на себя ответственность за объявление тревоги, хотя эта тревога вполне могла оказаться ложной. Больше всего на свете ученые боятся выставить себя в глупом свете. Эйнштейн был свободен от этого страха, и это более, чем что-либо другое, делало его положение в этих обстоятельствах уникальным».
Эйнштейн сомневался, уместно ли писать королеве Елизавете, но готов был связаться со своим знакомым, бывшим членом бельгийского кабинета министров. Вигнер присоединился к беседе, снова настаивая, что следует известить правительство Соединенных Штатов. Он подчеркивал, продолжает Сцилард, «что нам не следует связываться с иностранным правительством, не дав Государственному департаменту возможности выдвинуть свои возражения»[1350]. Вигнер предложил отправить бельгийское письмо вместе с сопроводительным письмом через Госдепартамент. Всем троим показалось, что это разумно.
Эйнштейн продиктовал письмо к послу Бельгии, более официальному адресату, который лучше подходил для плана, предполагавшего участие Государственного департамента, а Вигнер собственноручно записал его по-немецки[1351]. Одновременно с этим Сцилард сочинил черновик сопроводительного письма. Это письмо Эйнштейна было первым из нескольких таких текстов – каждый из которых служил черновиком следующему, – и именно в нем впервые появилось большинство утверждений, вошедших в то письмо, которое в конце концов было отправлено.
Вигнер отвез первую редакцию письма Эйнштейна в Принстон, перевел на английский и в понедельник отдал секретарше на перепечатку. Когда письмо было готово, он переслал его по почте Сциларду. После этого он оставил Принстон и уехал в отпуск в Калифорнию.
В гостинице «Кингз Краун» Сциларда ожидало письмо от Густава Штолпера. «Он сообщил мне, – писал Сцилард Эйнштейну 19 июля, – что обсудил наши проблемы с д-ром Александром Саксом, вице-президентом корпорации Lehman, биологом и экономистом, и д-р Сакс хочет поговорить со мной на эту тему»[1352]. Сцилард охотно согласился на эту встречу.
Александру Саксу, родившемуся в России, было тогда сорок шесть лет. Он приехал в Соединенные Штаты одиннадцатилетним, в девятнадцать закончил биологический факультет Колумбийского университета, работал клерком на Уолл-стрит, вернулся в Колумбийский университет изучать философию, а затем перешел в Гарвард, где получил несколько престижных стипендий, занимаясь философией, юриспруденцией и социологией. Он составлял тексты по экономике для речей Франклина Рузвельта во время предвыборной кампании 1932 года; начиная с 1933 года работал в течение трех лет в Администрации восстановления промышленности, а в 1936-м перешел в Lehman Corporation. У него были густые курчавые волосы и скошенный подбородок; видом и голосом он напоминал комедийного актера Эда Уинна. Его коллеги по АВП часто представляли его под этим именем важным гостям, чтобы дать им неоспоримое доказательство способности Рузвельта к радикальным нововведениям – если уж им было недостаточно самого существования АВП. Сакс изъяснялся тяжеловесным, вычурным языком (той весной он подумывал написать книгу под названием «Межвоенное отступление от здравого смысла на примерах исторических ошибок недавнего прошлого и современного ведения международных политических и экономических дел Соединенными Штатами и Великобританией»[1353], но порой блистал красноречием на совещаниях[1354].
Сакс выслушал Сциларда. Затем, писал Сцилард Эйнштейну, он «высказал мнение – и совершенно убедил меня, – что дела такого рода в первую очередь касаются Белого дома, и лучшее, что мы можем сделать, в том числе и с практической точки зрения, – это проинформировать Рузвельта. По его словам, если мы дадим ему заявление, он обеспечит его передачу лично Рузвельту»[1355]. Среди тех, кто ценил мнение Сакса и время от времени приглашал его для бесед, по-видимому, был и президент Соединенных Штатов.
Сцилард был ошарашен. Его покорила сама дерзость этого предложения, появившегося после долгих месяцев, в течение которых он сталкивался только с осторожностью и скепсисом. «Хотя я видел д-ра Сакса всего лишь один раз, – писал он Эйнштейну, – и не мог составить определенного мнения о нем, я тем не менее думаю, что такая попытка е может принести никакого вреда, и считаю также, что в этом отношении он вполне способен выполнить свое обещание»[1356].
Сцилард встретился с Саксом вскоре после возвращения с Лонг-Айленда – между воскресеньем и средой. Поскольку связаться с Вигнером, который на этой неделе ехал на машине в Калифорнию, было невозможно, он разыскал Теллера, которому предложение Сакса понравилось еще больше, чем тот план, который они разработали до этого[1357]. Опираясь на первую редакцию письма Эйнштейна, Сцилард подготовил черновой вариант письма Рузвельту. Он написал его по-немецки, потому что Эйнштейн недостаточно хорошо знал английский, приложил сопроводительное письмо и отослал на Лонг-Айленд. «Возможно, Вы сможете сказать мне по телефону, хотите ли Вы вернуть мне черновик с Вашими пометками по почте, – писал он в сопроводительном письме, – или мне следует приехать и снова обсудить с Вами все это предприятие». Если ему снова нужно будет приехать к заливу Пеконик, писал Сцилард, он попросит Теллера отвезти его туда, «не только потому, что я считаю его мнение ценным, но и потому, что мне кажется, что Вам будет приятно с ним познакомиться. Он чрезвычайно милый человек»[1358].
Эйнштейн предпочел обсудить письмо к президенту при личной встрече. Поэтому Теллер отвез Сциларда на Лонг-Айленд в своем крепком «плимуте» 1935 года выпуска – вероятно, в воскресенье 30 июля[1359]. «Я вошел в историю в качестве шофера Сциларда»[1360], – афористически описывал это событие Теллер. Принстонский лауреат встретил их в старой одежде и домашних тапочках. Эльза Эйнштейн подала чай. Сцилард с Эйнштейном составили вместе третий вариант текста[1361], а Теллер записал его. «Да, да, – как вспоминает Теллер, говорил Эйнштейн, – это был бы первый случай, когда человек высвободит ядерную энергию напрямую, а не опосредованно»[1362]. Он имел в виду получение энергии непосредственно в результате деления ядер, а не опосредованно – от Солнца, в недрах которого в ходе ядерной реакции другого рода возникает излучение огромной силы, поступающее на Землю в виде солнечного света.
По-видимому, Эйнштейн был не вполне уверен, что поручить сообщение новостей Рузвельту именно Саксу будет лучше всего. 2 августа Сцилард написал Эйнштейну, надеясь «наконец» решить вопрос «о том, кого мы должны постараться привлечь в качестве посредника»[1363]. Тем временем он повидался с Саксом; экономист, явно стремившийся стать представителем Альберта Эйнштейна перед президентом, великодушно предложил альтернативные кандидатуры экономиста Бернарда Баруха или президента МТИ Карла Т. Комптона. С другой стороны, он активно поддерживал кандидатуру Чарльза Линдберга, хотя и не мог не знать, что Рузвельт испытывает отвращение к прогерманскому изоляционизму, который откровенно проповедовал знаменитый авиатор. Сцилард писал, что они с Саксом обсуждали «несколько более длинный и развернутый вариант» письма, которое Эйнштейн со Сцилардом составили на второй своей встрече на Лонг-Айленде; он приложил к своему письму обе редакции, длинную и короткую, и просил Эйнштейна вернуть ту из них, которая ему больше нравилась, вместе с рекомендательным письмом к Линдбергу.
Эйнштейн выбрал более длинный вариант, в который входили и составленное им короткое заявление, и дополнительные абзацы, которые Сцилард вписал, посоветовавшись с Саксом. Он подписал оба письма и вернул их Сциларду менее чем через неделю, вместе с запиской, в которой он выражал надежду «что Вы наконец преодолеете свое внутреннее сопротивление; пытаться сделать что-либо слишком умным образом всегда бывает делом сомнительным»[1364]. Что означало «вперед, смелее!». «Мы постараемся последовать вашему совету, – отвечал Сцилард 9 августа, – и, насколько возможно, преодолеть наше внутреннее сопротивление, которое, следует признать, действительно существует. К слову, мы ни в коем случае не пытаемся действовать слишком умно; нас вполне устроило бы и всего лишь не оказаться в слишком глупом положении»[1365].
15 августа Сцилард передал Саксу письмо в окончательной редакции вместе со своей собственной запиской, в которой он более подробно развивал изложенные в письме рассуждения о возможностях и опасностях деления. Он все еще не отказался от попыток связаться с Линдбергом, – на следующий же день он составил черновик письма к авиатору[1366], – но, видимо, решил тем временем попытаться воспользоваться услугами Сакса, может быть, просто чтобы дело не стояло на месте. Он настоятельно потребовал от Сакса либо доставить письмо Рузвельту, либо вернуть его.
Одно из рассуждений, добавленных Сцилардом к длинному варианту письма, который выбрал Эйнштейн, касалось человека, который мог бы стать связующим звеном между «администрацией и группой физиков, работающих в Америке над цепными реакциями»[1367]. В сопроводительной записке к Саксу Сцилард неявно предлагал на эту роль себя самого. «Если можно будет найти человека, обладающего смелостью и воображением, – писал он, – и если такой человек получит – в соответствии с предложением д-ра Эйнштейна – некоторые полномочия для действий по этому вопросу, это, несомненно, было бы важным шагом вперед. Чтобы Вы могли увидеть, чем именно такой человек мог бы помочь нашей работе, позвольте мне привести краткий отчет о предыдущей истории этого дела»[1368]. Следовавший за этим краткий отчет, на самом деле представлявший собой сокращенную и неявно выраженную автобиографию, по сути дела, описывал роль самого Сциларда за семь наполненных событиями месяцев, прошедших с того момента, когда Бор объявил об открытии деления.
Предложение Сциларда было столь же дерзким, сколь и наивным с точки зрения американской бюрократической политики. Кроме того, оно, несомненно, было вершиной его деятельности по спасению мира. К этому времени по меньшей мере венгры верили, что «ужасное военное оружие», как назвал его задним числом Юджин Вигнер, послужит на благо человечества. Вигнер объяснял:
Хотя никто из нас почти не рассказывал об этом [на этом раннем этапе] представителям власти – они и так считали нас прожектерами, – мы надеялись, что создание ядерного оружия послужит не только предотвращению непосредственно грозившей нам катастрофы. Мы понимали, что при наличии атомного оружия никакие две страны не смогут жить в мире друг с другом, если только их вооруженные силы не будут контролироваться общими для всех вышестоящими властями. Мы предполагали, что такой контроль, если он окажется достаточно действенным для предотвращения атомной войны, позволит предотвратить и войны любого другого рода. Эта надежда была почти таким же сильным стимулом наших действий, как и страх стать жертвами вражеской атомной бомбардировки[1369].
Сцилард, Теллер и Вигнер – «венгерские заговорщики»[1370], как называл их в шутку Мерл Тьюв, – надеялись, что то ужасное оружие, к созданию которого они собирались призвать Соединенные Штаты, послужит не только сдерживанию германской агрессии. Они также надеялись на то, что появление урановых бомб может сделать неизбежным установление мирового правительства и мира во всем мире.
Александр Сакс собирался зачитать письмо президенту при следующей встрече с ним. Он считал, что занятые люди видят столько бумаг, что перестают обращать внимание на печатное слово. «Наша общественная система устроена таким образом, – сказал он в 1945 году, выступая перед сенатской комиссией, – что любой политик света белого не видит от типографской краски… Об этом вопросе главнокомандующий и глава нашей страны должен был узнать непременно. Я мог передать ему эти материалы, только встретившись с ним на достаточно долгое время и прочитав их ему, чтобы информация попала ему в уши, а не осталась вокруг глаз, как тушь для ресниц»[1371]. Ему нужен был целый час наедине с Франклином Делано Рузвельтом.
Но история не оставляла Рузвельту ни одной свободной минуты. Захватив Рейнскую область, Австрию и Чехословакию просто явочным порядком, подписав 22 мая Стальной пакт с Италией, а 23 августа – десятилетний пакт о ненападении и нейтралитете с СССР, Адольф Гитлер приказал начать вторжение в Польшу в 4 часа 45 минут утра 1 сентября 1939 года. Началась Вторая мировая война. Германское вторжение осуществлялось силами пятидесяти шести дивизий против тридцати польских, растянутых в тонкую линию вдоль длинной польской границы. Гитлер имел десятикратное превосходство в авиации, в составе которой было множество эскадрилий пикирующих бомбардировщиков «Штука»[1372], и девять бронетанковых дивизий, которым противостояла польская кавалерия, вооруженная саблями и пиками. Нападение на Польшу было «превосходным образцом современного блицкрига, – пишет Уинстон Черчилль, – с тесным взаимодействием наземных сил и авиации на поле боя, с жестокими бомбардировками всех коммуникаций и любых городов, которые казались привлекательной мишенью, с вооружением многочисленной “пятой колонны”, с широкомасштабным использованием шпионов и парашютистов и, прежде всего, с неудержимым напором огромных масс бронетехники»[1373].
Математик Станислав Улам только что вернулся из поездки в Польшу и привез с собой своего шестнадцатилетнего брата Адама, у которого была студенческая виза:
Мы с Адамом жили в гостинице на Коламбус-серкл. Стояла очень жаркая, влажная нью-йоркская ночь. Я спал очень плохо. Наверное, около часа или двух ночи зазвонил телефон. Одурелый и вспотевший, очень неуютно себя чувствуя, я взял трубку и услышал мрачный гортанный голос моего друга, тополога Витольда Гуревича… «Варшаву бомбили, началась война», – сказал он. Так я узнал о начале Второй мировой войны. Он продолжал пересказывать то, что услышал по радио. Я включил свой собственный приемник. Адам спал; я не стал его будить. Эти новости можно было рассказать ему и утром. Наши отец и сестра были в Польше, как и многие другие родственники. В этот момент я внезапно почувствовал, что на мою прошлую жизнь упал занавес, отделивший ее от моего будущего. С тех пор все приобрело другой цвет, другой смысл[1374].
Одним из первых действий Рузвельта было обращение к воюющим сторонам с призывом воздержаться от бомбардировки гражданского населения. Отвращение к бомбежкам городов нарастало в Соединенных Штатах по меньшей мере со времен японской бомбардировки Шанхая в 1937 году[1375]. В марте 1938 года, когда испанские фашисты бомбили Барселону, государственный секретарь Корделл Халл выступил с публичным осуждением их зверств. «Никакая теория войны не может оправдать подобного поведения, – сказал он репортерам. – <…> Мне кажется, что я выражаю мнение всего американского народа»[1376]. В июне сенат принял резолюцию, осуждающую «негуманную бомбардировку гражданского населения»[1377]. По мере приближения войны отвращение стало уступать место стремлению к отмщению; летом 1939 года Герберт Гувер мог призывать к международному запрету бомбардировки городов и в то же самое время заявлять, что «одной из движущих сил непрекращающегося производства самолетов-бомбардировщиков является подготовка к мерам возмездия»[1378]. Бомбардировка была предосудительной, когда бомбил враг. Журнал Scientific American прозревал более мрачную истину: «Хотя… бомбардировка с воздуха остается неизвестным, неопределенным фактором, мир может быть уверен в том, что происходящие сегодня отвратительные зверства – лишь прелюдия к безумным драмам, ожидающим нас в будущем»[1379].
Таким образом, хотя за девять месяцев до этого Рузвельт запросил у конгресса увеличения финансирования производства бомбардировщиков дальнего радиуса действия, в своем обращении к воюющим сторонам от 1 сентября 1939 года он все еще мог выражать благородное негодование миллионов американцев:
Безжалостная бомбардировка с воздуха гражданских лиц в неукрепленных населенных центрах в ходе военных действий, свирепствовавшая в разных концах Земли в течение последних нескольких лет, приведшая к увечьям и гибели тысяч беззащитных мужчин, женщин и детей, вызвала отвращение всех цивилизованных людей и глубоко потрясла нравственное чувство человечества.
Если это бесчеловечное варварство будет применено в период трагического конфликта, на пороге которого сейчас стоит мир, сотни тысяч ни в чем не повинных людей, не несущих ответственности за начавшиеся сейчас военные действия и не принимающие в них даже самого отдаленного участия, потеряют свои жизни. Поэтому я настоятельно призываю сейчас все правительства, которые могут быть вовлечены в этот конфликт, публично подтвердить свою решимость не допустить, ни в каком случае и ни при каких обстоятельствах, применения их вооруженными силами бомбардировки гражданского населения или неукрепленных городов с воздуха при условии, что эти же правила ведения войны будут скрупулезно соблюдаться всеми их противниками. Я требую немедленного ответа[1380].
Великобритания выразила согласие с условиями президента в тот же день. Германия, занятая в тот момент бомбежками Варшавы, присоединилась 18 сентября.
Вторжение в Польшу вынудило Британию и Францию вступить в войну 3 сентября. Рабочее расписание Рузвельта тут же оказалось заполнено до предела. В частности, в начале сентября он работал сверхурочно, добиваясь от сопротивляющегося конгресса пересмотра Закона о нейтралитете на условиях более благоприятных для Британии; даже начать переговоры о встрече с ним Сакс смог только по окончании первой недели сентября.
К сентябрю вновь созданный в Военном министерстве отдел под руководством Курта Дибнера взял под свой контроль все проводившиеся в Германии исследования деления ядра. Дибнер привлек молодого лейпцигского теоретика Эриха Багге, и они вдвоем подготовили секретное совещание для рассмотрения осуществимости проекта создания атомного оружия[1381]. Их полномочия позволяли им привлекать к своей работе любого гражданина Германии, и они использовали их, разослав повестки, получив которые Ханс Гейгер, Вальтер Боте, Отто Ган и некоторые другие выдающиеся старые ученые не могли понять, вызывают ли их в Берлин на консультацию или на действительную военную службу.
На совещании, прошедшем в Берлине 16 сентября, физики узнали, что германская разведка получила информацию об исследованиях урана, начатых за границей, – то есть, видимо, в Соединенных Штатах и Британии. Они обсудили длинную, подробную теоретическую статью Нильса Бора и Джона Уилера под названием «Механизм деления ядер»[1382], опубликованную в сентябре в Physical Review, и в особенности ее заключение, которое Бор и Уилер написали на основе графиков, которые Бор рисовал тем воскресным утром: что 235U, вероятно, является тем изотопом урана, с которым связано деление медленными нейтронами. Подобно Бору, Ган утверждал, что разделение изотопов – дело трудное, если не невозможное. Багге предложил обратиться за разрешением этого спора к Вернеру Гейзенбергу, который был его руководителем в Лейпциге.
Поэтому Гейзенберг присутствовал на втором берлинском совещании 26 сентября и говорил там о двух возможных способах извлечения энергии деления: торможении вторичных нейтронов замедляющим веществом для получения «урановой горелки» или выделения 235U для получения бомбы. Пауль Хартек, гамбургский физик, писавший в Военное министерство в апреле, приехал на второе совещание, вооруженный только что законченной статьей о важности послойного расположения урана и замедлителя во избежание влияния резонансного захвата 238U, – он независимо пришел к той же идее, что и Ферми со Сцилардом в начале июля. Однако в работе Хартека в качестве замедлителя рассматривалась тяжелая вода, хотя Хартек работал у Резерфорда в Кавендишской лаборатории и знал по личному опыту, как дорого обходится производство тяжелой воды – воду, в которой водород заменен на дейтерий, получают путем трудоемкой дистилляции из многих тонн обычной H2O.
На втором совещании Дибнер и Багге очертили «Подготовительный рабочий план организации экспериментов по эксплуатации ядерного деления»[1383]. Гейзенберг должен был возглавить теоретические исследования. Багге должен был измерить сечение столкновений с дейтерием, чтобы определить, насколько эффективно тяжелая вода может замедлять вторичные нейтроны. Хартеку поручалось изучить вопрос разделения изотопов. Остальным было предложено заняться экспериментами по определению других важных ядерных постоянных. Военное министерство взяло под контроль прекрасно оборудованный Институт физики кайзера Вильгельма, окончательно сформированный в 1937 году. Достаточное финансирование было гарантировано.
Германская программа создания атомной бомбы успешно стартовала.
Возможно, она не в меньшей степени осложнялась гуманитарными сомнениями, чем тот проект, который предлагали в Соединенных Штатах венгры. Одним из молодых, но весьма уважаемых немецких физиков, участвовавших в этой работе почти с самого начала, был Карл Фридрих фон Вайцзеккер, сын заместителя министра иностранных дел Германии. В мемуарах, написанных в 1978 году, фон Вайцзеккер вспоминает, как обсуждал с Отто Ганом возможность создания бомбы весной 1939 года. Тогда Ган выступал против секретности – отчасти из соображений научной этики, но отчасти также потому, что ему «казалось, что, если бомба все же будет создана, для всего мира – в том числе и для самой Германии – будет хуже, если она окажется только у Гитлера». Как вспоминает Вайцзеккер, он – подобно Сциларду, Теллеру и Вигнеру – понял в ходе разговоров с другом, «что это открытие неизбежно приведет к радикальному изменению политической структуры мира».
Человек, оказавшийся в начале новой эры, может увидеть ее простейшую основополагающую структуру подобно дальнему пейзажу, освещенному одной-единственной вспышкой молнии. Но дорога к ней темна и запутанна. В то время [т. е. в 1939 году] мы увидели перед собою очень простую логику. Регулярное, многократное ведение войн с использованием атомных бомб, то есть ядерная война как установление, кажется несовместимым с выживанием участвующих в войне стран. Но атомная бомба существует. Она существует в умах некоторых людей. В соответствии с известной из истории логикой вооружения и систем власти она вскоре обретет и физическое осуществление. Если это так, то участвующие в войне страны, а в конечном счете и все человечество смогут выжить только в случае уничтожения войны как таковой[1384].
Возможно, обе стороны действовали из страха друг перед другом. Но некоторые из людей, работавших на обеих сторонах, как это ни парадоксально, также исходили из веры в то, что они подготавливают новую силу, которая в конечном счете принесет мир всему миру.
События сентября становились все более бурными, и Сцилард начал терять терпение. Никаких вестей от Александра Сакса не было. Воспользовавшись прежними предложениями Сакса и своими собственными связями, он договорился с Юджином Вигнером, что тот даст ему рекомендательное письмо к президенту МТИ Карлу Т. Комптону; он снова связался с, возможно, влиятельным бизнесменом, которого некогда заинтересовал холодильным насосом Эйнштейна – Сциларда; он прочитал в газете отчет о речи Линдберга и сообщил Эйнштейну, что авиатор «на самом деле не наш человек»[1385]. Наконец, на последней неделе сентября они с Вигнером посетили Сакса и обнаружили, к своему ужасу, что письмо Эйнштейна все еще находится у экономиста. «Он говорит, что многократно разговаривал с секретарем Рузвельта, – сообщал Сцилард Эйнштейну 3 октября, – и, по его впечатлению, Рузвельт настолько перегружен делами, что было бы разумнее встретиться с ним позднее. Он собирается в Вашингтон на этой неделе». Два венгра были готовы начать все сначала: «Вполне возможно, что Сакс не сможет быть нам полезен. В таком случае мы должны будем поручить дело кому-нибудь другому. Мы с Вигнером решили дать Саксу отсрочку еще на десять дней. После этого я снова напишу Вам и сообщу о положении дел»[1386].
Однако Александр Сакс все-таки поехал в Вашингтон, хотя и не на этой неделе, а на следующей. В среду 11 октября, вероятно, ближе к концу дня[1387], он явился в Белый дом. Помощник Рузвельта генерал Эдвин М. Уотсон, которого в окружении Рузвельта звали «Па», просмотрел материалы Сакса вместе со своими собственными секретарем и военным адъютантом[1388]. Убедившись, что эта информация стоит того, чтобы президент тратил на нее свое время, Уотсон провел Сакса в Овальный кабинет.
«Алекс, – приветствовал его Рузвельт, – что вы там задумали?»[1389]
Сакс любил начинать беседу с президентом с шутки. Его чувству юмора были близки мудреные притчи. Он рассказал Рузвельту историю о молодом американском изобретателе, написавшем письмо Наполеону[1390]. Изобретатель предлагал императору построить флот из судов, не имевших парусов, но позволяющих напасть на Англию в любую погоду. Он утверждал, что сможет доставить армии Наполеона в Англию всего за несколько часов, несмотря на ветры и штормы, и был готов продемонстрировать свои проекты. Наполеон презрительно фыркнул: «Вздор! Ох уж мне эти мечтатели!»[1391]
Этим молодым изобретателем, закончил свой рассказ Сакс, был Роберт Фултон. Рузвельт был смешлив; вероятно, рассмеялся он и в этот раз.
Сакс попросил президента слушать очень внимательно: то, что он хотел ему сообщить, было по меньшей мере так же важно, как предложение, которое сделал Наполеону изобретатель парохода. Рузвельт, еще не готовый слушать, написал записку и вызвал своего помощника. Вскоре помощник вернулся с настоящим сокровищем, тщательно завернутой бутылкой коньяка «Наполеон», хранившейся в семье Рузвельт долгие годы. Президент налил две рюмки, передал одну из них своему гостю, выпил за его здоровье и откинулся в кресле.
В папке, которую Сакс принес Рузвельту для прочтения, были письмо Эйнштейна и сопроводительная записка Сциларда. Но ни один из этих документов не казался ему подходящим для ознакомления занятого президента с новой информацией. «Я не ученый, а экономист, – говорил он друзьям, – но я знал президента и раньше, и Сцилард с Эйнштейном согласились, что именно я мог представить г-ну Рузвельту необходимые научные материалы в понятной для него форме. Никакой физик не смог бы его убедить»[1392]. Поэтому Сакс подготовил свой собственный вариант истории о делении, компиляцию и пересказ содержания писем Эйнштейна и Сциларда. Хотя он оставил их заявления Рузвельту, он не зачитывал их вслух[1393]. Он зачитал не ставшее впоследствии знаменитым письмо Эйнштейна, а свою собственную аннотацию из восьмисот слов, первый авторитетный доклад о возможности использованияядерной энергии для создания военного оружия, поданный главе государства[1394]. Производство энергии стояло в нем на первом месте, получение радиоактивных материалов для применения в медицине – на втором, а «бомбы невообразимых доселе мощности и радиуса действия» – на третьем. В докладе рекомендовалось договориться с Бельгией о поставках урана, а также расширить и ускорить экспериментальные исследования, но предполагалось, что их финансирование предоставит американская промышленность или частные фонды. Для этого Рузвельту предлагалось «назначить человека и комитет, которые станут связующим звеном» между учеными и администрацией.
Сакс намеренно поставил на первое и второе места возможности мирного использования деления[1395]. Чтобы подчеркнуть «неоднозначность» этого открытия, говорил он впоследствии, «два полюса добра и зла»[1396], которые оно воплощало, он упомянул в конце своего доклада прочитанную в 1936 году Фрэнсисом Астоном лекцию «Сорок лет теории строения атома», – она была опубликована в 1938 году в сборнике «Основы современной науки», который Сакс принес с собой в Белый дом, – в которой английский спектроскопист высмеивал «самых старых и обезьяноподобных из наших доисторических предков», которые «возражали против новинок вроде приготовленной на огне пищи и указывали на ужасные опасности, связанные с только что изобретенным использованием огня». Сакс зачитал Рузвельту весь последний абзац лекции, особенно подчеркнув его заключительные предложения:
Я лично думаю, что субатомная энергия несомненно окружает нас повсюду, и однажды человек научится извлекать и контролировать ее почти неограниченную мощь. Мы не можем помешать ему в этом, и нам остается лишь надеяться, что он будет использовать ее не только для того, чтобы взрывать своих соседей[1397].
– Алекс, – сказал Рузвельт, быстро понявший, о чем идет речь, – вы хотите сделать так, чтобы нацисты не смогли нас взорвать.
– Вот именно, – отозвался Сакс.
Рузвельт вызвал Уотсона. «Этим делом необходимо заняться»[1398], – сказал он своему помощнику.
Встретившись после этого с Саксом, Уотсон действовал точно по инструкции. Он предложил созвать комитет, в который изначально входили директор Бюро стандартов, представитель армии и представитель флота. Национальное бюро стандартов[1399], учрежденное постановлением конгресса в 1901 году, – это общегосударственная физическая лаборатория, в задачу которой входит применение науки и технологии в национальных интересах и на общественное благо. В 1939 году его директором был доктор Лайман Дж. Бриггс, получивший ученую степень в Университете Джонса Хопкинса и проработавший в государственных научных учреждениях сорок три года; его кандидатуру на этот пост предложил Герберт Гувер, а утвердил ФДР. Представителями военных были полковник Кит Ф. Адамсон и капитан второго ранга Гилберт К. Гувер; оба они были специалистами по вооружениям.
«Не отпускайте Алекса, пока он не зайдет ко мне еще раз»[1400], – сказал Рузвельт Уотсону. Тем же вечером Сакс встретился с Бриггсом, ознакомил его со своими материалами и предложил организовать ему и двум членам его комитета встречу с физиками, работающими над делением. Бриггс согласился. Сакс снова зашел к президенту и сказал, что удовлетворен. Рузвельту этого было достаточно.
Бриггс созвал первое заседание Консультативного комитета по урану в Вашингтоне в субботу 21 октября. Сакс предложил пригласить эмигрантов; в противовес им Бриггс пригласил Тьюва, который был в этот день занят и прислал вместо себя Ричарда Робертса[1401]. Ферми, все еще обиженный на флот, отказался приехать, но охотно позволил говорить от своего имени Теллеру. В назначенный день венгерские заговорщики позавтракали с Саксом в отеле «Карлтон»[1402]; иногородние участники совещания приехали накануне вечером. Из гостиницы они отправились в Министерство торговли. Всего на заседании присутствовало девять человек: Бриггс, ассистент Бриггса[1403], Сакс, Сцилард, Вигнер, Теллер, Робертс, Адамсон от армии и Гувер от флота.
Прежде всего Сцилард подчеркнул возможность возникновения цепной реакции в уран-графитовой системе[1404]. Будет ли такая система работать, сказал он, зависит от сечения захвата углерода, а оно еще недостаточно точно известно. Если его значение окажется большим, будет понятно, что крупномасштабный эксперимент окончится неудачей. Если это значение чрезвычайно мало, крупномасштабный эксперимент кажется весьма многообещающим. В случае промежуточного значения крупномасштабный эксперимент потребуется для получения более точного ответа. Разрушительную силу урановой бомбы он оценил как эквивалентную целым двадцати тысячам тонн сильнодействующей взрывчатки. Такая бомба, написал он в той записке, которую Сакс передал Рузвельту, должна работать на быстрых нейтронах и может быть «слишком тяжелой для перевозки самолетом»[1405], из чего следует, что он все еще думал о применении природного урана, а не о выделении 235U.
Тут вмешался Адамсон, не скрывавший своего презрительного отношения. «У нас в Абердине, – пренебрежительно сказал он, как вспоминает Теллер, – есть коза, привязанная к колышку трехметровой веревкой, и мы пообещали большой денежный приз любому, кто сможет убить ее лучом смерти. До сих пор претендентов на этот приз не нашлось»[1406]. Что же касается двадцати тысяч тонн взрывчатки, сказал армейский офицер, он однажды стоял возле склада боеприпасов, когда тот взорвался, и его даже не сбило с ног[1407].
После Сциларда выступил Вигнер, который, сдерживаясь, высказался в поддержку доводов своего соотечественника.
Робертс высказал серьезные возражения[1408]. Он считал оптимизм Сциларда относительно цепной реакции преждевременным, а его идею создания оружия на быстрых нейтронах из природного урана – ошибочной. Всего за месяц до этого Робертс участвовал в написании обзорной статьи по этой теме. Авторы статьи были согласны со Сцилардом в том, что «данных, достаточных для однозначного определения возможности создания урановой электростанции, пока нет»[1409]. Но в ней же рассматривался – потому что на ФЗМ начали работать над такой оценкой[1410] – вопрос о делении природного урана быстрыми нейтронами и делался вывод, что, в связи с резонансным захватом и сильным рассеянием быстрых нейтронов, «обеспечение быстрыми нейтронами достаточного числа делений для поддержания [цепной] реакции чрезвычайно маловероятно»[1411].
Физик с ФЗМ сказал также, что другие направления исследования могут оказаться более перспективными, чем цепная реакция на медленных нейтронах в природном уране. Он имел в виду разделение изотопов. В Университете штата Виргиния Джесси Бимс, бывший коллега Эрнеста Лоуренса по Йелю, применял для этого высокоскоростные центрифуги, которые он там разрабатывал. Робертс считал, что получение ответа на эти вопросы может потребовать нескольких лет работы и что на это время исследования следует оставить университетам.
Бриггс выступил в защиту своего комитета[1412]. Он энергично утверждал, что в то время, когда в Европе идет война, любая оценка возможности деления должна касаться не только физики; она должна учитывать потенциальное влияние на развитие национальной обороны.
Сцилард был «поражен», как он сказал на следующий день Пеграму, «активным и воодушевленным»[1413] участием в заседании Сакса. Сакс поддержал Бриггса и венгров. «Вопрос слишком важен, чтобы можно было ждать, – вспоминал он свое выступление, – и важнее всего действовать эффективно, потому что, по сути дела, речь идет об опасности, что нас взорвут. Нам нужно действовать незамедлительно и необходимо победить в этой гонке»[1414].
Затем наступила очередь Теллера. Он лично, заявил он своим низким голосом с сильным акцентом, полностью поддерживает Сциларда. Однако ему также было поручено выступить от имени Ферми и Тьюва, которые обсуждали эти вопросы в Нью-Йорке и пришли к некоторому согласию по ним. «Я сказал, что нам нужна небольшая помощь. В частности, нам нужно приобрести хороший материал для замедления нейтронов, следовательно, нужен чистый графит, а он дорог»[1415]. Работа Джесси Бимса с центрифугами также нуждается в поддержке, добавил Теллер.
«Сколько денег вам нужно?»[1416] – поинтересовался капитан Гувер.
Сцилард не готовился просить денег. «Выделение бюджетных фондов на цели, подобные нашей, казалось почти невозможным, – объяснял он на следующий день Пеграму, – и поэтому лично я воздерживался от любых таких рекомендаций»[1417]. Но Теллер, вероятно говоря от имени Ферми, быстро ответил Гуверу: «На первый год исследований нам нужно шесть тысяч долларов, в основном на покупку графита». «Мои друзья винили меня в том, что великое предприятие атомной энергетики пришлось начинать на такие гроши, – вспоминает Теллер, – они не простили меня и до сих пор»[1418]. Сцилард, писавший Бриггсу 26 октября, что один только графит для крупномасштабного эксперимента обойдется по меньшей мере в 33 000 долларов[1419], должно быть, был в ужасе. Именно такого посягательства на государственные средства и ожидал Адамсон. «В этот момент, – говорит Сцилард, – представитель армии начал довольно пространную тираду»:
Он сказал нам, что полагать, будто бы созданием нового оружия можно внести значительный вклад в оборону, наивно. Он сказал, что после создания нового оружия обычно нужно две войны, чтобы определить, годится ли оно на что-нибудь. Затем он пустился в длинные рассуждения о том, что в конечном счете войны выигрывает не оружие, а боевой дух войск. Он распространялся в этом же ключе весьма долго, как вдруг Вигнер, самый вежливый из нас, перебил его. [Вигнер] сказал своим визгливым голосом, что ему было очень интересно все это услышать. Он всегда считал, что оружие играет очень важную роль, и именно оно стоит больше всего денег, и именно поэтому армии требуются такие большие ассигнования. Но ему было очень интересно узнать, что он ошибался: оказывается, войны выигрывает не оружие, а боевой дух войск. А если это так, то, возможно, следовало бы пересмотреть военный бюджет, и, может быть, его можно было бы урезать[1420].
«Ладно, ладно, – огрызнулся Адамсон, – получите вы свои деньги»[1421].
1 ноября Урановый комитет представил президенту свой отчет. Он был в основном сосредоточен на рассмотрении возможностей применения управляемой цепной реакции «в качестве непрерывно действующего источника энергии для подводных лодок». Кроме того, отмечалось в отчете, «если окажется, что реакция имеет взрывчатый характер, она может стать основой для создания бомб, многократно превосходящих по разрушительной силе всё, известное сейчас». Комитет рекомендовал обеспечить «адекватную поддержку тщательных исследований». В качестве первого шага государство могло бы предоставить четыре тонны чистого графита (это позволило бы Ферми и Сциларду измерить сечение захвата в углероде) и, если впоследствии это будет признано целесообразным, пятьдесят тонн оксида урана[1422].
17 ноября Па Уотсон сообщил Бриггсу о результатах. Президент прочитал отчет, писал Уотсон, и решил приобщить его к делу. В деле он и оставался, безгласно и пассивно, еще долго после начала нового, 1940 года.
Хотя работа Сциларда и Ферми застопорилась, исследование деления продолжалось во многих других американских лабораториях. Например, письмо, написанное Ферми в конце октября[1423], побудило Альфреда Нира наконец начать в Университете Миннесоты подготовку к отделению достаточного количества 235U от 238U при помощи масс-спектрометра, чтобы определить на опыте, в котором из изотопов происходит деление медленными нейтронами[1424]. Но создание урановой бомбы казалось американским физикам и администраторам, как в правительстве, так и вне его, в лучшем случае отдаленной возможностью. Каким бы горячим ни было их сочувствие, эта война все еще оставалась войной европейской.
11
Сечения
Как вспоминает Отто Фриш, когда еще до войны он работал в Гамбурге с Отто Штерном, днем он ставил эксперименты, а потом, до глубокой ночи, напряженно размышлял о физике. «Я приходил домой в одно и то же время, – сказал однажды Фриш в интервью, – ужинал в семь, дремал с четверть часа после ужина, а затем радостно усаживался перед листом бумаги и настольной лампой и работал приблизительно до часу ночи – пока у меня не начинались галлюцинации… Я начинал видеть в своей комнате странных животных, и тогда решал: “Ну ладно, пора спать”». Гипнагогические видения вызывали у молодого австрийца «неприятные ощущения», но в остальном «это была идеальная жизнь. Никогда в жизни мне не было так хорошо, как в эти ежевечерние пять часов напряженной работы»[1425].
Напротив, весной 1939 года, после своих первых экспериментов с делением, Фриш оказался «в состоянии полного уныния. Я чувствовал, что надвигается война. Какой смысл был в продолжении исследований? Я попросту не мог взять себя в руки. Я был в очень плохом состоянии и думал: “Что бы я сейчас ни начал делать, это не принесет никакой пользы”»[1426]. Если его тетку Лизу Мейтнер беспокоила ее изоляция в Стокгольме, Фриша тревожила его собственная уязвимость в Копенгагене. В несвойственной ему манере он начал агитировать коллег, приезжавших из Британии:
Я поговорил сначала с Блэкеттом, а затем с Олифантом, когда они заезжали в Копенгаген, и сказал им, что боюсь, что Гитлер скоро захватит Данию: если это произойдет, будет ли у меня возможность своевременно уехать в Англию, потому что я предпочел бы работать на Англию, чем ничего не делать или оказаться перед необходимостью так или иначе работать на Гитлера или попасть в концлагерь[1427].
Марк Олифант руководил физическим факультетом Бирмингемского университета. Вместо того чтобы затевать сложную программу поддержки, он просто пригласил Фриша приехать летом и обсудить его проблему. «Так что я собрал два маленьких чемодана и поехал туда как обычный турист, на корабле, а потом на поезде»[1428]. Когда началась война, он был в безопасности в Центральной Англии, и из имущества при нем было только содержимое двух маленьких чемоданов. Копенгагенским друзьям пришлось организовывать хранение его вещей и возврат фортепиано, о покупке которого он уже договорился перед отъездом.
Олифант устроил его младшим преподавателем. Оказавшись таким образом в сравнительно надежном положении, Фриш снова начал думать о физике. Его по-прежнему интересовало деление ядра. Для того чтобы непосредственно заняться этим вопросом, нужен был источник нейтронов, которого у него не было. Но он следил за теоретическими работами Бора: в феврале появилось описание различий между характеристиками деления 235U и 238U; в сентябре, когда германское вторжение в Польшу положило начало войне, что вызвало у Фриша «сильнейшее чувство напряженного отрезвления»[1429], – большая статья Бора и Уилера. Был ли прав Бор, считавший, что деление медленными нейтронами происходит в 235U? Фриш разработал способ, позволявший получить ответ на этот вопрос: для этого нужно было подготовить «образец урана с измененным содержанием этих двух изотопов»[1430]. Для этого необходимо было по меньшей мере частично разделить изотопы, как Ферми и Даннинг по той же причине предлагали сделать Ниру. Фриш стал читать о методиках разделения изотопов. Проще всего, решил он, было использовать технику газовой термодиффузии, которую разработал немецкий физикохимик Клаус Клузиус. Из оборудования она не требовала почти ничего, кроме длинной вертикальной трубки, в центре которой устанавливают нагретый продольный стержень. Если наполнить такую трубку материалом, подлежащим разделению, в газообразном виде и охладить стенки трубки водой, то «материал, обогащенный более легким изотопом, будет скапливаться в верхней части трубки… а более тяжелый изотоп будет смещаться вниз»[1431].
Фриш взялся за сборку трубки Клузиуса. Работа шла медленно. Он собирался изготовить трубку из стекла, но работавший в лаборатории стеклодув в первую очередь выполнял заказы для секретного военного проекта Олифанта, о котором Фришу, формально бывшему «враждебным иностранцем»[1432], знать не полагалось. На самом деле два физика, работавшие у Олифанта, Джон Рэндалл и Г. А. Г. Бут, разрабатывали полостной магнетрон – электронную лампу, способную вырабатывать микроволновое излучение высокой интенсивности для наземных и авиационных радаров. По оценке Ч. П. Сноу, это изобретение было «самым ценным английским научным новшеством за время войны с Гитлером»[1433].
Тем временем Британское химическое общество предложило Фришу написать для своего ежегодного отчета обзор достижений экспериментальной ядерной физики. «Мне удалось написать эту статью в моей однокомнатной квартире, в которой днем, при постоянно горящем газовом камине, температура поднималась до +5,5°… а ночью в стакане, стоявшем у меня на тумбочке, замерзала вода». Он надевал зимнее пальто, пододвигал свой стул поближе к огню и ставил пишущую машинку себе на колени. «Тепловое излучение горящего газа стимулировало приток крови к моему мозгу, и статья была готова к сроку»[1434].
Фриш упоминал в своей обзорной статье возможность цепной реакции, но лишь для того, чтобы исключить ее из рассмотрения. Он основывал свой вывод на утверждении Бора, что в природном уране 238U должен рассеивать быстрые нейтроны, замедляя их до энергий резонансного захвата; тех немногих из них, которые избегут захвата, считал он, будет недостаточно для возбуждения цепной реакции на медленных нейтронах в малочисленном 235U. В любом случае, отмечал Фриш, медленные нейтроны смогли бы вызвать лишь взрыв умеренной силы; их торможение и поиски ядра занимают слишком много времени. Впоследствии он объяснял:
Этот процесс должен занимать время порядка заметной части миллисекунды [т. е. тысячной доли секунды], а развитие цепной реакции в целом – несколько миллисекунд; после нагревания материала до температуры парообразования он должен начать расширяться, и реакция должна прекратиться, так толком и не развившись. Такое устройство могло бы взорваться как кучка пороха, но не сильнее, и этим просто не имело смысла заниматься[1435].
Поскольку Фриш не так давно выехал из нацистской Германии, утверждение о невозможности взрывной цепной реакции его успокаивало. Оно опиралось на работу такого крупного теоретика, как Нильс Бор. Фриш с удовольствием опубликовал его.
Это утверждение возникало и раньше, и самым заметным было его появление в письме члена британского парламента Уинстона Черчилля к министру авиации Великобритании от 5 августа 1939 года. Опасаясь, что Гитлер может обмануть Невилла Чемберлена угрозами нового секретного оружия, Черчилль получил необходимую информацию у Фредерика Линдемана и призывал правительство не опасаться появления «новых взрывчатых веществ огромной разрушительной силы», по крайней мере в течение «ближайших нескольких лет». Самые авторитетные ученые, подчеркивал знаменитый парламентарий, ссылаясь на Нильса Бора, считают, что «в этих процессах эффективно участвует компонент, содержащийся в уране лишь в незначительных количествах». Для получения каких-либо крупномасштабных эффектов необходимо трудоемкое извлечение этого компонента. «Цепной процесс может происходить только в случае концентрации большой массы урана, – продолжал Черчилль, несколько запутывая изложение. – Как только начнется выделение энергии, материал взорвется с несильной детонацией еще до того, как смогут возникнуть какие-либо сильные эффекты. Эта система может оказаться такой же сильной, как существующие сейчас взрывчатые вещества, но вряд ли позволит создать что-либо более опасное». В заключение Черчилль оптимистически заявлял: «Хотя будут делаться мрачные намеки и распространяться ужасающие слухи, следует надеяться, что они никого не смогут ввести в заблуждение»[1436].
В этом году Фриш подружился с таким же, как он сам, бирмингемским иммигрантом, теоретиком Рудольфом Пайерлсом. Пайерлс, состоятельный берлинец с мальчишеским лицом, заметно выступающими верхними зубами и строгим математическим умом, родился в 1907 году и приехал в Англию в 1933-м: он получил стипендию Фонда Рокфеллера на работу в Кембридже. Когда нацисты начали чистку германских университетов, он предпочел остаться в Англии. В феврале 1940 года он получил британское гражданство, но до тех пор формально оставался враждебным иностранцем. Когда Олифант время от времени обращался к нему за консультацией по математике резонансных полостей – важного элемента микроволнового радара, – оба старательно делали вид, что обсуждаемые вопросы представляют чисто академический интерес[1437].
Пайерлс уже внес значительный вклад в дискуссию о взрывчатом потенциале деления ядра. В мае того же года Франсис Перрен, один из парижских сотрудников Фредерика Жолио, опубликовал первую формулу для приблизительного расчета критической массы урана – количества урана, необходимого для поддержания цепной реакции[1438]. Кусок урана, масса которого меньше критической, остается инертным; кусок критического размера должен самопроизвольно взорваться, как только будет собран в единое целое.
Возникновение критической массы связано с тем, что площадь поверхности шара[1439] увеличивается с ростом его радиуса медленнее, чем объем (пропорционально r2 и r3 соответственно). При некотором определенном объеме, зависящем от площади материала и от сечений рассеяния, захвата и деления в нем, должна возникнуть ситуация, в которой число нейтронов, попадающих в ядра и вызывающих их деление, превышает число нейтронов, достигающих поверхности и улетающих за нее; такой объем и соответствует критической массе. Оценив несколько сечений природного урана, Перрен получил значение его критической массы, равное сорока четырем тоннам. Если окружить уран отражателем из железа или свинца, возвращающим нейтроны обратно в уран, то, как рассчитал Перрен, необходимую массу можно уменьшить до всего лишь тринадцати тонн.
Пайерлс сразу же увидел, что может улучшить формулу Перрена. Он сделал это в теоретической работе, которую он написал в мае и начале июня 1939 года и опубликовал в «Материалах» Кембриджского философского общества в октябре[1440]. Поскольку формула критической массы, основанная на делении медленными нейтронами, была бы слишком сложной математически, Пайерлс предложил рассмотреть «упрощенный случай»: деление незамедленными быстрыми нейтронами. При подстановке сечения деления природного урана, по сути соответствующего сечению деления 238U, получалась критическая масса, как отмечал Пайерлс, «порядка нескольких тонн». Объект такого размера было бы нереально использовать в качестве оружия. «Разумеется, никаких шансов погрузить такой предмет в самолет не было, и статья, по-видимому, не имела никакого практического значения»[1441]. Пайерлс знал о существовавших в Британии и Америке соображениях секретности, но в данном случае не видел препятствий к публикации.
В конце ноября начался военный конфликт между СССР и Финляндией. В остальной Европе царило необычное противостояние, которое сенатор-изоляционист от штата Айдахо Уильям Бора назвал «странной войной». Пайерлсы переехали в более просторный дом; в начале нового года они великодушно пригласили Фриша поселиться у них. Женя Пайерлс[1442], происходившая из России, быстро прибрала холостого австрийца к рукам. Она «заправляла домом, – пишет Фриш, – с умом и жизнерадостностью, при помощи звонкого голоса с манчестерским акцентом и надменного русского пренебрежения определенными артиклями. Она приучила меня бриться каждый день и вытирать посуду с той же скоростью, с которой она ее мыла. С тех пор это умение неоднократно мне пригодилось»[1443]. Жизнь у Пайерлсов была увлекательной, но Фриш ходил домой с работы во время зловещих затемнений, в такой темноте, что иногда спотыкался об уличные скамейки и замечал других пешеходов только благодаря светящимся карточкам, которые все носили в это время на своих шляпах. Это напоминало о непрерывно существовавшей угрозе германских бомбардировок, и он то и дело ловил себя на сомнениях в том уверенном выводе, который сделал в своем обзоре для Химического общества: «Правда ли то, что я там написал?»[1444]
Где-то в феврале 1940 года он снова проверил свои выводы. Всего существовало четыре возможных механизма взрывной цепной реакции в уране:
1) деление 238U медленными нейтронами;
2) деление 238U быстрыми нейтронами;
3) деление 235U медленными нейтронами и
4) деление 235U быстрыми нейтронами.
Логически найденное Бором отличие 238U и тория от 235U исключало механизм № 1: 238U не делился под воздействием медленных нейтронов. Механизм № 2 был неэффективным из-за рассеяния и паразитных эффектов резонансного захвата в 238U. Механизм № 3 потенциально можно было использовать для производства энергии, но для практического оружия он был слишком медленным. А как насчет механизма № 4? По-видимому, никто в Британии, Франции или Соединенных Штатах до сих пор не задавался этим вопросом всерьез.
Если Фришу удалось теперь заглянуть в эту бездну, это произошло потому, что он тщательно изучил вопрос разделения изотопов и решил, что оно может быть осуществлено даже с таким трудноуловимым изотопом, как 235U. Поэтому он был готов рассмотреть поведение этого вещества в чистом виде, без примесей 238U, в отличие от Бора, Ферми и даже Сциларда. «Я задумался вот о чем: если бы моя сепараторная трубка Клузиуса действительно заработала, – можно ли, используя несколько таких трубок, выделить уран-235 в количестве, достаточном для получения действительно взрывной цепной реакции, не зависящей от медленных нейтронов? И какое количество этого изотопа для этого нужно?»[1445]
Он рассказал об этой задаче Пайерлсу. У Пайерлса была формула критической массы. В этом случае в нее нужно было подставить сечение деления 235U быстрыми нейтронами, величины которого никто не знал, потому что никто еще не выделил достаточного количества этого редкого изотопа, чтобы определить его сечение на опыте – а только так и можно было получить достоверное значение. Тем не менее, говорит Пайерлс, «мы прочитали статью Бора и Уилера и разобрались в ней, и она, по-видимому, убеждала нас, что в этих обстоятельствах в сечении нейтронных процессов в 235U должно доминировать деление». Пайерлс смог сформулировать вывод из этого положения в весьма простых словах: «Если нейтрон попадает в ядро [235U], что-то непременно произойдет»[1446].
Тогда было интуитивно понятно, каким должно быть сечение: более или менее таким же, как известное сечение, выражающее вероятность того, что в ядро урана вообще попадет какой-либо нейтрон, – геометрическое сечение, 10–23 см2 [1447], на целый порядок величины больше, чем полученные ранее оценки сечений деления в природном уране, который лишь в несколько раз превышали 10–24.
«Как бы играя»[1448], – пишет Фриш, он подставил 10–23 см2 в формулу Пайерлса. «К моему удивлению, [ответ] оказался гораздо меньше, чем я ожидал; речь шла не о тоннах, а о чем-то вроде одного-двух фунтов»[1449]. Для такого тяжелого вещества, как уран, это соответствует объему меньшему чем мяч для гольфа.
Но взорвется ли такая масса, или же тихо выгорит? Пайерлс легко получил оценку. Цепная реакция должна развиваться быстрее, чем идет испарение и расширение нагревающегося металлического шара. Пайерлс вычислил, что время, проходящее между двумя последовательными поколениями нейтронов в цепочке 1 2 4 8 16 32 64…, составляет около четырех миллионных секунды[1450], то есть этот процесс идет гораздо быстрее, чем деление медленными нейтронами, для которого Фриш получил оценку порядка нескольких тысячных секунды.
В таком случае насколько разрушительным будет взрыв? Появление около восьмидесяти поколений нейтронов – приблизительно такое их число может появиться до того, как нарастающий взрыв разнесет атомы 235U на слишком большое для продолжения цепной реакции расстояние, – за суммарное время, все еще составляющее миллионные доли секунды, дает температуру, сравнимую с температурами внутри Солнца, и давление, большее, чем в центре Земли, где железо течет как жидкость. «Я рассчитал, каким должен быть такой ядерный взрыв, – говорит Пайерлс. – Результаты расчетов потрясли нас обоих»[1451].
И наконец, практический аспект: можно ли отделить от 238U хотя бы несколько килограммов 235U? Фриш пишет:
Я прикинул возможную производительность своей сепараторной системы при помощи формулы Клузиуса, и мы пришли к выводу, что, имея что-нибудь порядка сотни тысяч аналогичных сепараторных трубок, можно произвести фунт достаточно чистого урана-235 за вполне скромное время, измеряемое неделями. Тут мы посмотрели друг на друга и поняли, что атомная бомба все-таки может быть осуществима[1452].
«Стоимость такой установки, – добавляет Фриш, чтобы проиллюстрировать масштабы этой возможности, – была бы незначительной по сравнению со стоимостью ведения войны»[1453].
«Послушайте, не нужно ли кому-нибудь об этом сообщить?»[1454] – спросил тогда Фриш Пайерлса. Они поспешили рассказать о своих расчета Марку Олифанту. «Они меня убедили»[1455], – свидетельствует Олифант. Он попросил их записать все это.
Они так и сделали и составили две лаконичные записки: одна из них занимала три машинописные страницы, другая была еще короче. Разговоры на эту тему их нервировали, вспоминает Пайерлс (к тому времени уже начался март, и необычайные холода уступили место более теплой погоде):
Мы не решились доверить этот документ машинистке. Мы напечатали его сами, а точнее, напечатал его я, поскольку у меня была пишущая машинка и я умел с ней обращаться. Когда мы работали над меморандумом в моем кабинете в одноэтажном здании Наффилдской лаборатории, произошел занятный случай. Стоял теплый весенний день, и окно кабинета было открыто. Когда мы обсуждали формулировки этого документа, в окне, словно ниоткуда, вдруг появилась чья-то голова. Мы были ошеломлены. Однако «шпион» оказался лаборантом, который посадил вдоль южной стены лаборатории несколько кустов помидоров и в свободную минуту ухаживал за ними. На наш разговор он, разумеется, не обратил никакого внимания[1456][1457].
Первую часть своей записки они озаглавили «О создании “сверхбомбы” на основе цепной ядерной реакции в уране» (On the construction of a ‘superbomb’; based on a nuclear chain reaction in uranium)[1458]. Ее целью было, как они писали, «обозначить и обсудить возможность, которая, по-видимому, была упущена из виду в… предыдущих обсуждениях»[1459]. Затем они описывали то же, о чем до этого говорили наедине, отмечая, что «энергия, высвобожденная 5-килограммовой бомбой, должна быть эквивалентна энергии нескольких тысяч тонн динамита». Они описали простой механизм приведения такого оружия в действие: урановый шар можно сделать разделенным на две части, «которые сводят вместе, когда требуется произвести взрыв. После соединения частей бомба должна взорваться в течение секунды или менее»[1460]. Для сближения двух полушарий, по их мнению, можно было использовать пружины. Сближение частей бомбы должно происходить быстро, чтобы избежать преждевременного запуска цепной реакции, которая приведет к разрушению самой бомбы, но не уничтожит почти ничего, кроме нее. В качестве побочного продукта взрыва – на который, по их расчетам, уйдет около 20 % его энергии, – должно возникнуть излучение, эквивалентное излучению «сотен тонн радия», «смертельное для живых существ в течение долгого времени после взрыва». Эффективная защита от такого оружия должна быть «практически невозможна».
Вторая записка, «Меморандум о свойствах радиоактивной “сверхбомбы”» (Memorandum on the properties of a radioactive «super-bomb»)[1461], была документом менее техническим, по-видимому задуманным в качестве альтернативного материала для неспециалистов. Помимо технических вопросов конструирования и производства оружия в ней рассматривались стратегические аспекты обладания им и его применения; она получилась одновременно невинной с виду и необычайно прозорливой:
1. Сверхбомба должна быть оружием, от которого практически невозможно защититься. Нельзя ожидать, чтобы какие-либо материалы или конструкции были способны противостоять силе взрыва…
2. В связи с распространением радиоактивных веществ по ветру применение бомбы, вероятно, невозможно без гибели многочисленного гражданского населения, и это может сделать такое оружие непригодным для использования нашей страной…
3. …Вполне вероятно, что Германия разрабатывает это оружие…
4. Если предположить, что Германия обладает или будет обладать этим оружием, следует понимать, что не существует укрытий, которые обеспечивали бы действенную защиту от него и могли бы быть использованы в крупных масштабах. Наиболее действенной мерой была бы встречная угроза применения аналогичного оружия.
Таким образом, уже в первые месяцы 1940 года двум вдумчивым наблюдателям было ясно, что ядерное оружие будет оружием массового уничтожения, единственной защитой от которого, по-видимому, может быть сдерживающий эффект обоюдного обладания им.
Фриш и Пайерлс закончили свои два отчета и отнесли их Олифанту. Он тщательно расспросил их обоих, добавил к их меморандумам свое сопроводительное письмо («Я внимательно рассмотрел эти предположения и подробно обсудил их с авторами, в результате чего пришел к выводу, что это дело заслуживает весьма серьезного внимания, хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что противная сторона не занята в настоящее время созданием такой бомбы»)[1462], и отправил это письмо вместе с остальными документами Генри Тизарду, химику, оксфордскому выпускнику и главному инициатору развития радаров в Британии. Он был гражданским и стал председателем Комитета по изучению средств противовоздушной обороны (CSSAD) – более известного как Комитет Тизарда и бывшего в то время главным из британских комитетов, занимавшихся военным применением научных разработок.
«Меня часто спрашивают, – писал Отто Фриш через много лет после того момента, когда он наконец осознал возможность создания бомбы, после чего они с Пайерлсом поделились этой информацией с Марком Олифантом, – почему я прямо тогда не прекратил этот проект, никому ничего не сказав. Зачем затевать проект, который в случае успеха закончится созданием оружия беспрецедентной разрушительной силы, оружия массового поражения, подобного которому мир еще не видел? Ответ был очень прост. У нас шла война, а идея эта была достаточно очевидной. Было очень вероятно, что какие-нибудь немецкие ученые уже пришли к этой же идее и работали над нею»[1463].
То, что смогли придумать ученые одной воюющей страны, могут придумать и ученые другой – придумать и сохранить в тайне. Так еще в 1939–1940 годах началась гонка ядерных вооружений. Ответственные люди, испытывавшие обоснованный и понятный страх перед опасным врагом, видели зловеще искаженное отражение своих собственных идей. Идеи, казавшиеся в дружеских руках защитными, представлялись агрессивными в руках врага. Однако это были одни и те же идеи.
Вернер Гейзенберг отослал свои взвешенные выводы в германское Военное министерство 6 декабря 1939 года: Ферми и Сцилард дожидались в это время шести тысяч долларов, которые Урановый комитет Бриггса выделил им на исследования графита, а Фриш готовил свой пессимистический обзор для Химического общества. Гейзенберг полагал, что для производства энергии можно использовать деление даже в обычном уране, если удастся найти подходящий замедлитель. Вода для этого не подходит, но «с другой стороны, судя по имеющимся данным, тяжелой воды [или] высокочистого графита должно быть достаточно». Самый надежный путь к созданию реактора, писал Гейзенберг, «лежит через обогащение изотопа урана-235. Чем выше будет степень обогащения, тем меньшего размера реактор может быть построен». Обогащение – увеличение соотношения содержания 235U и 238U – также является «единственным способом получения взрывчатых веществ, мощность которых на несколько порядков величины превосходит мощность самых сильных из известных до сих пор типов взрывчатки»[1464]. Эта фраза свидетельствует о том, что Гейзенберг осознал возможность деления быстрыми нейтронами даже раньше, чем Фриш и Пайерлс.
В это же время Пауль Хартек создавал в Гамбурге сепараторную трубку Клузиуса; в декабре он испытал ее, успешно разделив изотопы тяжелого газа ксенона. На Рождество он поехал в Мюнхен, чтобы обсудить усовершенствования ее конструкции с Клузиусом, который был профессором физической химии в тамошнем университете. В январе 1940 года компания Auer, специализировавшаяся на тории и производившая сетки для газовых фонарей и радиоактивную зубную пасту, поставила Военному министерству первую тонну чистого оксида урана, полученного из добытой в Иоахимстале руды. Исследования урана в Германии процветали.
Получение подходящего замедлителя казалось делом более трудным. Немецкие ученые предпочитали тяжелую воду, но в Германии не было собственного завода по ее производству. В начале года Хартек рассчитал, что установке на угольном топливе потребуется для производства каждой тонны тяжелой воды 100 000 тонн угля; в военное время такой расход был невозможен. Единственным в мире крупным источником тяжелой воды был электрохимический завод, построенный на крутом 500-метровом гранитном утесе у мощного водопада в Веморке, расположенного рядом с городом Рьюкан на юге Норвегии, километрах в ста пятидесяти к западу от Осло. Норвежская гидроэлектрическая азотная компания (Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab или, сокращенно, Norsk Hydro) производила эту редкую жидкость в качестве побочного продукта электролиза водорода для получения синтетического аммиака[1465].
Германский химический картель I. G. Farben, созданный в 1920-х годах Карлом Дуйсбергом из компании Bayer, владел акциями Norsk Hydro. Узнав о нужде Военного министерства, он обратился к норвежцам с предложением купить все наличные запасы тяжелой воды, около двухсот литров стоимостью около 120 000 долларов, и разместить новый заказ объемом не менее ста двадцати литров в месяц. Завод Norsk Hydro производил тогда менее двенадцати литров в месяц, чего хватало для насыщения небольшого довоенного рынка, состоявшего из физических лабораторий. Компания поинтересовалась, зачем Германии такое огромное количество. Концерн I. G. Farben уклонился от ответа. В феврале норвежская фирма отказалась как продавать имевшиеся у нее запасы, так и увеличивать производство.
Тяжелая вода интересовала и французов, о чем Жолио сообщил министру вооружений Франции Раулю Дотри. Когда Дотри услышал о попытках немцев скупить запасы Norsk Hydro, он решил, что вода должна достаться Франции. Контрольный пакет акций норвежской компании принадлежал французскому банку Banque de Paris et des Pays Bas[1466], а один из бывших служащих этого банка, Жак Алье, служил теперь в министерстве Дотри в чине лейтенанта[1467]. 20 февраля Дотри проинструктировал лысеющего, очкастого Алье в присутствии Жолио: министр хотел, чтобы лейтенант возглавил группу французских тайных агентов, которая отправлялась в Норвегию за тяжелой водой.
В начале марта Алье пробрался в Осло под вымышленным именем и встретился с генеральным директором Norsk Hydro. Французский офицер был готов заплатить за тяжелую воду до полутора миллионов крон и даже оставить половину ее немцам, но, как только норвежец узнал, каким военным целям может послужить это вещество, он предложил выдать все свои запасы и отказался от платы. Вскоре после этого, темной ночью, воду, разлитую в двадцать шесть канистр, вывезли из Веморка на автомобиле. Из Осло группа Алье отправила ее по воздуху в Эдинбург – германские истребители принудили к посадке для досмотра самолет, в который, как считали немцы, сел при первой погрузке Алье, но он оказался частью отвлекающего маневра, – откуда ее перевезли по железной дороге и паромом через Ла-Манш в Париж, где Жолио в течение всей зимы и весны «странной войны» готовился использовать ее в экспериментах с однородными и разнородными оксидами урана.
В Советском Союзе ядерные исследования ограничивались в этот период искусными лабораторными работами. В июне 1940 года два сотрудника советского физика Игоря Курчатова сообщили в Physical Review, что наблюдали редкое спонтанное деление урана[1468]. «Полное отсутствие реакции на публикацию этого открытия со стороны американцев, – пишет американский физик Герберт Ф. Йорк, – было одним из факторов, убедивших русских в том, что в Соединенных Штатах, вероятно, разрабатывается большой секретный проект»[1469]. На самом деле проект этот еще не был большим, но уже начал к этому времени становиться секретным.
В Японии исследования, направленные на создание атомной бомбы, раньше всего начались в армии[1470]. Директор Исследовательского института авиационных технологий японской Императорской армии генерал-лейтенант Такео Ясуда[1471], бывший талантливым инженером-электротехником, внимательно следил за международной научной литературой по своей специальности. Читая журналы в 1938 и 1939 годах, он заметил открытие деления ядра и стал следить за новостями в этой области. В апреле 1940-го, предвидя возможные последствия деления, он приказал своему адъютанту подполковнику Тацусабуро Судзуки, имевшему естественно-научное образование, подготовить полный отчет. Судзуки с энтузиазмом взялся за дело.
В начале мая 1939 года Нильс Бор вернулся из Принстона в Копенгаген, озабоченный надвигающимся европейским апокалипсисом. Друзья уговаривали его остаться в Соединенных Штатах и вывезти туда же семью. Однако он даже не колебался. Он был нужен беженцам, все еще спасавшимся из Германии, а теперь – и из Центральной Европы; он был нужен институту; он был нужен Дании. 31 мая Гитлер предложил Скандинавским странам отказаться от нейтралитета и заключить с Германией пакты о ненападении. Это предложение приняли только прагматичные датчане, хорошо сознававшие, что такой пакт ничего не стоит и даже унижает их, но не желавшие победы на словах, которая на деле привела бы к вторжению. Осенью, когда Джон Уилер предложил одному из сыновей Бора убежище в Принстоне, Бор попросил оставить за ним право воспользоваться этим предложением, если потребность в этом возникнет в будущем. «Мы знаем, что катастрофа может случиться в любой момент»[1472], – написал он в разгар агонии Польши.
В Дании катастрофа случилась лишь в апреле 1940 года, и разразилась она грубо и эффективно. Бор читал лекции в Норвегии. Британия объявила о своем намерении заминировать норвежские прибрежные воды, чтобы помешать отправке норвежской железной руды в нацистскую Германию. В последний вечер своего лекционного тура, 8 апреля, бор ужинал с королем Норвегии Хаконом VII и нашел короля и правительство в кромешном унынии в ожидании германского нападения. После ужина он сел в ночной поезд в Копенгаген. Ночью вагоны переправлялись железнодорожным паромом через пролив Эресунн в Хельсингёр; пассажиры спали. Их разбудили стуком в двери купе датские полицейские, сообщившие им новости: Германия вторглась не только в Норвегию, но и в Данию. Ранним утром две тысячи германских солдат, которые прятались на угольных баржах, пришвартованных у копенгагенского пирса Лангелиние, рядом с которым стоит скульптура андерсеновской Русалочки, высадились на берег так неожиданно, что рабочие, ехавшие мимо на своих велосипедах с ночной смены домой, подумали, что там снимается кино. Крупные германские силы также выдвинулись на север через Шлезвиг-Гольштейн и вступили на территорию Дании, перейдя границу перед рассветом. В воздухе господствовали германские самолеты с черными крестами. Германские боевые корабли контролировали проливы Каттегат и Скагеррак, открывающие доступ из Северного моря к Дании и Южной Норвегии.
Норвежцы оказали сопротивление, стремясь дать королю, двору и парламенту возможность бежать в изгнание. Датчане, в равнинной стране которых не было никаких препятствий для танкового наступления, не сопротивлялись. Ранним утром на улицах Копенгагена раздался было треск ружейной стрельбы, но король Христиан X распорядился о немедленном прекращении огня, которое вступило в силу в 6:25 утра. К тому времени, когда поезд Бора прибыл в столицу, операция, которую Черчилль назвал жестоким нападением[1473], была завершена. Улицы Копенгагена были усеяны зелеными листовками с призывами к сдаче, король готовился принять наальника германского штаба. Датское сопротивление во время войны было целеустремленным и действенным, но оно принимало формы менее самоубийственные, чем прямое столкновение с вермахтом.
Американское посольство быстро сообщило, что может гарантировать безопасный переезд семьи Бор в Соединенные Штаты. Но Бор снова остался верен долгу. Первоочередной его заботой было сожжение дел Комитета по делам беженцев, помогшего бежать сотням эмигрантов. «Для Нильса Бора было очень типично, – пишет его сотрудник Стефан Розенталь, – что первым делом он связался с канцлером университета и другими датскими властями, чтобы обеспечить защиту тех сотрудников института, которые могли опасаться преследований со стороны немцев»[1474]. Речь в первую очередь шла о поляках, но, кроме того, в разговоре с руководителями правительства Бор убеждал их в необходимости согласованного сопротивления датчан любым попыткам Германии установить в Дании антисемитские законы.
В день оккупации он даже нашел время позаботиться о больших золотых нобелевских медалях, которые оставили ему на хранение Макс фон Лауэ и Джеймс Франк. Вывоз золота из Германии был тяжким уголовным преступлением, а на медалях были выгравированы имена лауреатов. Дьёрдь де Хевеши придумал эффективное решение этой проблемы: он растворил каждую из медалей в отдельной банке с кислотой[1475]. Не помеченные этикетками банки с черной жидкостью благополучно простояли всю войну на полке в лаборатории. Впоследствии Нобелевский фонд заново отлил медали и вернул их законным владельцам[1476].
Завод Norsk Hydro был одной из главных целей германского вторжения, и вокруг Рьюкана шли тяжелые бои; город продержался до 3 мая и сдался последним из населенных пунктов Южной Норвегии. Руководство компании помимо своей воли вынуждено было сообщить Паулю Хартеку, что оборудование по производству тяжелой воды, веморкскую установку усиленного обогащения, можно расширить с увеличением объемов производства идеального замедлителя нейтронов до полутора тонн в год[1477].
«Я хотел бы, – писал Генри Тизард Марку Олифанту, изучив меморандумы Фриша и Пайерлса, – в скором времени созвать совсем небольшой комитет, который решал бы, что нужно сделать, кто должен это сделать и где это следует делать, и мне кажется, что Вы, Томсон и, скажем, Блэкетт могли бы составить достаточное ядро такого комитета»[1478]. Говоря о Томсоне, он имел в виду Дж. П. Томсона, сына Дж. Дж., того самого физика из Имперского колледжа, который в предыдущем году заказал для исследований тонну оксида урана и стеснялся абсурдности своего заказа. Он заключил тогда, проведя эксперименты с бомбардировкой урана нейтронами, что возникновение цепной реакции в природном уране маловероятно, и, следовательно, военное применение урана нецелесообразно. Тизард, изначально относившийся к этому вопросу скептически и видевший в выводах Томсона подтверждение правоты своего скептицизма, назначил Томсона председателем этого маленького комитета; к его составу добавились Джеймс Чедвик, работавший теперь в Ливерпуле, его ассистент Ф. Б. Мун и ученик Резерфорда Джон Дуглас Кокрофт. Блэкетт был занят другой оборонной работой, хотя впоследствии и он присоединился к комитету. Первая неофициальная встреча этой группы прошла в помещении Королевского общества в Берлингтон-хаусе 10 апреля.
Вероятно, комитет собрался не только для обсуждения работы Фриша и Пайерлса, но и чтобы выслушать вездесущего Жака Алье из парижского банка и французского Министерства вооружений. Алье предупредил британцев об интересе, который Германия проявляет к производству тяжелой воды, и призвал к сотрудничеству Британии и Франции в области ядерных исследований. Только после этого, отмечает Томсон в протоколе, который он вел, они заговорили о «возможности разделения изотопов… и согласились, что существуют достаточные основания для проведения экспериментов малого масштаба с гексафторидом урана [газообразным соединением урана]». Они довольно неделикатно предложили напомнить Фришу о необходимости избегать «любой возможной утечки информации с учетом интереса, проявленного немцами»[1479]. Они были готовы известить его о том, что его меморандум рассмотрен, но не сообщать ему каких-либо подробностей. Судя по всему, имени Пайерлса Томсон еще не заметил, а Тизард, по-видимому, не показал остальным вторую записку Пайерлса и Фриша. «Хотя в начале этого проекта у нас было больше скепсиса, чем веры, – признавал комитет впоследствии, – мы чувствовали, что эту тему необходимо было рассмотреть»[1480]. Этот скепсис ясно виден из составленного Томсоном протокола. В свою очередь, Тизард написал брату Линдемана Чарльзу, бывшему научным советником британского посольства в Париже, что французы, по его мнению, «излишне взволнованы»[1481] угрозой германских ядерных исследований. «Я по-прежнему… считаю вероятность создания чего-либо, имеющего реальную военную ценность, очень низкой»[1482], – говорил он в записке, отправленной на той же неделе в британский Военный кабинет.
Возможно, такое начало было не менее малообещающим, чем первое заседание Уранового комитета Бриггса, но члены комитета Томсона были активно работающими, компетентными физиками, а не военными артиллеристами, и, каков бы ни был их исходный скептицизм, они понимали, откуда взялись цифры, которые использовали Фриш и Пайерлс, и что они могут означать. На втором заседании, 24 апреля, как лаконично отмечает Томсон, «д-р Фриш представил заметки, демонстрирующие осуществимость урановой бомбы»[1483]. Много лет спустя Олифант вспоминал более живую реакцию: «Большинство членов комитета было потрясено этой возможностью». Помогло и благоприятное мнение Чедвика. Когда он увидел меморандум Фриша и Пайерлса, он только что начал самостоятельно исследовать деление быстрыми нейтронами на своем новом ливерпульском ускорителе, первом в Англии. На заседании 24 апреля он с некоторой досадой подтвердил ценность работы иммигрантов: ему «было неловко признаться, – говорит Олифант, – что он еще раньше пришел к аналогичным выводам, но посчитал преждевременным сообщать о них, пока эксперименты не дадут большей информации о нейтронных сечениях. Пайерлс и Фриш использовали расчетные значения. Однако это подтверждающее свидетельство заставило комитет обратить более серьезное внимание на развитие методов… разделения»[1484].
Чедвик согласился провести необходимые исследования. Фриша и Пайерлса не допускали к их собственным секретам еще в течение нескольких недель, пока Томсон не принял к сведению возмущение, которое они высказывали Олифанту. Но работа над созданием бомбы, основанной на цепной реакции в уране, началась всерьез, и на этот раз она получила тот – приоритетный – статус, которого заслуживала.
Сцилард был раздражен. Несколько месяцев после первого заседания Уранового комитета стали «самым странным периодом моей жизни». Никто не звонил. «Из Вашингтона не было никаких вестей… Я предполагал, что, как только мы продемонстрируем, что при делении урана происходит испускание нейтронов, заинтересовать всех этой проблемой будет нетрудно; но я ошибался»[1485]. Действительно, отчет Уранового комитета от 1 ноября застрял в бумагах Рузвельта; в начале февраля 1940 года Уотсон решил наконец, уже по собственной инициативе, вновь запустить его в оборот[1486]. Он спросил Лаймана Бриггса, не хочет ли тот что-нибудь к нему добавить. Бриггс доложил о произведенном наконец переводе 6000 долларов на работу Ферми по поглощению нейтронов в графите. Бриггс назвал это исследование «предприятием ключевого зачения»; он предполагал, что оно позволит определить, «может ли все предприятие иметь практическое применение»[1487]. Он предложил подождать результатов.
Однако очередной всплеск активности Сциларда спровоцировала не скаредная тактика Бриггса. Всю зиму Сцилард готовил скрупулезное теоретическое исследование под названием «Разветвляющиеся цепные реакции в системах, состоящих из урана и углерода» (Divergent chain reactions in systems composed of uranium and carbon)[1488]; слово «разветвляющиеся» означало в данном случае такие реакции, которые, начавшись, непрерывно множатся (в первой сноске статьи, помеченной номером 0, стояла ссылка на «Освобожденный мир» Г. Дж. Уэллса [1913]). В начале нового года группа Жолио сообщила об эксперименте с ураном и водой, в котором «по-видимому, удалось так близко подойти к возникновению цепной реакции, – говорит Сцилард, – что, по моему мнению, некоторое усовершенствование системы путем замены воды на графит позволило бы нам преодолеть это препятствие». Он договорился с Ферми встретиться за обедом и обсудить французскую статью. «Я спросил его: “Вы читали статью Жолио?” Он ответил, что читал. “И что вы о ней думаете?” – спросил я. “Ничего особенного”, – ответил Ферми». Сцилард пришел в ярость. «После этого я решил, что продолжать разговор бессмысленно, и ушел домой»[1489].
Он еще раз съездил в Принстон к Эйнштейну. Они составили еще одно письмо и отослали его Саксу за подписью Эйнштейна. В письме обращалось особое внимание на секретные исследования урана в Институтах кайзера Вильгельма в Германии, о которых они узнали от физикохимика Петера Дебая, лауреата Нобелевской премии 1936 года по химии и директора химического института в Далеме, недавно изгнанного в Соединенные Штаты (формально он считался в отпуске) за то, что он отказался сменить свое голландское гражданство на гражданство нацистского рейха. Сакс переслал письмо Эйнштейна Уотсону для передачи ФДР. Но Уотсон решил, что сначала было бы разумно согласовать этот вопрос с Урановым комитетом. Ответ Адамсона повторял мнение Бриггса: все зависит от результатов измерений графита в Колумбийском университете. Уотсон предложил подождать получения официального отчета. Сакс, видимо, не согласился; 5 апреля Рузвельт написал назойливому экономисту, что «самое удобное средство продолжения этих исследований»[1490] – это комитет Бриггса, но предложил при этом созвать еще одно заседание комитета, на котором Сакс мог бы присутствовать. Бриггс послушно назначил его на субботу 27 апреля.
Тем временем в дело вмешались другие события. В Университете Миннесоты Альфред Нир стал работать над подготовкой пригодных к измерениям образцов 235U и 238U, как снова попросил его в своем письме Ферми. Джон Даннинг прислал ему гексафторид урана, чрезвычайно едкое соединение, существующее при комнатной температуре в форме белого твердого вещества, но превращающееся в газ при нагревании до температуры около 60 °C[1491]. «Я работал с этим веществом в течение пары месяцев в конце 1939 года», – вспоминает Нир. К сожалению, газ был слишком летучим; как Нир ни старался откачивать его вакуумным насосом, тот просачивался по метровой стеклянной трубке спектрометра и загрязнял пластины коллектора:
В конце концов я сказал: «Так дело не пойдет». В феврале 1940 года был сделан новый прибор, на что ушло около 10 дней. Наш стеклодув сделал для меня трубку масс-спектрометра, согнутую в форме подковы; металлические части я изготовил сам. В качестве источника урана я взял менее летучие тетрахлорид и тетрабромид урана, оставшиеся от [его более ранних] гарвардских экспериментов. Первое успешное разделение 235U и 238U было произведено 28 и 29 февраля 1940 года. Год был високосный, и после обеда в пятницу 29 февраля я приклеил маленькие образцы [собранные на никелевой фольге] на полях написанного от руки письма и часов около шести отнес его на почтамт Миннеаполиса. Письмо было отправлено срочной авиапочтой и прибыло в Колумбийский университет в субботу. Ранним утром в воскресенье меня разбудил междугородний звонок – звонил Джон Даннинг [который проработал всю ночь, бомбардируя образцы нейтронами, полученными из циклотрона Колумбийского университета]. Опыты с образцами в Колумбийском университете ясно показали, что деление ядер урана медленными нейтронами происходит именно в 235U[1492].
Этот опыт подтвердил гипотезу Бора, но также и усилил сомнения Бриггса в ценности природного урана; «весьма сомнительно, – сообщал он Уотсону 9 апреля, – возможно ли получение цепной реакции без отделения изотопа 235 от остального урана»[1493]. Нир, Даннинг и их сотрудники Юджин Т. Бут и Аристид фон Гроссе выразили приблизительно такое же мнение в своей статье, опубликованной в Physical Review 15 марта: «Эти эксперименты подчеркивают важность разделения изотопов урана в более крупных масштабах для исследования возможностей возникновения в уране цепной реакции»[1494]. Но Даннинг с самого начала предпочитал и энергично разрабатывал подход, подразумевающий разделение изотопов; результаты, полученные на медленных нейтронах, никак не отменяли возможности системы Ферми – Сциларда. Возможно, более обманчивыми были измерения, которые Нир и группа из Колумбийского университета получили затем на более крупных (но по-прежнему микроскопических) образцах и опубликовали 15 апреля: «Более того, число событий деления на микрограмм 238U, наблюдаемое при этих условиях, достаточно для объяснения практически всего деления быстрыми нейтронами, наблюдаемого в неразделенном уране»[1495]. Это утверждение было справедливо для измерений на таких маленьких образцах, но его формулировка наводила на мысль о незначительности деления быстрыми нейтронами 235U. На самом деле у Нира не было накоплено такого количества 235U, которое позволило бы группе Колумбийского университета измерить эту возможность. К тому времени все уже знали, что сечение деления 235U быстрыми нейтронами меньше, чем сечение деления этого изотопа медленными нейтронами. Но, как сообщалось в первой статье Нира и Колумбийского университета, последнее сечение было огромным – от 400 до 500 · 10–24 см2 [1496].
Поэтому не было ничего неожиданного в том, что 27 апреля, когда Урановый комитет собрался на заседание, на котором присутствовали Сакс, Пеграм, Ферми, Сцилард и Вигнер, он выслушал вновь разгоревшуюся дискуссию, ответил решительным отказом Саксу, призывавшему к быстрому движению вперед, и ничуть не поколебался в своей твердой решимости, что для начала крупномасштабного эксперимента с ураном и графитом следует дождаться от Ферми результатов экспериментов с графитом.
Получив наконец 6000 долларов, Колумбийский университет смог купить тот графит, который Сцилард нашел для Ферми. «В Пьюпинскую лабораторию начали прибывать тщательно завернутые брикеты графита, – вспоминает Герберт Андерсон; всего графита было четыре тонны. – Ферми с энтузиазмом вернулся к задаче о цепной реакции. Именно такую физику он любил больше всего. Вместе с ним мы стали складывать графитовые кирпичи в аккуратную стопку. В некоторых брикетах мы прорезали узкие щели для детекторов из родиевой фольги, которые мы собирались туда вставлять, и вскоре мы были готовы к измерениям»[1497].
«Физики с седьмого этажа Пьюпинской лаборатории стали похожи на углекопов, – добавляет Ферми, – и их жены, к которым усталые физики возвращались вечером, не могли понять, что происходит»[1498].
Предполгалось, что установка позволит определить, на какое расстояние вверх нейтроны, вылетающие из источника из радона и бериллия, окруженного парафином и установленного под графитовой колонной, смогут проникнуть через графит после начального торможения в рассеивающих столкновениях: чем большей оказалась бы длина пробега нейтронов, тем меньшим было сечение поглощения в углероде, и, следовательно, тем лучшим замедлителем был графит. Седьмой этаж Пьюпин-холла стал такой же беговой дорожкой, какой был второй этаж римского института. Вот как описывает обстановку Андерсон:
При каждом измерении мы следовали точному графику. Вставив родий в графит, источник устанавливали на его место внутри стопки и вынимали после экспозиции длительностью в одну минуту. Чтобы поместить родиевую фольгу под счетчик Гейгера за отведенные для этого 20 секунд [так как период полураспада наведенной в нем радиоактивности составляет всего 44 секунды], требовалась координация и быстрый бег. Разделение обязанностей было типичным. По сигналу я вынимал источник; Ферми с секундомером в руке хватал родий и со всех ног бежал по коридору. Ему едва хватало времени, чтобы аккуратно установить фольгу на нужное место, закрыть свинцовую заслонку и, в заранее определенный момент, начать отсчет. Затем, явно удовлетворенный, что все идет как надо, он наблюдал за вспышками на счетчике, барабаня пальцами в такт его щелчкам. Такое наглядное проявление радиоактивности неизменно приводило его в восторг[1499].
Сечение поглощения, как рассчитали впоследствии Ферми и Андерсон, оказалось достаточно малым для практических целей – 3 · 10–27 см2 [1500]. Они считали, что оно может быть и еще меньшим при более чистом графите. Результаты измерений давали убедительные аргументы в пользу планов Ферми и Сциларда попытаться возбудить цепную реакцию на медленных нейтронах в природном уране.
Однако, хотя такие планы могли предусматривать возможность создания в будущем источника энергии, американские ученые и чиновники, консультировавшие Бриггса, пока что не могли найти им никакого военного приложения. В апреле британский комитет Томсона попросил А. В. Хилла, советника по науке при британском посольстве в Вашингтоне, выяснить, что американцы предпринимают по поводу деления ядра. Как рассказывает официальная история британской программы по атомной энергетике, Хилл поговорил с неназванными «учеными Института Карнеги»[1501] и пересказал их мнение в следующих едких выражениях:
Вполне можно предположить, что в конце концов появятся практические инженерные решения и возможности военного применения. Однако мои американские коллеги заверили меня, что в настоящее время их нигде не видно, и заниматься ураном в рамках военного исследования для людей, занятых в Англии более насущными вопросами, было бы пустой тратой времени. Если появится что-нибудь, потенциально ценное с военной точки зрения, они, несомненно, своевременно известят нас об этом. Эта тема разрабатывается американскими физиками или интересует большое их количество; они располагают превосходными материальными средствами оборудованием; они настроены к нам чрезвычайно благосклонно и считают, что будет гораздо лучше, если они будут заниматься этим делом, чем если наши ученые станут тратить свое время на решение вопросов, весьма интересных с научной точки зрения, но с точки зрения практической, вероятно, представляющих собой поиски химер[1502].
Возможно, мнение сотрудников Института Карнеги было чересчур жестким, но его нельзя назвать полностью предвзятым. Робертс, Хафстад и еще один физик с ФЗМ Норман П. Хейденбург провели более точные измерения сечения деления быстрыми нейтронами, рассеяния и захвата для природного урана. Используя их цифры, Эдвард Теллер получил в одном из многих расчетов, которые он выполнил в течение этого периода, значение критической массы, превышающее тридцать тонн[1503], то есть того же порядка величины, какой получился до этого в вычислениях Перрена и Пайерлса. Робертс сделал из этого лишь чуть более пессимистический вывод, что «сечение захвата [в природном уране] так велико, что возникновение цепной реакции на быстрых нейтронах представляется сейчас невозможным, даже в бесконечно большом блоке чистого урана»[1504]. Таким образом, к весне 1940 года эксперименты, проведенные в Колумбийском университете и на ФЗМ, исключили возможность деления 238U медленными нейтронами и его значительного деления быстрыми нейтронами, а также доказали наличие деления 235U медленными нейтронами. Несимметричность этой картины могла бы послужить подсказкой. Но ее никто не заметил.
По меньшей мере со времен первого письма Эйнштейна к ФДР Эдвард Теллер размышлял о нравственности работы над созданием оружия. Тоталитаризм уже дважды жестоко вмешивался в его жизнь. Он понимал, что к моменту начала войны Германия обладала пугающим техническим превосходством. «Я приехал в Соединенные Штаты в 1935 году, – пишет он. – <…> Зловещие предзнаменования были ясны. В то время я думал, что Гитлер завоюет весь мир, если только не случится какого-нибудь чуда»[1505]. Но чистая наука приносила ему умиротворение. «Отвлечься от физики, любимой работы, занимавшей все мое время, ради работы над оружием было нелегко. И в течение довольно долгого времени я не принимал никакого решения»[1506].
Принять решение ему помогло случайное совпадение двух событий. «Весной 1940 года было объявлено, что президент Рузвельт выступит на Панамериканском научном конгрессе в Вашингтоне; будучи профессором Университета Джорджа Вашингтона, я получил приглашение на этот конгресс. Я не собирался туда идти»[1507]. Его намерения изменило другое событие этого судьбоносного дня, 10 мая 1940 года: «странная война» резко закончилась. Без какого-либо объявления или предупреждения германские войска в составе семидесяти семи дивизий и 3500 самолетов вторглись в Бельгию, Нидерланды и Люксембург, чтобы проложить дорогу для вторжения во Францию. Теллер подумал, что Рузвельт, возможно, будет говорить об этом злодеянии. По словам Теллера, до войны он жил в добровольной изоляции: он никогда не бывал в Капитолии, не слушал выступлений ФДР по радио и вообще не принимал никакого участия в политической жизни своей новой родины[1508], но теперь он хотел увидеть президента Соединенных Штатов своими глазами.
Теллер единственный из присутствовавших на конгрессе ученых знал о письме Эйнштейна. Это создавало прямую связь; он был человеком эмоциональным, и встреча с Рузвельтом стала для него волнующе личной: «Мы не встречались, но у меня было иррациональное ощущение, что он обращается именно ко мне»[1509]. Президент упомянул германское вторжение, угрожающее «дальнейшему существованию цивилизации того типа», который ценит американский народ, так как современные технологии настолько сократили расстояния в современном мире, что той «мистической непричастности»[1510] к европейской войне, которую некогда ощущали американцы, больше не существует. «Затем он заговорил о роли ученых, – вспоминает Теллер, – которых обвиняют в создании смертоносного оружия. В заключение он сказал: “Если ученые свободных стран не будут создавать оружие для защиты свободы своих стран, их свобода будет утрачена”»[1511]. Теллер считал, что Рузвельт говорит не о том, что ученые могут делать, «но о том, что является нашим долгом, что мы должны делать – решать военные задачи, потому что без работыученых война будет проиграна и мир потерян»[1512].
Воспоминания Теллера о речи Рузвельта разнятся с ее текстом. Президент сказал, что большинству людей отвратительны «завоевания, войны и кровопролития». Он сказал, что поиски истины – великое предприятие, но «в других частях мира преподавателям и ученым не позволено» заниматься этими поисками – о чем Теллер знал на личном опыте. А затем Рузвельт ловко дал им заблаговременное отпущение греха работы на войну:
Вам, ученым, возможно, говорят, что вы отчасти виновны в нынешней катастрофе… но я уверяю вас, что вина за нее лежит не на ученых мира… То, что произошло, – дело рук исключительно тех, кто хочет использовать и использует достижения, которые вы получили в своей мирной работе, в совершенно других целях[1513].
«Я принял решение, – говорит Теллер, – и с тех пор оно не изменялось»[1514].
Вэнивар Буш принял похожее решение той же весной. Остроглазый инженер-янки, похожий на Дядю Сэма без бороды, оставил пост вице-президента МТИ и перешел в Институт Карнеги прежде всего для того, чтобы находиться перед надвигающейся войной поближе к государственной власти. Карл Комптон, пытаясь удержать его, предложил отправить председателя корпорации МТИ на повышение и отдать его должность Бушу, но у того были более грандиозные планы.
В 1917 году молодой Буш, получив в течение одного напряженного года докторскую степень по инженерным наукам сразу в МТИ и Гарварде, проявил патриотизм и пошел работать в исследовательскую корпорацию, разрабатывавшую магнитный детектор подводных лодок. Прибор оказался действенным и был изготовлен в количестве ста экземпляров, но из-за бюрократической неразберихи его так и не успели применить против германских подлодок. «Этот опыт, – пишет Буш в своих воспоминаниях, – очень прочно запечатлел в моей памяти полное отсутствие необходимых связей между военными и гражданскими участниками разработки оружия в военное время и значение такого отсутствия»[1515].
После нападения Германии на Польшу президент Института Карнеги собрал группу таких же, как он, администраторов от науки – там были Фрэнк Джуэтт, президент Лаборатории Белла и Национальной академии наук Джеймс Брайант Конант, молодой президент Гарвардского университета и выдающийся химик, Ричард Толмен из Калтеха, тот самый теоретик, который пытался заманить в Калифорнию Эйнштейна, и Карл Комптон, – чтобы обсудить тревожные перспективы надвигающегося конфликта:
Дело было во время «странной» войны. Все мы считали, что война неизбежно перерастет в напряженное столкновение, что Америка так или иначе когда-нибудь вступит в нее, что борьба будет в высшей степени технической, что мы совершенно не подготовлены к войне в этом отношении и, наконец, что важнее всего, что военная система в существующем виде… никогда не сможет произвести те новые технические средства, которые нам, несомненно, понадобятся[1516].
Они задумали создать для этой цели государственную организацию. Буш, уже освоившийся в Вашингтоне, возглавил этот проект. Организации, которую хотел получить Буш, нужны были независимые полномочия. Он считал, что она должна подчиняться непосредственно, а не через военные каналы президенту и иметь свои собственные финансовые источники. Он составил проект. Затем он договорился о том, что его представят Гарри Гопкинсу.
Энергичный идеалист Гарри Ллойд Гопкинс, родившийся в небольшом городке в Айове, после четырех лет обучения в Гриннелл-колледже стал заниматься общественной деятельностью в Нью-Йорке и в начале Великой депрессии получил работу по распределению государственной помощи нуждающимся. Когда губернатор штата Нью-Йорк был избран президентом, Гопкинс перебрался вместе с Рузвельтом в Вашингтон и стал заниматься осуществлением Нового курса. Он руководил огромным Управлением общественных работ (WPA), затем стал министром торговли. Благодаря результатам своей работы он все более приближался к президенту, который искал талантливых людей, где только мог; ближе к началу войны Рузвельт однажды вечером пригласил Гопкинса на ужин в Белый дом и назначил его на все время войны своим ближайшим советником и помощником. Гопкинс был заядлым курильщиком, высоким и худым до крайней истощенности; ужасное состояние его здоровья было результатом операции по удалению раковой опухоли, в результате которой он лишился большей части желудка и почти утратил способность усваивать белки: он постепенно умирал голодной смертью. У него был кабинет в подвале Белого дома, но работал он обычно в загроможденной спальне – так называемой «спальне Линкольна», – расположенной рядом со спальней ФДР.
Хотя помощник президента был либеральным демократом, а президент Карнеги восхищался Гербертом Гувером и сам называл себя «тори», когда Буш познакомился с Гопкинсом, «что-то совпало, – пишет Буш, – и мы обнаружили, что говорим на одном и том же языке»[1517]. У Гопкинса был проект создания совета изобретателей. Буш, в свою очередь, предложил более всеобъемлющую структуру – Национальный комитет оборонных исследований. «Каждый из нас пытался в чем-то убедить другого». Победил Буш. Его план понравился Гопкинсу.
В начале июня Буш бегал по Вашингтону, разговаривая со всеми: представителями армии и флота, конгрессменами, Национальной академией наук. 12 июня «мы с Гарри отправились к президенту. До этого я никогда не встречался с Франклином Д. Рузвельтом… У меня был с собой проект НКОИ, изложенный в четырех коротких абзацах в центре листа бумаги. Вся аудиенция длилась менее десяти минут (Гарри, конечно, был там до меня). Я вышел оттуда с резолюцией “ОК – ФДР”, и после этого все пришло в движение»[1518].
Национальный комитет оборонных исследований немедленно поглотил Урановый комитет. Отчасти для этого он и создавался. Бриггс был человеком осторожным и экономным, но у его комитета было недостаточно полномочий и не было источников финансирования, не зависящих от военных. Седовласый директор Национального бюро стандартов должен был по-прежнему отвечать за работы, связанные с делением ядра. Но теперь он подчинялся Джеймсу Брайанту Конанту, президенту Гарвардского университета, худому и моложавому, спокойному и осмотрительному человеку. Буш привлек его к работе нового совета, как только ФДР утвердил его создание.
НКОИ образовал активное лобби исследований ядерного деления в составе исполнительной власти. Однако, хотя Буш и Конант опасались возможных достижений германской науки – «все мы постоянно думали, – пишет Буш, – об угрозе возможной атомной бомбы»[1519], – оба они, помня о скудости научных ресурсов, в начале больше стремились получить доказательства невозможности такого оружия, чем срочно создать его[1520]: даже немцы не смогли бы сделать то, чего сделать нельзя. 1 июля, подводя итоги работы своего комитета до создания НКОИ в отчете, представленном Бушу, Бриггс запросил 140 000 долларов: 40 000 на исследования сечений и других фундаментальных постоянных, а 100 000 – Ферми и Сциларду на крупномасштабный эксперимент с ураном и графитом. При этом военные решили выделить из своих фондов через Военно-морскую исследовательскую лабораторию еще 100 000 долларов на исследования разделения изотопов. Буш согласился дать Бриггсу только 40 000. Ферми и Сциларду снова пришлось ждать своей очереди.
После отставки Невилла Чемберлена в день вторжения Германии в страны Бенилюкса Уинстон Черчилль принял предложение Георга VI сформировать новое правительство. Он взял на себя обязанности премьер-министра спокойно, но с сознанием мрачной тяжести этой должности. Ч. П. Сноу вспоминает более парадоксальные настроения: