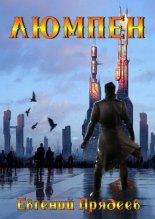Создание атомной бомбы Роудс Ричард
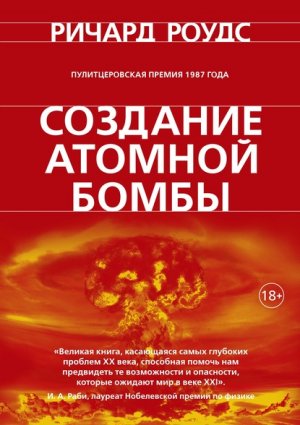
Имел долгую беседу со своим талантливым и коварным госсекретарем. Какой же у него острый ум! К тому же он человек честный. Но все провинциальные политики на одно лицо. Они уверены, что все остальные политики неискренни. Когда они слышат чистую, неприкрашенную правду, они никогда в нее не верят – иногда это может быть полезно[2544].
Бирнс был политиком из политиков: за тридцать два года своей общественной деятельности он успел поработать, причем с отличием, во всех трех ветвях федеральной власти. Он всего добился сам, начав с нуля. Его отец умер до рождения сына. Чтобы выжить, его мать выучилась на портниху. С четырнадцати лет юный Джимми начал работать в адвокатской конторе; после этого он больше нигде официально не учился, но один из юристов заботливо руководил его всеобъемлющим чтением, которое и заменило ему школьное образование. Тем временем мать научила его стенографии, и в 1900 году, в двадцать один год, он получил работу протоколиста в суде. Он изучал право под руководством судьи, в суде которого работал, и в 1904 году получил лицензию адвоката. В выборах он впервые участвовал в 1908 году: он стал окружным прокурором и приобрел известность участием в процессах над убийцами. В 1910 году, приняв участие более чем в сорока шести предвыборных дебатах, он победил на выборах в конгресс; в 1930-м, после четырнадцати лет в палате представителей и пятилетнего перерыва, был избран в сенат. К тому времени он уже активно поддерживал выдвижение Франклина Рузвельта кандидатом в президенты. В предвыборной кампании 1932 года Бирнс был одним из его спичрайтеров, а потом активно защищал интересы Рузвельта в сенате, добиваясь принятия Нового курса. В награду за эту работу в 1941 году он был назначен членом Верховного суда Соединенных Штатов, но в 1942-м отказался от этой должности, чтобы перейти в Белый дом и взять на себя управление сложной чрезвычайной программой регулирования цен и зарплат военного времени, то есть стать тем самым ассистентом президента, о котором говорил Рузвельт.
В 1944 году все понимали, что четвертый президентский срок Рузвельта будет последним. Поэтому тот человек, которого он выбрал себе в вице-президенты, почти наверняка должен был стать в 1948 году кандидатом в президенты от Демократической партии. Бирнс ожидал, что этим человеком будет он, и Рузвельт поощрял эту надежду. Но ассистент президента был консервативным демократом с «Дальнего Юга», и в последний момент Рузвельт предпочел компромиссную кандидатуру Гарри С. Трумэна, происходившего из Миссури. «Не буду скрывать, что я был разочарован, – пишет Бирнс со сдержанностью, сквозь которую слышен скрежет стиснутых зубов, – и задет этим поступком президента»[2545]. В сентябре 1944 года, в самый разгар предвыборной кампании, он демонстративно уехал с Джорджем Маршаллом на европейский фронт; когда он вернулся, ФДР был вынужден попросить его о выступлении в поддержку своей кандидатуры в официальном письме – чтобы у Бирнса было документальное подтверждение.
Бирнс, несомненно, видел в Трумэне узурпатора: если бы Рузвельт выбрал не Трумэна, а его, он был бы теперь президентом Соединенных Штатов. Трумэн знал о мнении Бирнса, но остро нуждался в помощи старого профессионала в управлении страной и взаимодействии с внешним миром. Поэтому он и отдал ему Государственный департамент. Госсекретарь был самым высокопоставленным членом кабинета и к тому же по действовавшим тогда правилам перехода власти был в отсутствие вице-президента следующим кандидатом на президентское кресло. Это была самая высокая должность, какую мог дать ему Трумэн, не считая самой должности президента.
У Вэнивара Буша и Джеймса Конанта ушли долгие месяцы на то, чтобы убедить Генри Стимсона задуматься о проблемах, которые создаст существование атомной бомбы в послевоенную эпоху. Он не был готов ни в конце октября 1944 года, когда Буш требовал, чтобы он начал действовать, ни в начале декабря, когда Буш снова давил на него. Однако к тому времени сам Буш уже знал, что, по его мнению, было нужно для решения этой задачи:
Мы считали, что военный министр должен предложить президенту создать комитет или комиссию, обязанностью которых будет подготовка планов. Сюда должна входить подготовка законопроектов и проектов необходимых заявлений, которые нужно будет публиковать в соответствующие моменты… Все мы согласились, что теперь следует ввести в курс дела Государственный департамент[2546].
Стимсон разрешил одному из своих доверенных помощников, бостонскому юристу Харви Х. Банди, отцу Уильяма[2547] и Макджорджа[2548], по меньшей мере начать составление списка членов такого комитета и перечня их обязанностей. Но пока что он не знал даже в самых общих чертах, какую основополагающую стратегию можно будет предложить.
К этому времени идеи Бора, до той или иной степени разбавленные, уже носились в вашингтонском воздухе. Бор пытался убедить американское правительство, что, как только о существовании бомбы станет известно, предотвратить возникновение гонки ядерных вооружений сможет только незамедлительное обсуждение с Советским Союзом обоюдной опасности такой гонки. В апреле он предпринял еще одну попытку встретиться с Рузвельтом; Феликс Франкфуртер и лорд Галифакс, британский посол, как раз гуляли по парку в Вашингтоне, обсуждая наилучшие способы организации такой встречи, когда колокола городских церквей зазвонили, извещая о смерти президента. По-видимому, никто в исполнительной ветви власти не был достаточно убежден в неизбежности осуществления предсказаний Бора. Стимсон был не глупее других членов праительства, но в конце декабря он предостерегал Рузвельта, что русским нужно сначала заслужить право на ознакомление с этой зловещей новостью:
Я рассказал ему о моих взглядах на будущее S-1 [Стимсон использовал этот шифр для обозначения бомбы] в связи с Россией: что я знаю, что они следят за нашей работой, но пока не имеют никаких реальных сведений о ней, и что, хотя меня тревожат возможные последствия сохранения этой работы в тайне от них, даже в настоящее время, я считаю, что нам важно не раскрывать им этого секрета до тех пор, пока мы не будем уверены, что наша откровенность принесет нам реальную выгоду. Я сказал, что не питаю иллюзий относительно возможности вечного сохранения такой тайны, но не думаю, что сейчас уже пора делиться ею с Россией. Он сказал, что, пожалуй, согласен со мной[2549].
В середине февраля, еще раз поговорив с Бушем, Стимсон изложил в своем дневнике, что именно он хотел получить в обмен на сообщение о бомбе. Убежденность Бора в том, что решить проблему бомбы сможет только открытый мир, построенный в некотором роде по образцу республики науки, превратилась в сознании Буша в предложение о международном объединении научных исследований. Относительно такого решения Стимсон записал, что «его полномасштабная реализация была бы нежелательна, пока мы не получим от России все, что сможем, в обмен на увеличение свободы обмена информацией по S-1»[2550]. То есть той выгодой, которой, по мнению Стимсона, Соединенные Штаты должны были добиваться от Советского Союза, была демократизация его системы правления. То, что Бор видел неизбежным результатом решения проблемы бомбы – образование открытого мира, в котором различия социальных и политических условий будут видны всем и, следовательно, будет существовать стимул к их улучшению, – Стимсон считал предварительным условием для начала какого бы то ни было обмена информацией.
Наконец, в середине марта Стимсон поговорил с Рузвельтом; это была их последняя встреча. Разговор этот никаких практических результатов не дал. В апреле, когда в Белом доме появился новый президент, Стимсон готовился предпринять еще одну попытку.
Тем временем бывшие советники Франклина Рузвельта старались убедить Гарри Трумэна во все возрастающем коварстве Советского Союза. Аверелл Гарриман, прагматичный мультимиллионер, бывший послом в Москве, поспешил в Вашингтон, чтобы проинструктировать нового президента. По словам Трумэна, Гарриман сказал ему, что его приезд вызван опасением, что Трумэн «не понимает, как, насколько я видел, понимал это Рузвельт, что Сталин нарушает свои договоренности». Пытаясь смягчить покровительственный тон этого высказывания, Гарриман добавил, что боится, что у Трумэна «должно быть, не было времени ознакомиться со всеми телеграммами последнего времени». Трумэн, самоучка из Миссури, гордившийся числом страниц, которые он мог прочитать за день, – читал он с рекордной скоростью – легко парировал высокомерность Гарримана, дав послу указание «продолжать присылать мне длинные сообщения»[2551].
Гарриман сказал Трумэну, что «Европе угрожает нашествие варваров». Советский Союз, сказал он, собирается прибрать к рукам соседние страны и установить в них советскую систему с тайной полицией и государственным контролем. «Он добавил, что не испытывает пессимизма, – пишет президент, – так как ему кажется, что мы можем установить с русскими рабочие отношения. По его мнению, это потребовало бы пересмотра нашей политики и отказа от любых иллюзорных ожиданий, что советское правительство в обозримом будущем может начать вести себя в соответствии с принципами, которых придерживается в международных отношениях весь остальной мир»[2552].
Трумэн старался убедить советников Рузвельта в решительности своих намерений. «В завершение встречи я сказал: “В отношениях с советским правительством я собираюсь быть твердым”»[2553]. Например, в апреле этого года в Сан-Франциско съезжались делегаты, которые должны были составить хартию ООН, создаваемой вместо старой и уже нежизнеспособной Лиги Наций. Гарриман спросил Трумэна, собирается ли тот «продолжать осуществление планов всемирной организации, даже если Россия откажется от участия в ней». Как вспоминает Трумэн, он трезво ответил, что «без России никакой всемирной организации не получится»[2554]. Спустя три дня, в течение которых он получил послание от Сталина и встретился с приехавшим в Америку советским министром иностранных дел Молотовым, он перешел от трезвого реализма к демонстративным угрозам. «Ему казалось, что наши соглашения с Советским Союзом были до этих пор весьма однобокими, – вспоминает очевидец, – и что так продолжаться не может; нужно было действовать сейчас или никогда. Он собирался продолжать осуществление планов в отношении Сан-Франциско, а если русские не захотят присоединиться к нам, то могут идти к черту»[2555].
Стимсон призывал к терпению. «В важных военных вопросах, – говорил он, как сообщает Трумэн, – советское правительство держит свое слово, и военное руководство Соединенных Штатов привыкло на это рассчитывать. На самом деле… они часто делают даже больше, чем обещали»[2556]. Хотя Джордж Маршалл придерживался того же мнения, что и Стимсон, и более надежных свидетелей, чем эти двое, у Трумэна не было и быть не могло, это был не тот совет, который хотелось услышать новому, еще неопытному президенту. Маршалл привел еще один важный довод, который произвел на Трумэна большое впечатление:
Он сказал, что ситуация в Европе безопасна с военной точки зрения, но мы надеемся, что Советский Союз вступит в войну с Японией, причем достаточно быстро для того, чтобы это могло принести нам пользу. Русские вполне могут задержать свое вступление в войну на Дальнем Востоке до тех пор, когда мы уже сделаем всю грязную работу. Он согласен с мнением г-на Стимсона, что возможность разрыва с Россией следует считать весьма серьезной[2557].
Если Трумэну было нужно, чтобы русские завершили войну на Тихом океане, он не очень-то мог послать их к черту. Довод Маршалла в пользу терпения означал, что Сталин загнал президента в угол. А такое положение вещей Гарри Трумэн терпеть не собирался.
Он известил об этом Молотова. При первой встрече они занимались дипломатической пикировкой; теперь президент перешел в наступление. Речь шла о составе послевоенного правительства Польши. Молотов предложил несколько разных формул; все они способствовали установлению советского господства. Трумэн потребовал провести свободные выборы, о чем, насколько он понимал, договорились в Ялте: «Я резко ответил, что по Польше было заключено соглашение, и рассуждать тут не о чем – маршал Сталин должен обеспечить осуществление этого соглашения в соответствии с данным им словом». Молотов попытался еще раз. Трумэн снова дал резкий ответ, повторив свое предыдущее требование. Молотов опять попытался уклониться. Трумэн по-прежнему наступал: «Я снова заверил его в том, что Соединенные Штаты стремятся к дружбе с Россией, но я хочу ясно дать понять, что такая дружба может быть основана только на обоюдном соблюдении договоренности, а не на односторонней выгоде». Эти слова не кажутся особенно грубыми; по реакции Молотова можно заключить, что на самом деле президент говорил тогда более резко:
«Со мной никто никогда так не разговаривал», – сказал Молотов.
Я сказал ему: «Если вы будете выполнять соглашения, с вами и не будут так разговаривать»[2558].
Если Трумэну эта беседа доставила удовлетворение, то Стимсона она встревожила. Новый президент действовал, не зная о бомбе и ее потенциально роковых последствиях. Было давно пора полностью ознакомить его с положением дел.
Трумэн согласился встретиться со Стимсоном в полдень в среду 25 апреля. Тем же вечером президент должен был выступать по радио на первом заседании учредительной конференции ООН в Сан-Франциско. За это время произошло еще одно важное событие: во вторник он получил сообщение от Иосифа Сталина, «одно из самых откровенных и пугающих посланий, которые приходили ко мне в первые дни моего пребывания в Белом доме»[2559]. Молотов сообщил советскому премьеру о разговоре с Трумэном. Сталин отплатил той же монетой. Польша граничит с Советским Союзом, писал он, чего нельзя сказать о Великобритании или Соединенных Штатах. «Вопрос о Польше является для безопасности Советского Союза таким же, каким для безопасности Великобритании является вопрос о Бельгии и Греции» – но после освобождения этих стран союзниками «Советский Союз не спрашивали, когда там создавались эти правительства». «Та обильная кровь советских людей, которая пролита на полях Польши во имя освобождения Польши» требует, чтобы в Польше было правительство, дружественное России. И наконец:
Я готов выполнить Вашу просьбу и сделать все возможное, чтобы достигнуть согласованного решения. Но Вы требуете от меня слишком многого. Попросту говоря, Вы требуете, чтобы я отрешился от интересов безопасности Советского Союза, но я не могу пойти против своей страны[2560][2561].
Когда Трумэн принимал своего военного министра, его тяготили мысли об этом резком ответе.
Стимсон привел с собой Гровса для помощи в технических вопросах, но на время обсуждения общеполитических тем оставил его ждать в приемной. Начал он торжественно, зачитав свой меморандум[2562]:
В течение четырех месяцев мы, по всей вероятности, завершим создание самого ужасного оружия в истории человечества, позволяющего разрушить одной бомбой целый город.
Его разработка велась совместно с британцами, продолжал Стимсон, но заводы, производящие взрывчатый материал, находятся в наших руках, «и в течение нескольких лет никакая другая страна не достигнет такого же положения». Мы, несомненно, не сможем сохранять эту монополию вечно, и «единственной страной, которая, вероятно, сможет начать производство в ближайшие несколько лет, является Россия». Мир, «находящийся на нынешнем уровне нравственного прогресса в сравнении с развитием техническим, – витиевато продолжал военный министр, – рано или поздно окажется беззащитен перед таким оружием. Другими словами, речь может идти о полном уничтожении современной цивилизации».
Стимсон подчеркнул то же, что подчеркнул годом раньше для Черчилля Джон Андерсон: создание «всемирной организации мира» при сохранении существования бомбы в тайне «кажется нереалистичным»:
Никакая система контроля, рассматривавшаяся до сих пор, не будет достаточной для сдерживания этой угрозы. Контроль за этим оружием, как внутри любой отдельно взятой страны, так и между странами мира, будет, несомненно, делом чрезвычайно трудным и потребует таких всеобъемлющих прав на инспекцию и внутренних ограничений, о каких мы до сих пор никогда не помышляли.
Это подвело Стимсона к ключевому пункту его доклада:
Более того, в свете нашего нынешнего положения в отношении этого оружия вопрос о предоставлении его другим странам и об условиях такого предоставления, если оно будет предпринято, становится первоочередным вопросом нашей внешней политики.
Бор предлагал предоставить другим странам информацию об общей для всех опасности гонки ядерных вооружений. В руках Стимсона и его советников это разумное предложение превратилось в идею о том, что речь идет о предоставлении самого оружия. Трумэну – как главнокомандующему, как ветерану Первой мировой войны, наконец, как здравомыслящему человеку – было, вероятно, трудно понять, о чем говорит его военный министр, особенно когда Стимсон добавил, что лидирующее положение Америки в развитии ядерных технологий влечет за собой «определенные моральные обязательства», от которых страна не может отказаться, «не взяв на себя очень серьезной ответственности за любую катастрофу цивилизации, к которой это приведет». Значило ли это, что моральный долг Соединенных Штатов – отдать вновь появившееся у них смертоносное оружие?
Затем Стимсон позвал Гровса. Генерал принес с собой отчет о состоянии Манхэттенского проекта, который двумя днями раньше он представил военному министру. И Стимсон, и Гровс настаивали, чтобы Трумэн прочитал этот документ в их присутствии. Президенту не хотелось этого делать. Ему нужно было разобраться с угрожающим посланием Сталина. Ему нужно было подготовиться к открытию конференции Объединенных Наций, хотя Стимсон только что сообщил ему, что без информации о бомбе такая конференция не имела никакого смысла. Дальнейшее напоминало сцену из какого-нибудь мрачного фарса: тот же человек, который гордо предлагал Авереллу Гарриману слать ему сообщения подлиннее, пытался увильнуть от публичного посвящения в мельчайшие подробности секретного проекта, который он безуспешно пытался расследовать в бытность свою сенатором. Гровс совершенно неправильно истолковал происходящее:
Трумэн не любил читать длинные отчеты. Этот отчет не был особенно длинным, учитывая масштабы проекта. В нем было около двадцати четырех страниц, и Трумэн то и дело отвлекался от чтения, говоря: «Я не люблю читать бумаги». А мы со Стимсоном отвечали: «Мы не можем рассказать вам об этом в еще более сжатом виде. Речь идет о большом проекте». Например, наши отношения с британцами были описаны строках в четырех или пяти. Настолько сжатым было изложение. Нам нужно было описать все процессы, и мы могли только обозначить их суть – и почти ничего больше[2563].
После того как текст был прочитан, отмечает Гровс, «значительный упор был сделан на международных отношениях, и в частности на ситуации с Россией», – Трумэн вернулся к самым насущным для него вопросам. Он «очень определенно дал понять, – подчеркивает Гровс, – что совершенно убежден в необходимости нашего проекта»[2564].
Последним пунктом в меморандуме Гровса было поступившее от Буша и Конанта предложение о создании, говоря словами Стимсона, «особого комитета… для выработки рекомендаций по действиям исполнительной и законодательной ветвей нашей власти». Трумэн одобрил эту идею.
В своих мемуарах президент описывает встречу со Стимсоном и Гровсом тактично и, возможно, даже с некоторой долей скрытого юмора: «Я слушал увлеченно и заинтересованно, так как Стимсон был человеком чрезвычайно мудрым и прозорливым. Он весьма подробно описал природу и мощь предполагаемого оружия… Бирнс уже говорил мне, что это оружие может быть настолько мощным, что позволит стирать с лица земли целые города и уничтожать беспрецедентное количество людей». Бирнс говорил об этом, когда торжествующе заявлял, что новые бомбы, возможно, позволят Соединенным Штатам диктовать свои условия после конца войны. «С другой стороны, казалось, что Стимсон по меньшей мере настолько же озабочен возможным влиянием атомной бомбы на ход истории, насколько и ее способностью приблизить окончание нынешней войны… Я поблагодарил его за поучительный доклад на эту важнейшую тему и, провожая его к двери, думал о том, насколько повезло нашей стране, что у нее на службе оказался такой мудрый человек»[2565]. Несмотря на столь высокую похвалу, президент был не настолько впечатлен итогами бесед со Стимсоном и Гарриманом, чтобы пригласить кого-либо из них сопровождать его на следующую встречу «Большой тройки». Когда пришло время, оба приехали туда по собственной инициативе. Джимми Бирнс попал туда по приглашению президента и сидел по правую руку от него.
Беседы Трумэна со всевозможными советниками представляли собой один уровень, на котором весной 1945 года рассматривались возможности применения атомной бомбы. Еще один появился через два дня после инструктажа, который Стимсон с Гровсом устроили для президента, – когда в конференц-зале Лориса Норстада в Пентагоне собрался на свое первое заседание Комитет по определению целей, созванный по распоряжению Гровса[2566]. Председателем комитета стал бригадный генерал Томас Ф. Фаррелл, заместитель Гровса, который должен был быть представителем Гровса в Тихоокеанском командовании; помимо Фаррелла в него входили еще два офицера ВВС – полковник и майор – и пять ученых, в том числе Джон фон Нейман и британский физик Уильям Дж. Пенни. Гровс открыл заседание одной из тех речей, которые он обычно произносил перед рабочими группами Манхэттенского проекта: о важности их обязанностей и необходимости сохранения строжайшей тайны. Он уже обсуждал цели с Комитетом по военной политике и теперь сообщил членам Комитета по выбору целей, что им следует предложить не более четырех вариантов.
Фаррелл изложил основные требования: дальность полета В-29 в столь важном задании не должна превышать 2400 километров; важно обеспечить визуальное наведение, чтобы можно было точно нацелить эти неиспытанные и особо ценные бомбы и сфотографировать результаты бомбардировки; вероятные цели должны быть «городскими или промышленными районами Японии»; бомбардировка намечается на июль, август или сентябрь; для каждого задания следует определить одну основную и две резервные цели, причем для проверки видимости вперед будут высланы самолеты-разведчики.
Основная часть первого заседания была посвящена беспокойству относительно японской погоды. После обеда комитет пригласил главного метеоролога 20-й воздушной армии, который сказал им, что июнь в Японии – месяц с самой плохой погодой; «в июле бывает небольшое улучшение; в августе погода еще чуть лучше; в сентябре погода плохая». Лучшим месяцем с этой точки зрения был январь, но никто не собирался ждать так долго. Метеоролог сказал, что сможет предсказать хороший день для бомбардировки только за двадцать четыре часа, но предупреждение о плохой погоде сможет выдать за двое суток. Он предложил расположить вблизи целевых районов подводные лодки, которые передавали бы по радио метеорологические данные.
Позднее в тот же день начали выбирать цели. Гровс расширил принципы, изложенные Фарреллом:
Я сказал, что в первую очередь должны быть выбраны такие объекты, бомбардировка которых сильнее всего ударит по решимости японского народа продолжать войну. Кроме того, они должны иметь военное значение и быть местами расположения военных штабов или войсковых группировок или же центрами производства военного оборудования и материалов. Чтобы мы могли точно оценить воздействие бомбы, цели не должны быть сильно повреждены предыдущими воздушными налетами. Также было желательно, чтобы первая цель имела такие размеры, чтобы разрушения не выходили за ее пределы: это позволило бы нам более определенно установить мощность бомбы[2567].
Однако таких нетронутых целей в Японии оставалось мало. Хотя город, который был выбран на первом заседании комитета в качестве наиболее вероятной цели, скорее всего, не был достаточно велик, чтобы все разрушения оказались в его пределах, ничего лучшего неприятель предложить уже не мог:
Хиросима – самый крупный еще не затронутый объект, не входящий в список первоочередных целей 21-й бомбардировочной дивизии. Этот город следует включить в рассмотрение.
«Токио, – говорится дальше в заметках комитета, – может быть выбран в качестве цели, но сейчас этот город уже почти полностью разбомблен и сожжен и состоит практически из одних развалин; нетронутым остается только дворцовый комплекс. Рассмотрение возможно, но не более того».
Члены комитета по определению целей еще не вполне понимали, какая власть оказалась у них в руках. Сказав Гровсу всего несколько слов, они могли освободить японский город от непрестанных огненных бомбардировок Кертиса Лемея, сохранить его на сезон весеннего цветения вишни и летних ночных муссонов и предназначить ему грозную судьбу, которая впишет его имя в историю. Комитет полагал, что его решения уступают по приоритету решениям Лемея, а не превосходят их, и полковник, составлявший для комитета обзор программы бомбардировок 20-й воздушной армии, подчеркивал это ошибочное представление о приоритетах, иллюстрируя всю убийственную двусмысленность политики, которую Соединенные Штаты проводили тогда в отношении Японии:
При выборе целей следует помнить, что основной целью 20-й воздушной армии является опустошение японских городов и что она не предполагает оставить для нас какую-либо важную цель, если с ее точки зрения это помешает ведению войны. Ее нынешняя тактика предполагает сильные бомбардировки Токио, бомбардировки авиации, производственных и сборочных предприятий, моторных заводов и в общем парализацию авиационной промышленности для уничтожения сопротивления операциям 20-й воздушной армии. 20-я воздушная армия систематически бомбит следующие города, прежде всего стремясь не оставить от них камня на камне:
Токио, Иокогаму, Нагою, Осаку, Киото, Кобе, Явату и Нагасаки.
Если японцы были готовы есть камни, американцы были готовы их обеспечить.
Полковник сообщил также, что 20-я воздушная армия планирует постепенно наращивать количество сбрасываемых обычных бомб и довести его к концу 1945 года до 100 000 тонн в месяц.
Группа решила изучить семнадцать целей, в том числе Токийский залив, Иокогаму, Нагою, Осаку, Кобе, Хиросиму, Кокуру, Фукуоку, Нагасаки и Сасебо. Уже уничтоженные цели следовало исключить из списка. Метеорологам было поручено проверить метеосводки. Пенни должен был рассмотреть «масштабы взрыва бомбы, предполагаемый объем разрушений и максимальное расстояние смертельного воздействия на человека». Фон Нейман был назначен ответственным за расчеты. На этом первое заседание Комитета по выбору целей закончилось; было решено провести следующее заседание в середине мая, в кабинете Оппенгеймера в Лос-Аламосе.
Третий уровень обсуждения применения бомбы образовался, когда Генри Стимсон созвал комитет, создать который предлагали ему Буш и Конант, а он, в свою очередь, предлагал президенту. 1 мая, в тот же день, когда немецкое радио объявило, что Адольф Гитлер покончил с собой в разрушенном Берлине, Джордж Л. Гаррисон, президент страховой компании New York Life Insurance и особый советник Стимсона, подготовил для военного министра список членов комитета[2568], в который входили только гражданские лица: сам Стимсон в качестве председателя, Буш, Конант, президент МТИ Карл Комптон, заместитель госсекретаря Уильям Л. Клейтон, заместитель министра ВМФ Ральф О. Бард и специальный представитель президента, выбор которого был предоставлен президенту. Стимсон изменил этот список, включив в него Гаррисона в качестве своего заместителя, и 2 мая представил его на утверждение Трумэна. Трумэн выразил согласие, и Стимсон, по-видимому, предполагал, что этот проект его интересует, но президент, что показательно, даже не вписал в список имя своего представителя. Тем же вечером Стимсон записал в своем дневнике:
Президент согласился с предложенным списком членов комитета и сказал, что их будет достаточно даже без его специального представителя. Я сказал, что предпочел бы, чтобы такой представитель был, и посоветовал выбрать на эту роль человека, а) с которым у президента существуют тесные личные отношения и б) умеющего держать язык за зубами[2569].
Трумэн еще не объявил о своем намерении назначить Бирнса государственным секретарем, потому что Эдвард Р. Стеттиниус – младший, временно исполнявший обязанности госсекретаря, возглавлял делегацию Соединенных Штатов в Сан-Франциско, и президент не хотел подрывать его авторитет на этой конференции. Однако по Вашингтону уже поползли слухи о грядущем назначении. Исходя из этих слухов, Гаррисон посоветовал Стимсону предложить Бирнсу войти в состав комитета. 3 мая Стимсон так и сделал, «и в тот же день мне позвонил сам президент, сказавший, что слышал о моем предложении и считает его правильным. Он уже звонил Бирнсу в Южную Каролину, и Бирнс согласен»[2570]. Банди и Гаррисон, пишет Стимсон в своем дневнике, «были вне себя от радости»[2571]. Они думали, что их комитет обзавелся вторым могущественным покровителем. На самом же деле они подсадили к себе в гнездо настоящего кукушонка.
На следующий день Стимсон разослал приглашения. Он предложил назвать этот новый орган «Временным комитетом», чтобы не казалось, что он посягает на прерогативы конгресса: «когда необходимость в секретности отпадет, – объяснял он предполагаемым членам комитета, – конгресс, возможно, сочтет нужным учредить постоянную послевоенную комиссию»[2572]. Первое неофициальное совещание Временного комитета он назначил на 9 мая.
Члены комитета собирались на это заседание сразу после грандиозного исторического события. Война в Европе наконец завершилась. Вечером в четверг 8 мая 1945 года Верховный главнокомандующий силами союзников Дуайт Д. Эйзенхауэр выступил по общенациональному радио с победной речью:
Мне выпало редкое счастье обращаться к победоносной армии, насчитывающей почти пять миллионов бойцов. Вместе с женщинами, столь искусно работавшими в составе вспомогательных служб, они составляли союзные экспедиционные силы, освободившие Западную Европу. Они уничтожили или взяли в плен вражеские армии, совместная сила которых превышала их собственную, и триумфально прошли сотни миль, отделяющие Шербур от Любека, Лейпцига и Мюнхена…
Эти поразительные успехи достались нам не без горя и страданий. Только на этом театре военных действий 80 000 американцев и сравнимое число их союзников отдали свои жизни, чтобы мы могли жить в солнечном сиянии свободы…
Но по меньшей мере эта часть работы завершена. С этого театра военных действий в Соединенные Штаты больше не полетят скорбные списки смертей и потерь, принесшие столько горя американским семьям. Гром сражений в Европе затих[2573].
Ранним утром 7 мая Эйзенхауэр видел, как генерал-полковник Альфред Йодль подписал в классе одной из школ Реймса, служившем временным оперативным центром верховной штаб-квартиры союзных экспедиционных сил, акт военной капитуляции. После этого адъютанты Эйзенхауэра попытались составить подобающе торжественное сообщение об официальной капитуляции для Объединенного комитета начальников штабов. «Я тоже попытался что-нибудь написать, – вспоминает начальник штаба Эйзенхауэра Уолтер Беделл Смит, – и, как и мои сотрудники, искал звучных фраз, которые воздали бы должное этому великому крестовому походу и подчеркнули нашу преданность только что достигнутой великой цели»[2574]. Верховный главнокомандующий молча слушал в течение некоторого времени, поблагодарил всех за их усилия и продиктовал свой неприкрашенный вариант сообщения:
Задача союзных сил выполнена в 02 ч. 41 мин. местного времени 7 мая 1945 г.[2575]
Лаконичность была уместнее громких фраз. От лишений или на полях сражений Второй мировой войны погибли 20 миллионов советских солдат и мирных жителей[2576]. Умерли или были убиты восемь миллионов британцев и граждан континентальной Европы, а также пять миллионов немцев. Нацисты уничтожили в гетто и концентрационных лагерях шесть миллионов евреев. Рукотворная смерть оборвала раньше времени 39 миллионов человеческих жизней; во второй раз в течение полувека Европа превратилась в бойню[2577].
Незаконченным оставался жестокий конфликт в Тихом океане, начатый Японией, которая отказывалась завершить его безоговорочной капитуляцией, несмотря на всё большие потери.
Формально считалось, что Бирнс вышел в отставку и вернулся в Южную Каролину. На деле он негласно приезжал в Вашингтон и получал подробную информацию от руководителей отделов Государственного департамента, навещавших его по вечерам в его апартаментах в гостинице «Шорхэм». В день окончания войны в Европе он провел два часа наедине со Стимсоном. Затем к ним присоединились Гаррисон, Банди и Гровс. «Вместе мы обсудили обязанности предложенного Временного комитета, – пишет Стимсон. – Во время этой встречи стало ясно, какую огромную пользу принесет включение Бирнса в состав комитета»[2578].
На следующее утро в кабинете Стимсона состоялось первое заседание Временного комитета. Целью этого предварительного заседания было проинформировать Бирнса, Клейтона из Госдепартамента и Барда из ВМФ об основных фактах, но Стимсон подчеркнул при этом, что бывший ассистент президента является личным представителем Трумэна[2579]. Таким образом, членам комитета дали понять, что Бирнс обладает особым статусом и его слова имеют особо важное значение.
Комитет согласился с тем, что у ученых, работающих над атомной бомбой, могут быть полезные для него советы, и создал вспомогательную Научную коллегию. Посовещавшись, Буш и Конант рекомендовали назначить в ее состав Артура Комптона, Эрнеста Лоуренса, Роберта Оппенгеймера и Энрико Ферми.
Между первым и вторым заседаниями Временного комитета его двойник, Комитет по выбору целей, собрался в Лос-Аламосе на двухдневное заседание 10 и 11 мая. Помимо всех членов комитета там присутствовали в качестве консультантов Оппенгеймер, Парсонс, Толмен и Норман Рамзей, а также, на некоторых из заседаний, Ханс Бете и Роберт Броуд. Оппенгеймер взял на себя руководство встречей, составив и предложив подробную повестку дня:
1. Высота детонации.
2. Метеорологический и оперативный отчеты.
3. Аварийный сброс и приземление устройства.
4. Статус целей.
5. Психологические факторы выбора целей.
6. Применение против военных объектов.
7. Радиологические эффекты.
8. Координированные воздушные операции.
9. Тренировки.
10. Оперативные требования безопасности самолетов.
11. Координация с планами 21 [бомбардировочной дивизии].[2580]
Высота детонации определяла размеры области, которая будет затронута взрывом, и ее выбор чрезвычайно сильно зависел от мощности бомбы. При взрыве на слишком большой высоте энергия бомбы могла рассеяться в воздухе; у бомбы, взорванной слишком низко, энергия могла уйти на образование воронки в земле. Как объясняется в протоколе заседания комитета, слишком низкая детонация была предпочтительнее слишком высокой: «Бомба может быть взорвана на высоте, меньшей оптимальной на величину до 40 %, с уменьшением площади зоны повреждений на 24 %. В то же время такое же уменьшение площади происходит при превышении оптимальной высоты детонации [всего] на 14 %». Эта дискуссия показывает, до какой степени в Лос-Аламосе все еще не было уверенности относительно мощности бомбы. По оценке Бете, мощность «Малыша» должна была составить от 5000 до 15 000 тонн в тротиловом эквиваленте. О мощности «Толстяка», имплозивной бомбы, можно было только гадать: 700 тонн, 2000 тонн, 5000 тонн? «С учетом имеющейся информации запал должен быть установлен на 2000 тонн эквивалента, но следует обеспечить возможность перенастройки запала на другие значения к моменту окончательной доставки… Для этого устройства будут использованы данные “Тринити”».
Ученые сообщили – и комитет согласился, – что в чрезвычайных обстоятельствах непврежденный В-29 сможет вернуться на базу с бомбой. «Самолет должен будет произвести нормальную посадку с величайшей осторожностью… Вероятность того, что авария вызовет взрыв высокого порядка [т. е. ядерный]… достаточно мала, чтобы считать риск [такого события] оправданным». «Толстяк» мог перенести даже аварийный сброс в неглубокую воду. «Малыш» требовал более бережного обращения. Поскольку в пушечной бомбе содержалось более двух критических масс 235U, морская вода, попавшая в ее корпус, могла замедлить блуждающие нейтроны до уровня возникновения разрушительной цепной реакции на медленных нейтронах. В альтернативном варианте при аварийном сбросе «Малыша» над сушей урановая пуля могла сместиться по стволу к основному заряду 235U и вызвать ядерный взрыв. Как отмечается в протоколе, к несчастью для экипажа самолета, на борту которого находится капризный «Малыш», «наилучшая из предложенных пока что аварийных процедур состоит в… удалении пороха из орудия и выполнении аварийной посадки».
С выбором целей дело шло вперед. Комитет свел свои требования к трем пунктам: «важные цели в крупной городской зоне диаметром более пяти километров», которые «могут быть серьезно повреждены взрывом» и «не должны быть атакованы до августа этого года». ВВС согласились оставить для атомной бомбардировки пять таких целей. В их число входили:
1) Киото. Эта цель представляет собой крупный промышленный центр с населением около 1 000 000 человек. Город был раньше столицей Японии, и по мере разрушения других областей в него перемещается значительная часть населения и промышленности. С психологической точки зрения выгодно, что Киото является интеллектуальным центром Японии и живущие там люди более способны оценить значение такого оружия, как это устройство…
2) Хиросима. Важный центр с армейскими складами и портами для погрузки сухопутных войск на суда; к главной части города примыкает несколько крупных промышленных объектов. Хорошая цель для радаров; размеры города обеспечивают возможность серьезного повреждения большой его части. Близлежащие холмы, вероятно, должны произвести фокусирующий эффект, который существенно увеличит разрушения, вызванные взрывом. В связи с наличием рек эта цель малопригодна для зажигательной бомбардировки.
Тремя остальными предложенными целями были Иокогама, арсенал в Кокуре и Ниигата. Оставшийся невоспетым энтузиаст предложил комитету рассмотреть великолепную шестую цель, но возобладали более мудрые головы: «Также обсуждалась возможность бомбардировки императорского дворца. По общему мнению, эта цель не рекомендуется, но любые действия, связанные с ее бомбардировкой, должны быть определены органами, принимающими решения по военной политике».
В результате Комитет по выбору целей, заседавший в кабинете Оппенгеймера под перефразированными словами Линкольна, которые Оппенгеймер повесил на стену, – «Наш мир не может быть наполовину рабским, а наполовину свободным»[2581], – сохранил для дальнейшего рассмотрения четыре цели: Киото, Хиросиму, Иокогаму и арсенал в Кокуре.
И члены комитета, и его консультанты из Лос-Аламоса помнили о радиационном воздействии атомной бомбы – ее наиболее существенном отличии от обычных взрывчатых веществ, – но их больше беспокоила опасность облучения американских летчиков, чем японцев. «Д-р Оппенгеймер представил подготовленную им записку о радиологическом эффекте устройства… Основные рекомендации этой записки сводятся к тому, что 1) исходя из соображений радиационной безопасности ни один самолет не должен находиться на расстоянии менее 4 километров от точки детонации (с учетом воздействия взрыва это расстояние должно быть еще больше), и 2) самолеты должны избегать попадания в облако радиоактивных материалов».
Поскольку предполагаемой мощности обсуждавшихся бомб, видимо, не хватало для уничтожения целых городов, Комитет по выбору целей рассмотрел возможность налетов с бомбардировкой зажигательными бомбами после применения «Малыша» и «Толстяка». Членов комитета беспокоили радиоактивные облака, которые могли быть опасны для экипажей, отправленных Лемеем в такие дополнительные налеты, но они считали, что налет с зажигательными бомбами, произведенный через сутки после атомной бомбардировки, может быть безопасным и «вполне эффективным».
Получив в Лос-Аламосе более ясное представление о том оружии, для которого он выбирал цели, комитет решил провести следующее заседание 28 мая в Пентагоне.
Вэнивар Буш считал, что на втором заседании Временного комитета, состоявшемся 14 мая, произошла «очень откровенная дискуссия». Состав комитета, решил он, был «превосходным»[2582]. Он сообщил о своем мнении Конанту, который не смог присутствовать на заседании. Комитет одобрил состав научной коллегии, предложенный Стимсоном, который обсудил также возможность организации аналогичной группы представителей промышленности. Как отмечается в его официальной записной книжке[2583], такая группа должна была «дать информацию о вероятности повторения другими странами того, что сделала наша промышленность» – то есть о способности других стран построить огромное, высокотехнологичное предприятие, необходимое для производства атомных бомб.
Утром этого майского понедельника члены комитета получили экземпляры памятной записки, которую Буш и Конант направили Стимсону 30 сентября 1944 года. Она была основана на идеях Бора о свободном обмене научной информацией и об инспекциях не только лабораторий, но и военных объектов по всему миру. Буш поспешил выступить с оговорками относительно своей приверженности идее столь открытого мира:
Я… сказал, что, хотя мы составили эту записку в очень недвусмысленном тоне, это, разумеется, не означает, что мы безусловно поддерживаем какой-либо определенный образ действий. Мы считали скорее, что должны заблаговременно изложить свои мысли, чтобы обеспечить возможность обсуждения, в результате которого и по мере дальнейшего изучения этой темы наше мнение вполне может измениться. Я сказал также, что сегодня, по прошествии времени, мы, несомненно, написали бы эту записку несколько иначе, чем в сентябре прошлого года[2584].
По окончании заседания Бирнс забрал свой экземпляр с собой и с интересом его изучил.
Еще не вступивший в должность госсекретарь быстро усваивал информацию. В пятницу 18 мая, когда Временный комитет собрался на следующее заседание, в котором участвовал и Гровс, Бирнс вернулся к теме записки Буша и Конанта сразу после обсуждения проектов заявления для прессы, объявляющих о сбросе первой атомной бомбы на Японию. На этот раз на заседании отсутствовал Буш; Конант передал ему новости:
Мистер Бирнс потратил значительное время на обсуждение нашей записки, составленной прошлой осенью; он внимательно прочитал ее, и она произвела на него сильное впечатление. По-видимому, она навела его на размышления (на что, я полагаю, мы и рассчитывали, когда ее писали). Особенное впечатление произвело на него наше утверждение, что русские могут догнать нас через три или четыре года. Против этого постулата резко выступил генерал [т. е. Гровс], который считает, что гораздо точнее оценивать этот срок в двадцать лет… Оценка генерала основывается на его крайне невысоком мнении о способностях русских, и это предположение кажется мне весьма небезопасным…
Последовало некоторое обсуждение того, к чему может привести столь короткий – четырехлетний – интервал, а также различных международных проблем, в частности вопроса о том, должен ли президент после июльских испытаний сообщить русским о существовании бомбы[2585].
Предложение Бора о включении Советского Союза в обсуждение до того, как атомная бомба станет реальностью, выродилось здесь в вопрос о том, стоит ли сообщать Советам голые факты после испытания первой бомбы, но до применения второй против Японии. Бирнс считал, что ответ на этот вопрос зависит от того, как быстро СССР сможет повторить американские достижения. Ведший протоколы заседания Временного комитета лейтенант Р. Гордон Арнесон вспоминал после войны, что в этом споре «мистер Бирнс считал этот вопрос очень важным»[2586]. Как видно из следующего замечания, которое Конант сделал для Буша, ветеран кулуаров палаты представителей и сената беспокоился по крайней мере не меньше, чем Генри Стимсон, об извлечении из любого обмена информацией равноценной выгоды:
Этот вопрос [о том, следует ли сообщать русским об атомной бомбе до ее применения против Японии] заставил вернуться к Квебекскому соглашению, которое снова показали мистеру Бирнсу. Он спросил генерала, что мы получили взамен, и генерал рассказал в ответ только о договоренностях относительно контроля над Бельгийским Конго [sic]… Бирнс быстро положил конец таким рассуждениям[2587].
Квебекское соглашение 1943 года возобновило партнерство между Соединенными Штатами и Великобританией в области ядерных разработок; по словам Гровса выходило, что оно было заключено в обмен на помощь Британии в получении согласия компании Union Minire на продажу всей ее урановой руды этим двум странам. На самом деле британо-американские отношения были построены на значительно более глубоком фундаменте, и Конант быстро вмешался в разговор, пытаясь ограничить пагубный эффект ошибки Гровса:
Некоторые из нас указали на исторические предпосылки и [отметили, что] наши связи с Англией проистекают из первоначального соглашения о полномасштабном обмене научной информацией… Я предвижу большие проблемы в этой области. Интересно отметить, что мистер Бирнс считает, что конгресс проявит большой интерес к этой фазе процесса[2588].
Если в начале своей работы во Временном комитете Бирнс испытывал глубокое уважение к людям, обеспечившим развитие Манхэттенского проекта, то теперь этого уважения, вероятно, поубавилось. Как сказал Бирнсу Конант[2589], и Стимсон, и Буш разговаривали в Квебеке с Черчиллем. Если, как это казалось, они позволили британцам выманить у себя тайны бомбы – в чем бы, по мнению Бирнса, ни состояли эти тайны – в обмен на несколько тонн урановой руды, то можно ли было доверять их суждению? Зачем отдавать такую потрясающую вещь, как бомба, если не получаешь взамен ничего столь же потрясающего? Бирнс полагал, что международные отношения выстраиваются подобно внутренней политике. Бомба означала силу, причем силу совершенно нового рода, а с точки зрения политики сила является тем же, чем в банковском деле являются деньги, – средством для заключения выгодных сделок. Только простаки и глупцы раздают ее даром.
Тут на сцене появляется Лео Сцилард.
Сциларда, дольше и интенсивнее всех размышлявшего о последствиях открытия цепной реакции, бесило его затянувшееся изгнание из высших государственных советов. Другой политически активный ученый, его младший коллега по Металлургической лаборатории Юджин Рабинович, утверждает, что «другие, несомненно, разделяли ощущение… что мы окружены некой звуконепроницаемой стеной: можно было писать в Вашингтон, можно было поехать в Вашингтон и поговорить там с кем-нибудь, но никакого ответа оттуда не приходило»[2590]. После того как производственные реакторы и очистные установки в Хэнфорде благополучно были запущены в работу, деятельность Металлургической лаборатории замедлилась; у сотрудников Комптона, в особенности у Сциларда, появилось время подумать о будущем. Сцилард говорит, что начал с рассмотрения «целесообразности испытания бомб и применения бомб»[2591]. Рабинович вспоминает «долгие часы, проведенные вместе с Лео Сцилардом в прогулках по Мидуэю [широкому бульвару, образованному на площадке Всемирной выставки[2592], к югу от основного кампуса Чикагского университета] и спорах об этих вопросах и о том, что можно сделать. Я вспоминаю бессонные ночи»[2593].
Нет смысла говорить ни с Гровсом, рассуждал Сцилард в марте 1945 года, ни, если уж на то пошло, с Бушем или Конантом. Разговоры с начальством среднего уровня были запрещены по соображениям секретности. «Был только один человек, с которым, как мы думали, мы заведомо имели право говорить, – вспоминает Сцилард, – это был президент»[2594]. Он подготовил памятную записку для Франклина Рузвельта и поехал в Принстон, чтобы еще раз прибегнуть к надежной помощи Альберта Эйнштейна.
Если не считать некоторых небольших теоретических расчетов для флота, Эйнштейн не участвовал в ядерных разработках военного времени. В начале войны Буш объяснил причины такого положения дел директору Института перспективных исследований:
Я совершенно не уверен, что, допусти я полноценное участие Эйнштейна в этом деле, он не будет говорить о нем так, как говорить о нем не следует… Я очень хотел бы, чтобы у меня была возможность ознакомить его со всем этим предметом… но это совершенно невозможно, учитывая отношение людей, работающих здесь, в Вашингтоне, которые изучили всю его биографию[2595].
Таким образом, великий теоретик, написавший Рузвельту письмо, которое помогло известить правительство Соединенных Штатов о возможности создания атомной бомбы, был исключен из участия в разработке этого оружия по соображениям секретности и негативного отношения к его предыдущей активной политической деятельности – его пацифизму и, вероятно, сионизму. Сцилард не мог показать Эйнштейну свою записку. Он просто сказал своему старому другу, что назревают неприятности, и попросил его написать рекомендательное письмо президенту. Эйнштейн выполнил его просьбу.
Вернувшись в Чикаго, Сцилард попытался связаться с Рузвельтом через его жену. Элеонора Рузвельт согласилась встретиться с ним 8 мая и обсудить его дело. Вдохновленный этим достижением, он зашел в кабинет к Артуру Комптону и признался в своем прегрешении – действиях в обход официальных каналов. К его удивлению, Комптон его поддержал. «В восторге от того, что я не встретил сопротивления там, где ожидал его встретить, – рассказывает Сцилард, – я вернулся к себе в кабинет. Я не пробыл там и пяти минут, как в дверь постучал ассистент Комптона, сообщивший мне, что только что услышал по радио о смерти президента Рузвельта…»
«В течение нескольких дней я совершенно не понимал, что теперь делать», – продолжает Сцилард. Ему нужно было разработать новую тактику. В конце концов ему пришло в голову, что в таком крупном проекте, как Металлургическая лаборатория, наверняка найдется кто-нибудь из Канзас-Сити, штат Миссури, «политической родины» Гарри Трумэна. Он нашел молодого математика Альберта Кана, который еще студентом зарабатывал себе на учебу в организации Тома Пендергаста, политического воротилы из Канзас-Сити. В этом же месяце Сцилард с Каном поехали в Канзас-Сити, заворожили самых высокопоставленных из громил Пендергаста бог весть какой сказкой в духе Сциларда, «и три дня спустя у нас уже было приглашение на встречу в Белом доме»[2596].
Там им преградил путь Мэтью Коннели, секретарь Трумэна, отвечавший за прием посетителей. Прочитав письмо Эйнштейна и меморандум Сциларда, он успокоился. «Теперь я вижу, – сказал он, как вспоминает Сцилард, – что у вас серьезное дело. У меня были сперва некоторые подозрения, потому что эта встреча была организована через Канзас-Сити»[2597]. Трумэн догадался, что беспокоит Сциларда. По указанию президента Коннели отправил венгерского скитальца в город Спартанберг, штат Южная Каролина, оговорить с неким Джимми Бирнсом, частным лицом.
Вместе со Сцилардом в Вашингтон приехал декан Чикагского университета Уолтер Бартки. Чтобы придать своей делегации дополнительный вес, Сцилард еще пригласил с собой нобелевского лауреата Гарольда Юри, и они втроем сели на ночной поезд на юг. Информационная изоляция действовала: «Мы не вполне понимали, зачем президент отправил нас на встречу с Джеймсом Бирнсом… Может быть, он должен был… отвечать за работы с ураном после войны, или что-то еще? Этого мы не знали»[2598]. Трумэн предупредил Бирнса, что к нему едет делегация. Южнокаролинец настороженно принял ее у себя дома. Сначала он прочитал письмо Эйнштейна – «Я очень доверяю суждению [Сциларда]»[2599], – заверял создатель теории относительности, – а затем перешел к памятной записке.
Это был прозорливый документ[2600]. В нем утверждалось, что, подготавливая испытания, а затем и применение атомных бомб, Соединенные Штаты «идут по пути, ведущему к уничтожению того сильного положения, которое [эта страна] занимала до сих пор в мире». Сцилард говорил не о моральном превосходстве, а о превосходстве промышленном: как он писал той же весной в другом месте, военная мощь США была «по существу, обусловлена тем фактом, что Соединенные Штаты могут обогнать любую страну по производству тяжелых вооружений»[2601]. Когда у других стран тоже появится ядерное оружие, что произойдет «всего через несколько лет», это преимущество будет утрачено: «Возможно, самой большой из грозящих нам в ближайшем будущем опасностей является вероятность того, что наша “демонстрация” атомных бомб приведет к гонке между Соединенными Штатами и Россией в области производства этих устройств».
Кроме того, значительная часть меморандума была посвящена тем же вопросам о сравнительных преимуществах международного контроля и попыток сохранения американской монополии, которые задавал и Временный комитет. Но Сцилард утверждал вслед за Бором, что никто из государственных деятелей, занимающихся этой проблемой, по-видимому, не осознает, что «эти решения должны быть основаны не на нынешней ситуации с атомными бомбами, а на том положении дел в этой области, с которым мы, вероятно, столкнемся несколько лет спустя». Нынешняя ситуация состояла в том, что бомбы имеют скромную мощность, и Соединенные Штаты обладают монополией на них; труднее всего было решить, что именно может произойти в будущем. В первый раз Сцилард оскорбил Бирнса в своем меморандуме, сделав вывод, что «оценить эту ситуацию могут только люди, обладающие непосредственными знаниями существенных фактов, то есть небольшая группа ученых, активно участвующих в этой работе». Сообщив таким образом Бирнсу, что считает его некомпетентным, Сцилард предложил затем способ борьбы с этой некомпетентностью:
Если бы в кабинете министров существовал небольшой подкомитет (в который входили бы военный министр, министр торговли или министр внутренних дел, представитель Государственного департамента и представитель президента, исполняющий обязанности секретаря этого комитета), ученые могли бы представлять такому комитету свои рекомендации.
На свет снова являлся «легальный заговор» Герберта Уэллса; Бирнсу, добиравшемуся до вершин власти в течение сорока пяти лет тяжелой политической службы, это совершенно не понравилось:
Сцилард пожаловался мне, что он и некоторые из его сотрудников не имеют достаточно информации о политике правительства в отношении применения бомбы. Он считает, что ученые, в том числе он сам, должны обсудить этот вопрос с правительством, что не кажется мне желательным. Его общая манера и его желание участвовать в принятии политических решений произвели на меня неблагоприятное впечатление[2602].
Как вспоминает Сцилард, Бирнс тут же продемонстрировал опасность недостатка информации, полученной из первых рук:
Когда я заговорил о своей обеспокоенности тем, что Россия может стать атомной державой, причем стать ею скоро, если мы продемонстрируем мощь бомбы и применим ее против Японии, он ответил: «Генерал Гровс говорит, что в России нет урана»[2603].
Тогда Сцилард объяснил Бирнсу то, чего Гровс, слишком занятый скупкой мировых запасов высококачественной руды, по-видимому, не понимал: что месторождения высокочистой руды необходимы для получения такого редкого элемента, как радий, но низкокачественная руда, которая, несомненно, существует в Советском Союзе, вполне пригодна к использованию, когда речь идет о таком распространенном элементе, как уран.
В ответ на утверждение Сциларда, что применение атомной бомбы, и даже испытание атомной бомбы, было бы неосмотрительным шагом, так как раскрыло бы сам факт существования этого оружия, Бирнс, в свою очередь, прочитал физику краткую лекцию по внутренней политике:
Он сказал, что мы потратили на разработку бомбы два миллиарда долларов и конгресс захочет узнать, что мы получили за эти деньги. Он спросил: «Как вы убедите конгресс выделять деньги на исследования атомной энергии, не предъявив результатов, полученных на деньги, уже потраченные?»[2604]
Но самым опасным заблуждением Бирнса было, по мнению Сциларда, его представление о Советском Союзе:
Бирнс считал, что война закончится месяцев через шесть… Его тревожило послевоенное поведение России. Русские войска вошли в Венгрию и Румынию, и Бирнс полагал, что убедить Россию вывести войска из этих стран будет очень трудно, что Россия может стать более уступчивой, если на нее произведет впечатление американская военная мощь, и что демонстрация бомбы может произвести на Россию такое впечатление. Я разделял обеспокоенность Бирнса стремлением России расширить сферу влияния в послевоенный период, но меня ошеломило его предположение, что, размахивая бомбой, мы можем сделать Россию более сговорчивой[2605].
Обескураженные этой встречей, трое ученых, за которыми неотступно следовал один из вездесущих агентов службы безопасности Гровса, сели на ближайший же поезд в Вашингтон.
Там в тот же день заседал Комитет по выбору целей[2606]; на этот раз на заседании присутствовал Пол Тиббетс, а также Толмен и Парсонс. Значительная часть заседания была посвящена тренировочной программе Тиббетса для 509-й сводной группы. Он отправил свои лучшие экипажи на шесть недель на Кубу, чтобы они приобрели там опыт работы с радарами и полетов над морем. «По вопросу нагрузки и дальности, – говорится в протоколе заседания, – полковник Тиббетс доложил, что экипажи взлетали с общим весом 61 200 кг, пролетали 6920 км с бомбовым грузом 4500 кг, бомбили с высоты 9750 м и возвращались на базу с 3400 л горючего. Это превосходит параметры предполагаемого пути до цели, и дальнейшие испытания позволят уменьшить нагрузку до достижения СРП [стандартной рабочей процедуры] с запасом топлива к моменту возврата в 1900 л». 509-я находилась в процессе поэтапного перебазирования на Тиниан. Росло производство «тыкв»; девятнадцать единиц уже были отправлены в Уэндовер, и некоторые из них сброшены.
Лемей тоже не сидел без дела. «Объявлены три зарезервированные цели для первого устройства данного проекта. С учетом текущей и будущей интенсивности фугасной бомбардировки [20-й воздушной армией] предполагается завершить стратегическую бомбардировку Японии к 1 января 1946 г., в связи с чем наличие будущих целей проблематично». Другими словами, если Манхэттенский проект не поторопится, в Японии не останется городов, которые можно было бы бомбить.
Тремя зарезервированными целями были Киото, Хиросима и Ниигата. В заключительной части отчета омитет окончательно перестал делать вид, что преследует военные цели:
Заседание пришло к следующим выводам:
1) не указывать прицельные точки, так как они должны быть определены позднее, на базе, когда будут известны погодные условия;
2) не ориентироваться при точном определении цели на промышленные зоны, так как в этих трех целях такие зоны малы, распределены по окраинам городов и сильно разбросаны;
3) по возможности попасть первым устройством в центр выбранного города; не допустить последующего применения еще 1 или 2 устройств для полного уничтожения.
Тем дело и кончилось; Комитет по выбору целей не планировал других заседаний, но оставался в готовности.
Стимсон питал отвращение к бомбардировке городов. Как он говорил после войны в написанных от третьего лица воспоминаниях, «на протяжении тридцати лет Стимсон оставался защитником международного права и нравственности. Он многократно утверждал с позиций военного и члена правительства, что сама война должна быть ограничена соображениями человечности… Возможно, как он говорил впоследствии, его ввели в заблуждение постоянные разговоры о “точечных бомбардировках”, но он верил, что применение даже военно-воздушных сил может быть ограничено старой концепцией “законных военных целей”». Зажигательные бомбардировки относились к «тому типу тотальной войны, который всегда был ему ненавистен»[2607]. По-видимому, он считал, что даже атомную бомбу можно каким-то образом применять гуманно, о чем и говорил с Трумэном 16 мая:
Я страстно желаю ограничить деятельность наших ВВС, насколько это возможно, «точечными» бомбардировками, которые они так хорошо производили в Европе. Как мне говорили, это возможно и целесообразно. Репутация приверженца справедливости и гуманизма, которой пользуются Соединенные Штаты, является важнейшим залогом мира в ближайшие десятилетия. Я считаю, что те же правила непричинения вреда гражданскому населению следует, насколько это возможно, соблюдать и при применении любого нового оружия[2608].
Но военный министр имел над вооруженными силами, которыми он был назначен управлять, меньшую власть, чем ему хотелось бы, и девять дней спустя, 25 мая, 464 В-29 Лемея – почти вдвое больше, чем участвовало в его первом маловысотном налете с зажигательными бомбами 9 марта, – еще раз успешно выжгли почти 41 квадратный километр Токио. Правда, «Обзор стратегических бомбардировок» утверждает, что при этом погибло всего несколько тысяч японцев, в то время как число жертв более раннего комплексного пожара составило 86 000. Этот налет, произведенный в конце мая, наделал много шуму в газетах; Стимсон был в ужасе.
30 мая[2609] Гровс поехал из своего управления на Виргиния-авеню за реку[2610] и встретился со Стимсоном. Отчаяние последнего в связи с бомбардировкой японских городов дало толчок к судьбоносному разговору, о котором генерал впоследствии рассказывал интервьюеру:
Когда я был в кабинете Стимсона и обсуждал с ним какой-то вопрос, связанный с бомбой, он спросил меня, выбрал ли я цели. Я ответил, что у меня уже готов доклад на эту тему, и на следующее утро я собирался отнести его на утверждение генерала Маршалла. Тогда Стимсон сказал: «Значит, ваш доклад уже закончен, не правда ли?» Я сказал: «Мне еще нужно его проверить, мистер Стимсон. Я хочу быть уверен, что в нем все правильно». Он сказал: «Тогда я хотел бы на него посмотреть», а я сказал: «Дело в том, что он у меня за рекой, и его придется долго ждать». Он сказал: «В моем распоряжении весь день, и я знаю, как быстро работают ваши сотрудники. Вон там на столе стоит телефон. Позвоните по нему в свое управление и попросите их привезти доклад». Доклад привезли минут через пятнадцать или двадцать, и все это время я нервничал и волновался, что действую через голову генерала Маршалла… Но ничего поделать я не мог, и, когда я робко заметил, что считаю, что сначала этот материал следовало бы просмотреть генералу Маршаллу, Стимсон сказал: «На этот раз окончательное решение буду принимать я. Никто мне не будет указывать, что делать по этому поводу. По этому вопросу я главный, так что везите-ка сюда ваш доклад». Пока мы ждали, он спросил меня, какие города я собираюсь бомбить или какие цели. Я рассказал ему о нашем решении и сказал, что наиболее предпочтительной целью считается Киото. Этот город стоял в списке первым, потому что с учетом его размеров нам не пришлось бы сомневаться относительно воздействия бомбы… Он тут же сказал: «Я не хочу, чтобы Киото бомбили». И стал рассказывать мне о долгой истории этого культурного центра Японии, бывшей древней столицы, и о множестве причин, по которым он не хочет, чтобы этот город бомбили. Когда доклад привезли и я передал его Стимсону, он уже принял решение. Это не вызывает сомнений. Просмотрев доклад, он подошел к двери, отделявшей его кабинет от кабинета Маршалла, открыл ее и сказал: «Генерал Маршалл, зайдите, пожалуйста, ко мне, если вы не заняты». После этого министр попросту подставил меня, потому что безо всяких объяснений сказал Маршаллу: «Маршалл, Гровс только что принес мне свой доклад по предлагаемым целям». Затем он сказал: «Мне он не нравится. Мне не нравится идея использовать Киото»[2611].
Итак, по меньшей мере Киото, японский Рим, основанный в 793 году, знаменитый своими шелками и эмалями, центр буддистской и синтоистской религий с сотнями исторических храмов и святилищ, решено было пощадить, хотя Гровс еще в течение нескольких недель испытывал решение своего начальника на прочность. Также нетронутым остался и императорский дворец в Токио, хотя окружающий его город лежал в руинах. У разрушительной силы войны еще были пределы: мощность оружия все еще была настолько скромной, что позволяла делать такие исключения.
В четверг 31 мая Временный комитет должен был собраться при полном параде вместе со своей научной коллегией, а в пятницу 1 июня – с консультантами от промышленности. Комитет начальников штабов подготовил почву для этих заседаний, отдав 25 мая командующим на Тихоокеанском театре военных действий и Счастливчику Арнольду официальный приказ, определявший военную политику США в отношении Японии на ближайшие месяцы:
Комитет начальников штабов устанавливает плановый срок вторжения на Кюсю (операция «Олимпик») на 1 ноября 1945 г. с целью:
1) интенсификации блокады и воздушных бомбардировок Японии;
2) окружения и уничтожения крупных сил противника;
3) поддержки дальнейших действий для создания условий, благоприятных для решающего вторжения в промышленный центр Японии[2612].
Трумэн еще не утвердил вторжения в Японию. Один из его советников предлагал использовать морскую блокаду, чтобы голод заставил японцев сдаться. Вскоре президент сказал Комитету начальников штабов, что оценит имеющиеся варианты «с целью максимального возможного сокращения потерь американских жизней»[2613]. По оценке Маршалла, которую подтверждал находившийся на фронте Макартур, число потерь – убитыми, ранеными и пропавшими без вести – за первые тридцать суток после высадки на самый южный из Японских островов не должно было превысить 31 000 человек[2614]. Предполагалось, что вторжение на главный остров архипелага, Хонсю, с противоположного края равнины от Токио, принесет пропорционально большие потери.
Вернувшись из Южной Каролины в Вашингтон, Сцилард разыскал Оппенгеймера, только что приехавшего в город на заседание Временного комитета, и попытался сагитировать его. Директор Лос-Аламоса настолько напряженно работал над завершением первых атомных бомб, что еще за две недели до этого Гровс сомневался, сможет ли он выбраться на заседание 31 мая[2615]. Но Оппенгеймер ни за что на свете не упустил бы возможности высказать свое мнение на столь высоком уровне. Однако его искреннее видение будущего того оружия, которое он создавал, было настолько же неромантическим, насколько, по мнению Сциларда, было необоснованным его понимание насущной потребности в нем:
Я сказал Оппенгеймеру, что считаю применение бомбы против японских городов очень серьезной ошибкой. Оппенгеймер не разделял моего мнения. К моему удивлению, он начал разговор со слов «Атомная бомба – дерьмо». «Что вы имеете в виду?» – спросил я. Он сказал: «Видите ли, это оружие не имеет военного значения. Оно произведет большой шум – очень большой шум, – но пользы в войне от него никакой». Однако он считал, что важно сообщить русским, что у нас есть атомная бомба и мы собираемся применить ее против японских городов, – чтобы это не было для них неожиданностью. Эта мысль показалась мне разумной… Однако эта мера, хотя и необходимая, несомненно, не была достаточной. «Что же, – сказал Оппенгеймер, – не думаете ли вы, что если мы расскажем русским, что мы собираемся сделать, а потом применим бомбу в Японии, то русские поймут, что это значит?» И я, насколько я помню, сказал: «Поймут, и очень ясно»[2616].
Ночью 30 мая Стимсона мучила бессонница, и на следующее утро он прибыл в Пентагон в отвратительном самочувствии. Комитет собрался на заседание к 10 утра[2617]. На него были приглашены Маршалл, Гровс, Харви Банди и еще один помощник, но внимание Стимсона было сосредоточено на четырех ученых, три из которых были нобелевскими лауреатами. Престарелый военный министр тепло приветствовал их, выразил свое восхищение их достижениями и постарался убедить их, что они с Маршаллом понимают, что плод их трудов будет чем-то большим, чем просто увеличенный боеприпас. Рукописные заметки, которые он подготовил к этому совещанию, показывают, с каким благоговением он относился к бомбе; обычно ему не были свойственны напыщенные выражения:
S.1Размер и свойства
Мы не думаем, что это просто новое оружие
Революционное открытие в отношениях человека со Вселенной
Великое историческое событие, подобное
Открытию гравитации
Теории Коперника
Но
Его можно считать бесконечно более важным с точки зрения влияния
на повседневные дела человеческой жизни
Может уничтожить или довести до совершенства мировую цивилизацию
Может [стать] Франкенштейном или путем к миру во всем мире[2618]
Оппенгеймер был удивлен и обрадован. Когда умер Рузвельт, говорил он своим слушателям впоследствии, он ощутил «ужасную утрату… отчасти потому, что мы не были уверены, что кто-либо в Вашингтоне будет думать о том, что нужно будет сделать в будущем». Теперь же он увидел, что «полковник Стимсон напряженно и серьезно думал о том, какие последствия принесет человечеству то, что мы создали, и то, что в стене, отделяющей нас от будущего, мы сделали пролом»[2619]. И, хотя Оппенгеймер знал, что Стимсон никогда не беседовал с Нильсом Бором, ему казалось, что министр высказывает мысли, не столь далекие от боровского понимания дополнительности бомбы.
После вступительного слова Стимсона Артур Комптон представил технический обзор ядерных разработок, сказав в заключение, что конкурентам потребуется, вероятно, лет шесть, чтобы догнать Соединенные Штаты. Конант упомянул о термоядерном устройстве и спросил Оппенгеймера, за какое время может быть создано это, гораздо более мощное, оружие; Оппенгеймер оценил минимальный срок в три года. Затем директор Лос-Аламоса взял слово и рассказал о предполагаемой взрывной силе. Бомбы первой стадии, сказал он, имея в виду грубые конструкции наподобие «Толстяка» и «Малыша», могут взрываться с мощностью, эквивалентной от 2000 до 20 000 тонн ТНТ. Эта вновь полученная оценка была выше того значения, которое Бете называл Комитету по выбору целей на его заседании в Лос-Аламосе в середине мая. Оружие второй стадии, продолжал Оппенгеймер – предположительно, имея в виду усовершенствованные атомные бомбы с улучшенными системами имплозии, – могут достигать мощности 50 000 или 100 000 тонн ТНТ. Мощность термоядерного оружия может оказаться в диапазоне от 10 миллионов до 100 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте.
Эти цифры были знакомы большинству присутствовавших в зале и не произвели на них большого впечатления. Бирнс, по-видимому, о них не знал, и они серьезно его встревожили: «Слушая, как эти ученые… предсказывают разрушительную силу своего оружия, я ощутил сильный страх. Мне хватило воображения представить себе, насколько опасным для нас будет появление такого оружия у какой-нибудь другой страны»[2620]. Но пока личный представитель президента продолжал выжидать.
Эрнест Лоуренс с характерной для него энергичностью заявил, что США могут обогнать весь мир, если будут знать и делать больше, чем любая другая страна. Он изложил ясную программу действий для страны, о которой странным образом не упоминается в материалах всех предыдущих совещаний и дискуссий, и эта программа была диаметрально противоположной глубокой мысли Оппенгеймера о том, что атомная бомба – дерьмо:
Д-р Лоуренс рекомендовал энергично выполнять программу расширения производства с одновременным накоплением значительного запаса бомб и материалов… Только энергичное продолжение необходимого расширения производства и фундаментальных исследований… позволит нашей стране сохранить преимущество.
Эта программа была готовым рецептом гонки вооружений – начиная с того момента, как в игру включится Советский Союз. Артур Комптон немедленно выразил свое согласие. К нему присоединился и его брат Карл. Оппенгеймер лишь добавил примечание о распределении материалов. Стимсон подвел итоги обсуждения:
1. Сохранение существующих производственных мощностей.
2. Накопление значительного запаса материалов для военного применения, а также промышленного и технического применения.
3. Создание возможностей для промышленного производства.
Оппенгеймер возразил, что ученых нужно будет отпустить обратно в университеты, где они смогут заниматься серьезной наукой; во время войны, сказал он, они пожинали плоды предыдущих исследований. Буш решительно поддержал его. Комитет перешел к вопросу международного контроля, и Оппенгеймер возглавил обсуждение этой темы. Точной записи его слов не сохранилось – осталось только их изложение в протоколе заседания, который вел молодой стенографист Гордон Арнесон, – но, если эта запись верно передает сказанное, основной тезис Оппенгеймера отличался от тезиса Бора и вводил в заблуждение:
Д-р Оппенгеймер отметил, что наиболее насущной заботой было приближение окончания войны. Исследования, которые обеспечили возможность таких достижений, только открыли путь к будущим открытиям. Фундаментальные знания в этой области настолько распространены в мире, что следует заблаговременно принять меры по извещению всего мира о наших достижениях. Он считает, что Соединенным Штатам было бы разумно предложить всему миру свободный обмен информацией с особым акцентом на разработку приложений для мирного времени. Главной целью всех предприятий в этой области должно быть повышение благосостояния человечества. Если мы предложим начать обмен информацией еще до применения бомбы, это значительно укрепит нашу позицию с этической точки зрения.
Куда делась осознанная Бором идея, что бомба – источник ужаса, но именно по этой причине и источник надежды, средство единения народов перед общим для всех страхом угрожающего яерного противостояния? Задача не сводилась к организации обмена информацией для улучшения этической позиции Америки; задачей было заставить государственных деятелей вступить в переговоры о выходе из того обоюдно опасного положения, которое создаст в противном случае новое оружие. Открытость неизбежно должна была появиться вследствие таких переговоров, стать гарантией безопасности; в реальном мире, пронизанном секретностью и подозрениями, было бы нереалистично полагать, что она может предшествовать им. В 1963 году, когда Оппенгеймер выступал с лекцией о Боре, он достаточно хорошо сознавал фундаментальную слабость своего тезиса:
И Буш, и Комптон, и Конант ясно видели, что единственное будущее, в которое можно смотреть с надеждой, подразумевает международный контроль над всей этой технологией. Понимал это и Стимсон; он понимал, что это означает чрезвычайно сильные перемены в человеческой жизни; понимал он также и то, что центральной проблемой на тот момент были наши отношения с Россией… Но были и отличия: Бор выступал за действия, за своевременные и ответственные действия. Он сознавал, что эти действия должны совершаться теми, кто обладает полномочиями брать и выполнять обязательства. Он хотел изменить всю систему, в которой возникает эта проблема, причем настолько рано, чтобы это изменило и проблему. Он верил в государственных мужей; он использовал это слово снова и снова; к комитетам он не питал особой любви. Временный комитет был комитетом, что он и доказал, учредив еще один комитет – Научную коллегию[2621].
Никто не вправе осуждать этих людей, пытавшихся разобраться с будущим, которое лишь с трудом мог вообразить даже такой гениальный разум, какой был у Бора. Но если у Роберта Оппенгеймера когда-либо и был случай представить идеи Бора тем, кто обладал полномочиями брать и выполнять обязательства, то этот случай представился именно этим утром. Он не высказал простые и суровые истины датчанина. Вместо этого он говорил от имени Бора, как Аарон – от имени Моисея. А самого Бора, хотя он ждал неподалеку, в Вашингтоне, не пригласили в эту «Звездную палату», собравшуюся в зале с темными панелями на стенах.
Даже Стимсону утверждения Оппенгеймера показались ошибочными. Он немедленно спросил, «каким будет в такой программе международного контроля в сочетании со свободой науки положение демократических правительств по сравнению с тоталитарными режимами» – как будто в новом, открытом мире, ни демократические, ни тоталитарные страны никак не изменятся; это непонимание было порождено непониманием Оппенгеймера. И породило новое непонимание: «Министр сказал… что, по его личному мнению, демократические страны совсем не плохо перенесли эту войну. Д-р Буш энергично поддержал эту точку зрения». Затем Буш, сам того не зная, описал локальный вариант того, чем мог стать открытый мир Бора: «Он сказал, что наше огромное преимущество в большой степени порождено нашей системой командной работы и свободного обмена информацией». И тут же вернулся к расширенному статус-кво по Стимсону: «Однако он выразил некоторые сомнения в нашей способности постоянно сохранять свое преимущество, если нам придется передать все результаты своих исследований русским в условиях свободной конкуренции и без получения чего-либо равноценного взамен».
Разговор становился все более странным, а Бирнс сидел среди его участников, пытаясь представить себе оружие, эквивалентное 100 миллионам тонн ТНТ, пытаясь представить себе, что означало бы владение таким оружием, и слушая всех этих высокообразованных людей, почти исключительно принадлежащих к элите Восточного побережья США, окончивших Гарвард и МТИ, Принстон и Йель, которые, как ему казалось, беззаботно предлагали отдать секрет изготовления такого оружия.
Стимсон уехал в Белый дом на какую-то церемонию, и разговор зашел о России, в которой Бирнс видел надвигающуюся жестокую силу, уничтожавшую в этот момент Польшу. Оппенгеймер снова взял слово:
Д-р Оппенгеймер отметил, что Россия всегда весьма благосклонно относилась к науке, и предположил, что мы можем затронуть эту тему в контактах с нею осторожным образом и в самых общих терминах, не раскрывая никаких подробностей нашей работы. Он считает, что мы могли бы сказать, что в этот проект вложены большие силы на уровне всей страны, и выразить надежду на сотрудничество с ними в этой области. Он убежден, что нам не следует строить безосновательные предположения относительно позиции России по этой теме.
В этом вопросе Оппенгеймер нашел поддержку у Джорджа Маршалла, который «пространно говорил об истории обвинений и встречных обвинений, типичных для наших отношений с русскими, отмечая, что такие утверждения по большей части оказываются голословными». По мнению Маршалла, то, что Россия считается несклонной к сотрудничеству, «было вызвано необходимостью поддержания безопасности». Он полагал, что для начала нужно образовать «объединение держав сходного мировоззрения, что заставит Россию примкнуть к нему уже из-за одной силы такой коалиции». Такое давление действовало во времена пороха, теперь уже почти отошедшие в прошлое, но становилось бессильно во времена атомной бомбы. Как было видно из оценок Оппенгеймера, ее мощь должна была быть достаточной, чтобы позволить одной стране противостоять всему миру.
Вероятно, главной неожиданностью этого утра стало предложение Маршалла раскрыть карты перед Москвой: «Он поднял вопрос о возможности и желательности приглашения двух видных русских ученых на испытания [“Тринити”]». Гровс, наверное, вздрогнул; после многих лет секретности, после тысяч изнурительных человеко-часов обеспечения безопасности это казалось сдачей позиций, достойной самого Бора.
С Бирнса было довольно. Он сидел за спиной Франклина Рузвельта в Ялте, делая заметки о переговорах. По всем параметрам, кроме чисто формальных, он занимал самое высокое положение из всех, даже выше, чем Генри Стимсон. Он твердо заявил о своей позиции, и умудренные опытом комитетчики легко пошли на попятную:
М-р Бирнс выразил опасение, что в случае предоставления русским информации, даже в общих терминах, Сталин потребует вовлечения в сотрудничество. Он считает, что это особенно вероятно с учетом наших обязательств и обещаний относительно сотрудничества с Британией. В связи с этим д-р Буш отметил, что чертежей наших заводов нет даже у британцев. М-р Бирнс высказал мнение, с которым в целом согласились все присутствующие, что наиболее желательным образом действий было бы как можно более быстро и интенсивно продолжать производство и исследования, чтобы обеспечить сохранение нашего преимущества, в то же время прилагая все усилия к улучшению наших политических отношений с Россией.
Когда вернулся Стимсон, Комптон пересказал ему суть того важного разговора, который военный министр пропустил – «необходимость сохранения нашего преимущества с одновременной работой над достижением адекватных политических соглашений». После этого Маршалл ушел по служебным делам, а остальные члены комитета отправились на обед.
В столовой Пентагона они расселись за соседними столами. Их комитет был гражданским; отдельные разговоры за обедом возвращались к одному и тому же вопросу, который лишь кратко упоминался на утреннем заседании и не обсуждался подробно: нет ли какого-нибудь средства пронести чашу сию мимо них? Обязательно ли сбрасывать «Малыша» на японцев так неожиданно? Нельзя ли предупредить упорного неприятеля заранее или устроить демонстрационный взрыв?[2622]
Стимсон, оказавшийся в центре одной из бесед (в центре другой был Бирнс), возможно, говорил о своем негодовании по поводу массового уничтожения гражданского населения и своего соучастия в нем. Оппенгеймер вспоминает, что он высказался в этом смысле где-то в течение дня, а неформальные разговоры велись только за обедом:
[Стимсон подчеркнул] ужасный недостаток совести исочувствия, порожденный войной… беспечность, безразличие и молчание, которыми мы встречали массированные бомбардировки в Европе и, прежде всего, в Японии. Он был не в восторге от бомбежек Гамбурга, Дрездена, Токио… Полковник Стимсон считал, что мы деградировали до предела; что для исправления этого ущерба потребуется новая жизнь, новое дыхание[2623].
Единственным зарегистрированным ответом на покаяние Стимсона остается восхищение Оппенгеймера, но известны несколько ответов на вопрос о предупреждении японцев или демонстрации атомной бомбы. Оппенгеймер не мог придумать достаточно убедительной демонстрации:
Вы можете спросить себя, мог ли гигантский ядерный фейерверк, взорванный на огромной высоте и не причинивший большого вреда, повлиять на японское правительство, такое, каким оно тогда было, расколотое на партию мира и партию войны, – и ваш ответ будет ничем не хуже моего. Я не знаю[2624].
Поскольку будущий государственный секретарь обладал полномочиями брать и выполнять обязательства, важно знать ответ, который давал на этот вопрос Бирнс. В мемуарах, написанных в 1947 году, он вспоминает несколько таких ответов:
Мы опасались, что, если японцам сказать, что бомба будет применена в определенном месте, они могут свезти в этот район наших ребят, бывших у них в плену. Кроме того, эксперты предупредили нас, что статические испытания, которые должны были быть проведены в Нью-Мексико, даже в случае их успеха не давали полной гарантии, что бомба взорвется при сбросе с самолета. Если бы мы предупредили японцев о новом, чрезвычайно разрушительном оружии, надеясь запугать их, а потом бомба не взорвалась бы, то мы бы, конечно, только сыграли на руку японским милитаристам. После этого японцы, вероятно, не поверили бы никаким заявлениям, которыми мы пытались бы убедить их капитулировать[2625].
Позднее, в телевизионном интервью, он делал больший упор на политические соображения: «Президенту пришлось бы взять на себя ответственность за извещение всего мира о том, что у нас есть эта атомная бомба и какая она потрясающая… и если бы она не сработала, бог знает, как пошла бы после этого война»[2626].
Как вспоминает Эрнест Лоуренс, кто-то из собравшихся заключил, что «число убитых бомбой, в общем, должно быть не больше количества людей, уже погибших в налетах с зажигательными бомбами»[2627], принимая эти бойни за точку отсчета, каковой они и были до появления этого нового оружия с его чудовищным потенциалом.
Вернувшись в кабинет Стимсона, озабоченные участники совещания посвятили большую часть второй половины дня обсуждению воздействия бомбардировок на японцев и их боевой дух. Кто-то, чье имя не сохранилось, сомневался в разрушительной силе атомной бомбы, уверяя, что «ее эффект будет не намного отличаться от последствий налета воздушного корпуса нынешних масштабов». Оппенгеймер выступил в защиту пиротехнических свойств своего творения, упомянув электромагнитное и ядерное излучение, которое оно испускает:
Д-р Оппенгеймер заявил, что визуальный эффект атомной бомбардировки будет поразительным. Взрыв будет сопровождаться ярким свечением, которое поднимется на высоту от 3000 до 6000 метров. Воздействие нейтронов, порожденных взрывом, будет опасно для жизни в радиусе не менее километра.
Вероятно, именно на этом послеобеденном заседании Оппенгеймер рассказал о подготовленной в Лос-Аламосе оценке числа смертей, которые может вызвать взрыв бомбы над городом. Артур Комптон вспоминает цифру в 20 000 человек[2628], полученную, по его словам, в предположении, что после начала налета и до взрыва бомбы обитатели города попытаются укрыться в убежищах. Затем, как он вспоминает, Стимсон заговорил о Киото, «городе, который нельзя бомбить». Министр по-прежнему энергично настаивал, что «целью является уничтожение военных объектов… а не гражданского населения»[2629].
Противоречие, заключавшееся в этой оговорке Стимсона, сохранилось и в кратком изложении результатов послеобеденного заседания, которое он сформулировал прежде, чем ушел с совещания в половине четвертого:
После длительной дискуссии о разных типах целей и требуемых эффектах министр сформулировал выводы, с которыми согласились все участники: что мы не можем предупредить японцев; что мы не можем выбрать целью зону проживания гражданского населения; но что мы должны стремиться произвести глубокое психологическое впечатление на как можно большее число жителей. Министр согласился с предположением д-ра Конанта, что наиболее желательной целью был бы жизненно важный военный завод с большим количеством работников, тесно окруженный домами работников.
Такие же критерии выбора целей применялись в общем случае в Европе, но Кертис Лемей утверждал, что японцы работают по своим домам, целыми семьями:
Мы стремились уничтожать военные цели. Убивать гражданское население просто ради убийства было бессмысленно. Разумеется, в Японии это различие было весьма тонким, но оно все же было. Дело было в их системе рассредоточения производства. Стоило только посмотреть на одну из уже разбомбленных целей и увидеть там развалины множества маленьких домиков – и из развалин каждого дома торчал сверлильный станок. Все население участвовало в этом спектакле и работало по домам, производя самолеты или боеприпасы… мужчины, женщины, дети. Мы знали, что, когда мы поджигаем город, мы убиваем множество женщин и детей. Но это было необходимо[2630].
Итак, Стимсон ушел с заседания. Артур Комптон хотел поговорить о проблемах Металлургической лаборатории. Перед этим, последним в этот день, разговором по комнате вновь вспомнили о Лео Сциларде. Гровс только что узнал об очередном витке сцилардовского заговора. Генерал был в ярости: «Генерал Гровс заявил, что программа с самого начала страдала от присутствия некоторых ученых, проявляющих сомнительное благоразумие и неопределенные политические пристрастия». После разговора с Оппенгеймером Сцилард уехал в Нью-Йорк и утром того же дня, в который проходило заседание комитета, разыскал там Бориса Прегеля, французского торговца металлами русского происхождения, бонвивана, который помогал Колумбийскому университету на начальном этапе работ. Ему же принадлежали рудники на Большом Медвежьем озере, из которых Манхэттенский проект получал урановую руду. 16 мая Сцилард послал Прегелю отредактированный вариант меморандума, который он составил для Трумэна. По словам Гровса, он знал обо всем этом из «секретных разведывательных источников». Встретившись с Прегелем сразу после разговора с Бирнсом, прошедшего 28 мая, Сцилард «выразил мнение, – говорит Гровс, – что некоторые высокопоставленные лица в правительстве [т. е. Бирнс] получили от армии [США] совершенно неверную информацию относительно [имеющихся у России] источников руды. Он утверждал, что эта дезинформация была намеренной»[2631]. Выискиванием заговоров могли заниматься – и занимались в самый разгар споров о необходимости тотального уничтожения людей в тотальной войне – многие.
На следующее утро, 1 июня, Временный комитет встретился с четырьмя промышленниками[2632]. Президент компании Du Pont Уолтер С. Карпентер предположил, что для сооружения производства плутония, подобного Хэнфорду, Советскому Союзу потребуется «не менее четырех или пяти лет». Президент Tennessee Eastman Джеймс Уайт «сомневался, что Россия [вообще] сумеет получить оборудование, достаточно точное для создания [установки для электромагнитного разделения изотопо]». Президент компании Westinghouse Джордж Бухер считал, что Советы смогут построить электромагнитную установку за три года, если привлекут к работе немецких техников и ученых. Вице-президент Union Carbide Джеймс Рафферти предсказал еще более долгие сроки: десять лет на строительство газодиффузионной установки с нуля, но если Советы добудут барьерную технологию через своих шпионов – три года.
Бирнс мысленно прибавил к срокам строительства установок длительность переработки: «Я заключил, что любому государству потребуется для производства бомбы по меньшей мере от семи до десяти лет»[2633]. С точки зрения политики семь лет можно было считать тысячелетием.
Стимсона по-прежнему приводила в ужас мысль об уничтожении атомной бомбой целых городов. Во второй половине дня, покинув заседание Временного комитета, он попытался отдалить от себя этот ужас, еще раз поговорив о точечных бомбардировках со Счастливчиком Арнольдом, которого, по его словам, он «строго допросил»[2634]. «Я сказал ему об обещании, полученном от [заместителя министра обороны по военно-воздушным силам Роберта] Ловета, что в Японии будут применяться только точечные бомбардировки… Я хотел узнать, как обстоит дело в этой области». Арнольд рассказал Стимсону о рассредоточенной японской промышленности. Массированные бомбардировки были единственным средством уничтожения всех этих сверлильных станков. «Однако он сказал мне, что они стараются ограничивать их, насколько это возможно». Несколько дней спустя Стимсон решил пересказать эту историю Трумэну, добавив к ней для полноты картины некоторое количество противоречивых побуждений: