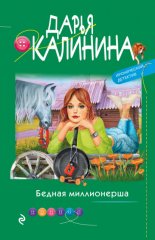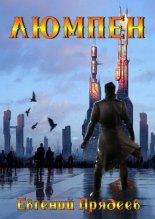Беседы о музыке с Сэйдзи Одзавой Мураками Харуки

За этим следует красивое и изящное переплетение фортепиано и оркестра.
Одзава: Все, это уже полностью царство Гульда. Он безраздельно владеет ситуацией. В Азии очень важно «ма» – умение правильно взять паузу[2]. Но и на западе есть музыканты, которые это понимают, такие как Гульд. Не все, конечно. Рядовые музыканты этого не делают. Но такие, как он, умеют.
Мураками: Значит, рядовые музыканты этого не делают?
Одзава: Нет. А если и делают, то не так естественно. Не могут стянуть к себе все нити. Умение сделать паузу – по сути своей искусство красиво стянуть к себе все нити. Будь ты европеец или азиат, главное – делать это виртуозно.
Мураками: За все время вы записали это произведение только с Рудольфом Сёркином.
Одзава: Да, единственный раз, с Сёркином. Мы с ним записали все концерты. Должны были записать и всего Брамса, но не успели. Сёркин заболел и умер.
Мураками: Очень жаль.
В исполнении оркестра тихо звучит длинная фраза.
Мураками: Наверное, оркестру сложно тянуть в таком медленном темпе?
Одзава: Конечно, сложно.
В медленном темпе фортепиано переплетается с оркестром.
Одзава: Ой, не совпали.
Мураками: И правда, слышался сбой.
Одзава: Здесь, пожалуй, излишне свободно. Я сейчас считал [метр]. Пожалуй, все-таки слишком свободно.
Мураками: Хотя Караян с Гульдом, чье исполнение мы только что слышали, тоже часто не совпадали.
В крайне медленном темпе звучит фортепианное соло.
Мураками: Мало кто из пианистов способен сыграть вторую часть не слишком медленно, так, чтобы зал не заскучал.
Одзава: Это верно.
Заканчивается вторая часть [10.47].
Одзава: Впервые это произведение я исполнял с пианистом Байроном Дженисом. В Чикаго, на «Равинии». [Примечание Мураками. Ежегодный летний музыкальный фестиваль в пригороде Чикаго. В основном с участием музыкантов Чикагского симфонического оркестра.]
Мураками: Байрон Дженис, да, есть такой пианист.
Одзава: Затем с Альфредом Бренделем. С ним Третий фортепианный концерт Бетховена мы исполнили в Зальцбурге. После этого, кажется, с Мицуко Утидой. И только потом с Сёркином.
Сёркин и Бернстайн, третий фортепианный концерт БЕТХОВЕНА
Мураками: Послушайте, пожалуйста, еще одно исполнение Третьего концерта.
Одзава: Давайте послушаем.
Начинается первая часть. Самое начало, быстрый темп оркестра.
Одзава: И снова совсем другое звучание. Это быстро! Да, быстро. Да они просто несутся.
Мураками: Грубо?
Одзава: Да, грубо, еще и несутся к тому же.
Мураками: С точки зрения ансамблизма тоже резковато.
Одзава: Да, резковато.
Вступление оркестра заканчивается, в таком же сверхэнергичном темпе врывается фортепиано [3.08].
Одзава: Тоже порывисто.
Мураками: Оба стараются бежать. Но скользят.
Одзава: Дирижер явно дирижирует на два, не на четыре. Размер получается не четырехчастный, а двухчастный.
Мураками: Получается, он вынужден использовать двухчастный размер из-за слишком быстрого темпа?
Одзава: В старых партитурах иногда встречается двухчастный размер. Хотя сейчас правильным считается 4/4. В начале он явно дирижирует на 2/2. Отсюда и скольжение.
Мураками: То есть, в зависимости от темпа произведения, дирижер решает, будет ли размер четырехчастным или двухчастным?
Одзава: Верно. Если исполнять достаточно медленно, размер определенно будет 4/4. Согласно последним исследованиям, правильный размер для этого произведения – четырехчастный. Но когда я учился, можно было дирижировать как на 2/2, так и на 4/4.
Мураками: Я не знал. Это Сёркин и Леонард Бернстайн, Нью-Йоркский филармонический оркестр. Запись шестьдесят четвертого года. Через пять лет после Гульда.
Одзава: Довольно странное исполнение.
Мураками: Куда так торопиться.
Одзава: Невообразимо.
Мураками: Мне казалось, играть вот так, наскоком – совсем не в духе Рудольфа Сёркина. Или в те годы это было модно?
Одзава: Может быть. Это же шестьдесят четвертый? В моду как раз вошло старинное исполнение. В принципе, для него характерны быстрый темп и малая реверберация. И короткие смычки у струнных. Возможно, дело в этом. Я бы сказал «исполнили залпом». Совершенно не по-немецки.
Мураками: Нью-Йоркской филармонии это вообще свойственно?
Одзава: По сравнению с Берлинской или Венской ей, конечно, недостает немецкого духа.
Мураками: Бостонский оркестр другой, верно?
Одзава: Да, он мягче. Бостонский так не работает. Ему такое не понравится.
Мураками: А Чикагский ближе к Нью-Йоркскому?
Одзава: Да. А вот Кливлендский так не исполнил бы. Он ближе к Бостонскому. Поспокойнее, без резкостей. Да ладно оркестр, я не могу поверить, что это играет Сёркин. Ох, как скользит.
Мураками: Может, Бернстайн хотел противопоставить свое исполнение караяновскому Бетховену?
Одзава: Возможно. Но Ленни и последнюю часть Девятой симфонии Бетховена исполнял в крайне медленном темпе. Думаю, записи не осталось, но я видел по телевизору. Выступление было в Зальцбурге. Значит, либо Берлинская, либо Венская филармония. Настолько медленно, что хотелось кричать: «Эй, это уж слишком!» Помните, квартет в конце? Вот там.
Во что бы то ни стало хотел исполнять немецкую музыку
Мураками: Сначала была Нью-Йоркская филармония, и только потом вы отправились в Берлин?
Одзава: Да. После Берлина я работал ассистентом у Ленни в Нью-Йоркской филармонии, а потом маэстро Караян позвал меня обратно в Берлин. Там я дебютировал. Именно в Берлине получил свой первый дирижерский гонорар. Исполнял Маки Исии, Бориса Блахера и симфонию Бетховена. Не то Первую, не то Вторую.
Мураками: Как долго вы пробыли в Нью-Йорке?
Одзава: Два с половиной года. Шестьдесят первый, шестьдесят второй и часть шестьдесят третьего. В шестьдесят четвертом дирижировал уже в Берлинской филармонии.
Мураками: Но это же совершенно разное звучание. Я имею в виду Нью-Йоркскую и Берлинскую филармонии того времени.
Одзава: Да, совершенно разное. Как и сейчас. Несмотря на развитие связей и культурную глобализацию, более активную миграцию исполнителей между оркестрами, они и сегодня звучат совершенно по-разному.
Мураками: И все же в первой половине шестидесятых звук Нью-Йоркской филармонии был особенно жестким, даже агрессивным.
Одзава: Да, это эпоха Ленни. Взять хотя бы его Малера – звучит очень жестко. Но такого скольжения я раньше не слышал.
Мураками: На записи Гульда, которую мы недавно прослушали, звук хоть и не скользит, но довольно сухой. Американской публике нравилась такая манера?
Одзава: Не думаю.
Мураками: И все же отличие диаметральное.
Одзава: Говорят, один и тот же оркестр звучит по-разному у разных дирижеров. Особенно это заметно у американских оркестров.
Мураками: То есть у европейских оркестров звук не сильно зависит от дирижера?
Одзава: Звучание Берлинской или Венской филармонии почти не зависит от дирижера.
Мураками: После ухода Бернстайна в Нью-Йоркской филармонии сменилось много постоянных дирижеров. [Зубин] Мета, [Курт] Мазур…
Одзава: [Пьер] Булез…
Мураками: Но в целом не сказал бы, что звучание оркестра изменилось.
Одзава: Согласен с вами.
Мураками: Я слышал Нью-Йоркскую филармонию с разными дирижерами, но звук был достаточно предсказуем. Интересно почему?
Одзава: Репетиционная муштра – это не про Ленни.
Мураками: Он больше занят собой.
Одзава: Да. Гений, и этим все сказано. А может, подготовительная работа с оркестром – не его конек. Педагог он был выдающийся, но скорее не как практик.
Мураками: Но ведь звучание оркестра для дирижера – все равно что авторский стиль для писателя. Неужели он не хотел отточить собственный стиль? Он же требовал определенного уровня исполнения…
Одзава: Это да.
Мураками: Или дело в том самом «направлении», о котором вы недавно говорили?
Одзава: В нем тоже, но главное, он не объяснял, как нужно играть.
Мураками: Что значит «не объяснял, как нужно играть»?
Одзава: Не объяснял, как должен играть тот или иной инструмент. Ленни, как правило, не давал рекомендаций, каким способом добиться созвучия. Вот маэстро Караян делал это виртуозно.
Мураками: Что значит «каким способом»?
Одзава: То есть как добиться ансамблевого звучания. Он этому не учил. Вернее, не мог научить. Потому что у него оно врожденное, гениальность, если хотите.
Мураками: То есть он не мог четко объяснить оркестру: «Здесь ты играй так, а ты вот так»?
Одзава: Если точнее, то хороший профессиональный дирижер дает оркестру установку: сейчас слушайте этот инструмент, а сейчас – вот этот. Тогда оркестр звучит ансамблево.
Мураками: Выходит, оркестранты постоянно слушают тот или иной инструмент.
Одзава: Да. Сейчас слушают виолончель, потом гобой. Примерно так. Маэстро Караяну это удавалось гениально. На репетициях он давал конкретные указания. Ленни так работать с оркестром не умел. Даже не то чтоб не умел – ему это было неинтересно.
Мураками: Но в голове он, конечно, знал, какого звучания хочет добиться?
Одзава: Конечно, знал.
Мураками: Но не мог объяснить как.
Одзава: Не мог. И это тем более странно, поскольку Ленни действительно выдающийся педагог. Он разработал великолепный курс для Гарварда. Знаменитые лекции, которые потом издали. Делал ли он нечто подобное для оркестра? Нет, не делал. В его работе с оркестром обучение отсутствовало как таковое.
Мураками: Невероятно.
Одзава: То же самое можно сказать о его отношении к нам, ассистентам. Мы видели в нем наставника, ждали, когда он чему-то научит. Но Ленни считал иначе. Говорил, что мы коллеги… в смысле – сослуживцы. Говорил: «Делайте мне замечания, если что-то не так. Я буду делать вам, а вы обязательно мне». Такое, знаете ли, стремление правильного американца к равноправию. Когда он босс, но не наставник.
Мураками: Совсем не по-европейски.
Одзава: Да, совсем иначе. А поскольку к оркестру он относился так же, подготовиться было в принципе невозможно. Потому что любая подготовка – это усилия. Его эгалитаризм приводил к тому, что не дирижер выговаривал оркестрантам, а они ему. Я не раз это наблюдал. Ладно бы оркестранты огрызались в шутку, но нет, они вели себя очень дерзко, открыто конфликтовали. В любом другом оркестре это исключено.
Спустя много лет я оказался в похожей ситуации, когда начал работать с оркестром Сайто Кинэн. Со многими музыкантами Сайто Кинэн нас связывало долгое сотрудничество. Сейчас их уже меньше, но первые лет десять они активно выражали свое мнение. Так сложилось. Не всем нравилось работать в такой обстановке. Особенно новичкам. Одни жаловались, что такой подход неприемлем, поскольку мы теряем массу времени, выслушивая всех подряд. Другие – что маэстро недостаточно учитывает мнение каждого. Хотя я охотно всех слушал.
Но в случае с Ленни то не был добровольный музыкальный коллектив единомышленников. Ленни имел дело с постоянным оркестром суперпрофессионалов. Я не раз видел, как из-за его эгалитарного подхода репетиция затягивалась.
Мураками: При этом он не особо прислушивался к чужому мнению.
Одзава: Думаю, он очень старался быть «правильным американцем». И, возможно, в какой-то момент слегка перегнул палку.
Мураками: И все же одно дело имидж, а другое – когда не можешь добиться нужного звучания. Наверняка это раздражает?
Одзава: Думаю, да. Все его звали Ленни, по имени. Меня тоже часто зовут Сэйдзи, но в его случае это было не просто обращение. Случалось, оркестранты, не разобравшись, начинали препираться: «Эй, Ленни, здесь надо играть по-другому». Пока выясняли, что к чему, репетиция останавливалась. В результате заканчивали с опозданием.
Мураками: Такой подход годится, когда в оркестре все хорошо, музыканты на подъеме, и звук тогда получается отличный, в противном случае это все усложняет.
Одзава: Да, пропадает единение. Я с этим столкнулся. На заре Сайто Кинэн одни звали меня Сэйдзи, другие – господин Одзава или маэстро. Помню, я подумал, что у Ленни мы работали в таких же условиях.
Мураками: С Караяном такого не было?
Одзава: Во всяком случае, он никого не слушал. Если оркестр звучал не так, как ему нужно, виноват был всегда оркестр. И он заставлял работать, пока не получал нужного звучания.
Мураками: Четко и ясно.
Одзава: У Ленни на репетициях стоял гвалт. Мне всегда это казалось неправильным. В Бостоне, если кто-то болтал, я пристально на него смотрел. Разговоры тут же смолкали. Ленни так не делал.
Мураками: А Караян?
Одзава: Мне казалось, что маэстро Караян пресекает такое на корню. Но однажды, незадолго до смерти, он приехал в Японию с Берлинской филармонией. Шла репетиция. Готовили Девятую симфонию Малера. Она была не из японской программы, ее предстояло исполнять уже после возвращения в Берлин. То есть не на завтрашнем концерте. Понятное дело, оркестру не хотелось репетировать еще и ее. Я наблюдал репетицию из зала, музыканты болтали. Когда маэстро останавливал исполнение, чтобы сделать какое-то замечание, они начинали приглушенно переговариваться. Тогда он обернулся ко мне и громко сказал: «Ну что, Сэйдзи, видел ты когда-нибудь на репетиции такой шумный оркестр?» (Смеется.) Я не знал, что ответить.
Мураками: Вероятно, в те годы его авторитет немного упал, в Берлинской филармонии было много нюансов.
Одзава: В конце концов они помирились, ситуация выправилась. Но до этого отношения были натянутые.
Мураками: На репетициях я часто вижу, как вы даете оркестру конкретные указания при помощи мимики. Делаете специальное лицо.
Одзава: Хм… Сложно сказать… Точно не знаю…
Мураками: А у Бостонского оркестра звучание зависит от дирижера?
Одзава: Да, зависит.
Мураками: Долгое время постоянным дирижером там был [Шарль] Мюнш, потом [Эрих] Лайнсдорф, затем вы, верно?
Одзава: После Лайнсдорфа был [Уильям] Стайнберг.
Мураками: Точно.
Одзава: Через три-четыре года после того, как я стал дирижером, звук изменился. Появилась немецкая манера исполнения, так называемая «внутриструнная». Когда струны глубже забирают смычком. Звук тогда получается более массивным. До этого звучание Бостонского оркестра было легче, красивее. Потому что раньше они в основном исполняли французскую музыку. Заметно влияние Мюнша и [Пьера] Монтё. Монтё, хоть и не был музыкальным руководителем, приезжал довольно часто. Лайнсдорф тоже не очень-то немец по духу.
Мураками: С вашим приходом звук изменился.
Одзава: Я во что бы то ни стало хотел исполнять немецкую музыку. Например, Брамса и Бетховена, Брукнера, Малера. Потому и требовал, чтобы струнные перешли на «внутриструнную» манеру игры. Концертмейстер, который этому противился, в итоге ушел. [Джозеф] Силверстайн – по совместительству помощник дирижера. Ему не нравилась такая манера. Говорил, что звук получается грязным. Он долго упорствовал, но поскольку дирижером все же был я, ему пришлось уйти. Он потом начал самостоятельную карьеру, был музыкальным руководителем Симфонического оркестра Юты.
Мураками: Но ведь вы работали с Парижским оркестром. И можете исполнять любую музыку.
Одзава: Поскольку я учился у маэстро Караяна, в основном это все-таки была немецкая музыка. Затем я отправился в Бостон, мне нравился Мюнш, и я начал исполнять французов. Всего Равеля, всего Дебюсси. Параллельно делал записи. Я изучил французскую музыку, когда начал работать уже в Бостоне. Маэстро Караян меня этому не учил. До этого я исполнял разве что «Послеполуденный отдых фавна».
Мураками: Вот как? Я думал, вы всегда были сильны во французской музыке.
Одзава: Ну что вы. До того момента я ею совсем не занимался. Из Берлиоза, например, исполнял только «Фантастическую симфонию». Остального Берлиоза исполнил уже по просьбе звукозаписывающих компаний.
Мураками: Берлиоз сложный? Бывает, слушаю его и ничего не понимаю.
Одзава: Не то чтобы сложный, скорее безумный. Непонятный. Может, поэтому он подходит азиатским исполнителям. Делай что хочешь. Как-то в Риме я исполнял оперу Берлиоза «Бенвенуто Челлини». Творил что хотел, и публике нравилось.
Мураками: С немецкой музыкой это категорически невозможно.
Одзава: Верно. Еще у Берлиоза есть реквием. Как же его… да, «Большая заупокойная месса». В ней восемь литавр. Так вот, там я тоже мог делать все что хочу. Полная свобода. Впервые я исполнил его в Бостоне и потом еще много где. Когда умер Мюнш, в память о нем мы играли этот реквием в Зальцбурге с его Оркестром Парижа.
Мураками: То есть в Бостоне вы исполняли французскую музыку не столько по своей воле, сколько по просьбе звукозаписывающих компаний.
Одзава: Верно. К тому же и оркестр хотел исполнять французскую музыку. Они позиционировали себя как оркестр французской музыки. Так что большая часть репертуара была мне в новинку.
Мураками: Работая в Германии, вы в основном исполняли немецкую музыку.
Одзава: Да, маэстро Караян – это почти всегда немецкая музыка. Хотя он исполнял Бартока.
Мураками: Но в Бостоне вы терпеливо и неспешно ввели «внутриструнную» технику, подготовив тем самым почву для немецкой музыки.
Одзава: Да. И тогда немецкие дирижеры – такие как [Клаус] Теннштедт или Мазур – искренне полюбили Бостонский симфонический оркестр и стали ежегодно приезжать.
Пятьдесят лет назад: очарованный Малером
Мураками: Когда вы начали исполнять Малера?
Одзава: Любовью к Малеру я обязан Ленни. Я был у него помощником, когда он записывал все симфонии Малера. Я выучил их, поскольку все время крутился рядом, и когда приехал в Торонто и Сан-Франциско, сразу попробовал исполнить всего Малера. И еще в Бостоне дважды. Когда я работал в Торонто и Сан-Франциско, никто из дирижеров, кроме Ленни, не брался за все симфонии Малера.
Мураками: В том числе Караян.
Одзава: Маэстро долго почти не исполнял Малера. Поручал это мне, поэтому в Берлине я дирижировал Малером довольно много. И в Венской филармонии. Так что я исполнял его вполне целенаправленно. В Японии сейчас проходят гастроли Венской филармонии, я должен был дирижировать Девятой симфонией Малера и Девятой Брукнера, но здоровье подкачало.
Мураками: Ого! Серьезная нагрузка.
Одзава: В этот раз в Японии они исполняют только Девятую симфонию Брукнера, а Девятую Малера не стали. Сказали, подождут моего выздоровления.
Мураками: Значит, есть повод восстанавливаться.
Одзава: Да. (Смеется.) В общем, я был очарован Малером. Это было больше пятидесяти лет назад.
Мураками: И оркестр Сайто Кинэн тоже исполнял в основном немецкий репертуар.
Одзава: Верно. Первой французской музыкой Сайто Кинэн стала «Фантастическая симфония» Берлиоза три года назад.
Мураками: Вы исполняете оперы Пуленка.
Одзава: Да, две оперы. Еще Онеггера. Он швейцарец, не француз, но музыка в целом французская. И все же в исполнении Сайто Кинэн особенно хорош Брамс.
Мураками: Очень хорош.
Одзава: Это все школа профессора [Хидэо] Сайто. И еще то, что музыканты, которые работают за границей, в основном едут в немецкоязычные страны. И съезжаются к нам из Берлина, Вены, Франкфурта, Кельна, Дюссельдорфа.
Мураками: По своему звучанию Сайто Кинэн напоминает Бостонский симфонический оркестр.
Одзава: Совершенно точно. Напоминает.
Мураками: Шелковистое, воздушное, абсолютно свободное. Но когда я жил в Бостоне и ходил на концерты Бостонского симфонического с 1993 по 1995 год, то есть под конец вашего бостонского периода, было ощущение, что звук дозрел. Загустел. Он сильно отличался от того, что было раньше.
Одзава: Возможно, так и есть. Я работал изо всех сил. Оттачивал исполнение, чтобы войти в десятку мировых оркестров. Еще я мечтал позвать в Бостон приглашенным дирижером кого-нибудь выдающегося. Но для этого надо было повысить качество оркестра. Многие дирижеры приезжали в Бостонский симфонический, потому что он им нравился. Из молодых – Саймон Рэттл, уже упомянутые мной Теннштедт и Мазур, а также [Кристофер] Хогвуд, который специализируется на аутентичном исполнении.
Мураками: Когда я вернулся в Японию и услышал Сайто Кинэн под вашим управлением, я почувствовал, что и его звучание задышало, стало воздушнее. Не берусь судить о точности исполнения, но звук сильно напомнил мне Бостонский симфонический.
Что такое новая манера исполнения Бетховена?
Мураками: Еще хочу спросить о Бетховене. Раньше был Бетховен [Вильгельма] Фуртвенглера как некий стандарт. Его в известной степени унаследовал и Караян. Но в какой-то миг всем надоела такая манера, стало модным искать своего, нового Бетховена. Примерно в шестидесятые. Исполнение Гульда представляется мне одной из таких попыток – обращаться с музыкой свободно, пусть и внутри заданных рамок. Отпустить, разобрать и снова собрать… Примерно так. И хотя таких попыток было много, они не вылились в некий новый формат, исполнительскую манеру, которую можно противопоставить ортодоксальному немецкому исполнению.
Одзава: Верно.
Мураками: Но в последнее время, на мой взгляд, в этом наметились кое-какие перспективы. В частности, звук стал тише.
Одзава: Действительно, Бетховена теперь редко исполняют как раньше – со струнными большого симфонического оркестра и по-брамсовски плотным, тяжелым звучанием. Думаю, это во многом связано с появлением музыкантов аутентичного направления.
Мураками: Согласен. Струнных стало меньше. Пианист и тот, исполняя концерт, не обязан больше звучать громко. Даже на современном, не старинном фортепиано сегодня можно позволить себе более тихий, фортепианный звук. При ослабленном звуке и общей приглушенности исполнитель чувствует себя довольно свободно в узком динамическом диапазоне. В итоге манера исполнения Бетховена постепенно меняется.
Одзава: Если говорить о симфониях, манера исполнения действительно изменилась. Раньше музыку давали крупно, мощным потоком, а сейчас важно показать ее внутреннюю сторону.
Мураками: Средние голоса.
Одзава: Совершенно верно.
Мураками: Бетховен в исполнении Сайто Кинэн так и звучит.
Одзава: Это все школа профессора Сайто. Когда я управлял Берлинской филармонией, мой подход многие критиковали. Маэстро Караян тоже часто делал замечания, особенно вначале. Подтрунивал надо мной. Например, когда я впервые исполнял в Берлине Первую симфонию Малера, он пришел на концерт. И увидел, как я подаю оркестру знаки. Понимаете, что такое знаки? Сигналы каждому инструменту. Где кому вступать: ты вступаешь тут, ты – вот тут и так далее. Разумеется, при таком подходе дирижер постоянно занят.
Мураками: Могу себе представить.
Одзава: Увидев это, маэстро Караян сказал: «Послушай, Сэйдзи, с моим оркестром это лишнее. Достаточно управлять в целом». Вот его слова. Хотя именно благодаря моим знакам звучание получилось более легким. Каждый инструмент наполнился воздухом. Да, управлять оркестром в целом – важно, но не менее важно управлять каждым элементом, выстраивая их один за другим. Так что вот такое замечание сделал мне маэстро за завтраком наутро после концерта. Можно сказать, пожурил. За то, что давал каждому знак вступления. Мол, работа дирижера не в этом. В тот же вечер накануне концерта я гадал, придет он сегодня снова или нет: вроде не должен, а вдруг? Помню, как дирижировал, а сам дрожал от страха. В итоге маэстро не пришел. (Смеется.)
Мураками: Раньше оркестру полагалось звучать как на мессе.
Одзава: Да. Записи так и делали. У маэстро Караяна для записей была любимая кирха в Берлине. В Париже для этой цели он тоже выбирал помещения, чтобы акустика как в церкви. Бывшие бальные залы вроде «Саль Ваграм».
Мураками: Значит, церкви и бальные залы. (Смеется.)
Одзава: Предпочитали записывать в подобных местах с хорошей акустикой. Потому что от того, сколько секунд длится эхо, и других подобных нюансов зависел коммерческий успех. Звучание рассматривали как единое целое. В Нью-Йорке официальные записи делали в «Манхэттен-центре». Там тоже хорошая акустика. В те годы концертные записи еще не были популярны, и все выбирали места с таким, знаете, у-а-а-а.
Мураками: В Бостонском симфоническом зале такая акустика.
Одзава: Верно. Но раньше для записи снимали половину зрительских кресел, и на их место сажали оркестр. Для красивого у-а-а-а. Хотя при мне в моду вошло максимально реалистичное звучание, как на сцене.
Мураками: Чтобы слышать средние голоса.
Одзава: Это тоже, но еще, чтобы слушать исполнение, приближенное к реальному звучанию оркестра. Без пресловутого у-а-а-а. С минимальной реверберацией.
Мураками: Кстати, в исполнении Гульда и Караяна, которое мы недавно слышали, реверберация довольно мощная.
Одзава: Маэстро Караян всегда был очень требователен к звукоинженерам. Объяснял, как работать со звуком. Потому что тем или иным звучанием он создавал фразу, создавал музыку. Ему было важно, чтобы кривая этой фразы четко прослеживалась на фоне эха.
Мураками: Как когда поешь в ванной.
Одзава: Грубо говоря, да.
Мураками: А где пишется Сайто Кинэн?
Одзава: В самом обычном зале – «Мацумото Бунка Кайкан» в префектуре Нагано. Звучание там жесткое, почти без эха. Без у-а-а-а.
Мураками: И слышны мельчайшие звуковые колебания.
Одзава: Верно. Хотя это слишком, немного у-а-а-а все же не помешало бы. Но в Японии, в общем-то, нет хороших залов. Лучший на сегодня – «Трифони-холл» в Сумида. Думаю, для звукозаписи сейчас это лучший токийский зал.
Мураками: Но вернемся к современной манере исполнения Бетховена. Получается, смысл в том, чтобы приглушить звук, сократив – или можно даже не сокращать – количество струнных?
Одзава: Смысл в том, чтобы, как бы это сказать… расщепить звук, показать его внутреннюю сторону. Думаю, сегодня тренд именно в этом. И это несомненно влияние аутентизма.
Мураками: Во времена Бетховена в оркестре, наверное, было меньше струнных, чем сейчас?
Одзава: Конечно. Поэтому, к примеру, в Третьей симфонии Бетховена [ «Героической»] некоторые дирижеры значительно сокращают количество струнных. Шесть первых скрипок и так далее. Хотя сам я так не делаю.
Историческое фортепиано Иммерсела и аутентичное исполнение Бетховена
Мураками: Давайте послушаем Третий концерт Бетховена в аутентичном исполнении.
Исполнение Йоса ван Иммерсела (фортепиано) и оркестра Тафельмузик под управлением Бруно Вайля.
Запись 1996 года.
Одзава: Какая сильная реверберация. Слышите, вот тут, еще не затих предыдущий звук, а уже вступает следующий. Немыслимое дело.
Мураками: Действительно, реверберация очень сильна.
Звучит триоль во вступительной части оркестра.
Одзава: Здесь маэстро Караян сделал бы так: там, таам, тааам. Задал бы направление. А у этого оркестра просто: там, там, там. Разница огромная. Хотя по-своему интересно.
Мураками: Инструменты слышны каждый в отдельности.
Одзава: Да, вот отчетливо слышен гобой. Такая манера исполнения.
Мураками: Приближенная к камерной музыке.