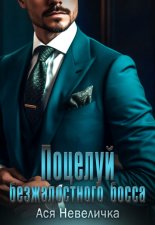Сценарии судьбы Тонечки Морозовой Устинова Татьяна

Липницкий вернул книгу на полку.
– Я попрошу помощника, и он мне найдет, – сказал он, словно успокаивая Настю. – Даня, нам пора ехать, теперь уж точно.
– Да мы уж все съели, можно ехать, – согласился Даня.
Никто не засмеялся.
– Я провожу, – вызвалась Тонечка.
– Я тоже поеду, – сказал Герман.
Она кивнула. Ей было не до него.
Липницкие уехали моментально – двери представительской «Ауди» словно сами собой распахнулись им навстречу, Даня плюхнулся на заднее сиденье и прокричал оттуда до свидания, затем сел отец, машина полыхнула фонарями, ходко взяла с места – и как не было ее.
Тонечка и Герман немного постояли, глядя ей вслед.
– Интересные ребята, – заметил Герман в конце концов. – Как-то… неожиданно все вышло. Липницкий собственной персоной!
– Что я Насте скажу? – сама у себя спросила Тонечка. – Столько лет она ничего не знала, и у нас получалось!..
– Что получалось?
Она махнула рукой:
– Жить. А теперь что делать?
Он не стал ничего спрашивать. В конце концов, его решительно не касается, как именно будет жить ее дочь. Вот как она сценарий поправит – это да. Это стоит обсудить. Такой прекрасный предлог!..
Про предлог он тоже особенно размышлять не стал. В его жизни полно женщин, которые нравятся ему. Просто нравятся!
– Жду вас завтра у себя в кабинете, – сказал Александр Наумович деловым тоном. – Все решим и обсудим.
Тонечка вздохнула – тяжело.
– В котором часу?
– Давайте в одиннадцать. Пропуск на этаж вам закажет моя приемная.
Вскочил в свою высоченную машину и уехал.
Тонечка передернула плечами и вслед передразнила тихонько:
– Закажет приемная! Давайте в одиннадцать!
Она побрела к дому. Необходимость объяснений с дочерью с каждым шагом придавливала ее все сильнее, как мешок с солью пермского грузчика. Она горбилась и шаркала ногами.
– Я тебя видеть не могу, – выговорила дочь, чеканя слова, едва только мать вошла. – Я тебе слова не скажу больше. Ни-ког-да! Поняла?..
И умчалась наверх. Бабахнула дверь.
– Что нам теперь делать? – спросила Тонечка, зная, что Марина Тимофеевна где-то рядом, все видит и слышит. – Что мы станем ей врать?..
Дверь в свою комнату Настя заперла на замок. Тонечка несколько раз подходила ночью, осторожно дергала, прислушивалась, но там было тихо, словно обе девчонки сбежали через окно. И утром дверь не открылась!..
За ночь Тонечка совершенно замучилась – серые, вязкие мысли лезли в голову, потом словно переползали в горло, не давали дышать. Воспоминания повылезли из всех щелей и дыр, куда ни оглянешься, как ни стараешься отвлечься, везде они, и не получается отвлекаться!.. Она попеременно пила то чай, то валокордин, голова была тяжелой и словно чужой. Время от времени Тонечка трогала голову, чтобы убедиться, что это именно ее голова.
Завтракать она не стала – никого не было на кухне, никто не вышел ее провожать. Кофе пить тоже не стала, за ночь так отекла, что глаза не открывались.
…Позвонить в приемную великого продюсера и сказать, что заболела?.. Самое лучшее сделать именно так! Но «заболеть» – значит, остаться дома и объясняться с Настей. Это гораздо страшнее.
И Тонечка поехала в центр.
Она твердо решила, что переписывать чужой сценарий ни за что не станет, так не принято, да и репутацией она дорожит – в конце концов, Александр Герман не единственный продюсер на свете! Конечно, один из самых главных, немного главнее других главных, но все равно.
Еще она решила, что ту сценарную заявку, которая должна была быть готова «вчера», нет, теперь уже «позавчера», она будет писать долго. Так долго, чтобы вышли все сроки и утвердили бы еще чей-то сценарий. Ей не придется работать с Германом, поддерживать его теории и завиральные идеи и вообще – делать то, что он говорит. Она не хочет делать то, что делать не хочет, и никто ее не заставит. Она не пропадет, как не пропала тогда, при муже!..
Получалось, что все ее мысли – про работу, сценарии и Германа – только про дочь и мужа, а сценарии и прочее – ерунда, неумелая маскировка от самой себя.
У нее в голове словно разговаривали две разные женщины, и обе – она сама.
…Если бы он остался жив, ему пришлось бы разбираться самостоятельно. Но он умер – дезертировал, скрылся, все свалил на мои плечи. – Ты все придумываешь! Ты только и делаешь, что придумываешь невесть что! Не стал бы он ни с чем разбираться! Он заставил бы тебя. – Нет, не так. Ты сама себя заставила бы, понимая, что он не может, не в состоянии!.. Тогда какая разница, умер он или не умер! Ты всегда могла виртуозно заставить себя делать что угодно, если понимала, что это необходимо – прежде всего дочке, или маме, или тебе самой. По гамбургскому счету, на всех остальных тебе всегда было наплевать, в том числе и на мужа! Вот и получается, что ты его убила. – Ты?! Ты и это хочешь присвоить?! Его смерть?! Ты хочешь отвечать и за него тоже?! Помилуй бог, он был человек, взрослый, умный, а ты до такой степени считаешь его ничтожеством, что даже его смерть принадлежит тебе?! Ты хочешь расплачиваться… за него, как в ресторане?! Ничего у тебя не выйдет на этот раз. Ты должна остановиться сама, или тебя кто-нибудь или что-нибудь остановит, и эти кто-то или что-то будут всерьез, по-настоящему страшными! И ты умрешь от страха, просто от страха. И не помогут тебе ни мать, ни дочь. И ты им больше ничем не поможешь!..
Тонечка сидела, вцепившись в руль, возле подъезда телерадиокомпании, не слыша сигналов и ругани, не замечая людей, которые пытались протиснуться мимо ее машины, крутили пальцем у виска и молотили кулаками в капот.
Она сидела и сосредоточенно думала.
– Вы что?! Обалдели?!
В окно просунулась загорелая рука, нашарила на двери кнопку центрального замка. Дверь распахнулась.
– Двигайтесь! Ну! Быстрее!..
Тонечка неловко перелезла на пассажирское кресло.
Дверь захлопнулась, машина тронулась.
– Да что случилось-то, вашу мать?!
И она словно проснулась. Тряхнула головой и стала неистово тереть глаза, в которых щипало и чесалось.
Александр Герман притормозил перед железными воротами, перевалил через «лежачего полицейского», приткнул Тонечкину машину в самый дальний угол начальничьей стоянки, где было свободное место, и вынул из зажигания ключ.
– Вы ненормальная? – осведомился он, повернувшись к ней. – Как это я сразу не догадался!
– Я задумалась. – Тонечка перестала тереть глаза. – Мне есть о чем подумать.
– Посреди улицы?! Средь бела дня?! В центре Москвы?!
– Простите.
– Выходите.
Она покорно вылезла.
Должно быть, дома у нее совсем неладно, подумал Герман. Лицо опухло, от жизнерадостности не осталось и следа, плечи сгорблены. Даже кудри на голове как-то поникли.
Он поднял было руку, чтобы погладить ее по голове – как еще утешить-то? – и остановился.
Шмыгая носом, она искала что-то в сумке, а он сосредоточенно смотрел на нее.
…Оно мне нужно?.. Вот это все? Строптивая дочь, железная мать, покойный муж Феофан Конъ, прости господи!.. Зачем это может быть нужно мне? Для развлечения – ничего себе развлечение! Для коллекции – там представлены гораздо более выдающиеся экспонаты! Для умных разговоров – полно, какие умные разговоры в моем возрасте!
Получается, что не нужно. Забудь и поезжай по делам. Бог с ней.
Тонечка перестала рыться в сумке, пожала плечами, немного подумала, склонив голову. Потом спохватилась, нашарила в кудрях темные очки и водрузила их на нос. Вздохнула и посмотрела на него.
– Я правда с приветом, – извинилась она. – Это всем известно.
– Раньше я не знал.
– Ну да, да.
Он взял ее за руку выше локтя и повел за собой. Она с готовностью пошла.
Герман довел ее до своей машины, цвет которой был «как Диккенс», и распахнул дверь.
– Садитесь.
Тонечка залезла в салон.
– Планы изменились, – сказал он, и это была чистая правда. – Мы сейчас поедем к Василию, здесь не далеко, на «Соколе». А потом вернемся на работу и поговорим.
– К… какому Василию? – не поняла Тонечка.
– К режиссеру Филиппову. Секретарша не может ему дозвониться, он трубку не берет, а я не могу найти родителей Светы Дольчиковой.
– Вы думаете, он знает ее родителей?
– Ну, кто-то должен знать, – заметил Герман с некоторым раздражением. Впереди неслось многополосное Ленинградское шоссе. Они влились в поток. Поток подхватил их и понес. – Если он не знает, нужно бывшего мужа искать. А мне проще с Василием! Он меня слушается.
– Вас все слушаются, – пробормотала Тонечка.
В квартиру режиссера Василия Филиппова – псевдоним Ваня Сусанин – они ломились довольно долго. И безуспешно.
– Никого нет, – в конце концов сказала Тонечка. И вдруг зачастила: – Послушайте, а если его убили? Помните, он говорил, что его могут убить!
– Что вы несете!
– Нет, правда! Нужно в отделение позвонить. Или тому нашему майору, у меня телефон есть! А давно Василий к телефону не подходит?
– Все утро ему секретарша безрезультатно звонила…
– Может, соседей спросить? Вдруг они знают, где он?
– Это вы из сценария сейчас шпарите? В какой московской многоэтажке соседи знают соседей?!
– По-всякому бывает.
– Не бывает.
– Тогда я звоню майору.
В эту минуту в железной двери заскрежетало, дрогнуло, и она распахнулась.
Василий Филиппов стоял на пороге, ухватившись неверной рукой за косяк. Он был то ли в лоскуты пьян, то ли «под кайфом», ноги держали его плохо.
– Че надо? – с трудом выговорил он, повернулся, чуть не упал и ушел в квартиру.
Герман от души выматерился и вошел следом.
– Ты кто? – спросил Василий Германа. – Ты чего привез? Выпить?
Тонечка огляделась.
Квартира была большая, новая, следовательно, неуютная и вся словно запакощенная, зашарканная. Светлые деревянные полы в черных длинных полосах, добротные двери захватаны, в коричневых пятнах, медная ручка болтается на одном винте. Картины – неумелые изображения треугольников и квадратов – в пыльных рамах. Задернутые шторы провисали через неравные промежутки, как видно, крючки оборвались.
Василий Филиппов повалился на диван с засаленной подушкой. Сам он тоже выглядел помятым и засаленным – во вчерашнем деловом костюме, под который была надета спортивная кофтенка на «молнии», а сверх кофтенки привязан галстук.
– Вась, у тебя есть адрес Светкиных родителей? – будничным тоном спросил Герман. – Или телефон, все равно?
Василий дрыгнул ногами, подтаскивая их к груди.
– Вась, очнись.
Тот разлепил глаза.
– Ты кто?
– А ты кто? – разозлился Герман.
– Подождите, так нельзя, – вмешалась Тонечка. – Он же пьяный! С пьяными аккуратно надо.
Она присела перед диваном на корточки и спросила тихонько, сочувственно:
– Вася, плохо тебе?
Василий закивал, не открывая глаз.
– Водички дать?
На журнальном столике перед диваном стояли ополовиненная бутылка вина, какой-то трудноопределимый коньяк, на самом донышке, «Мартини», примерно треть, остатки водки и какого-то ликера.
– Ты из всех сразу бодяжишь? – спросил Герман, морщась.
– Коктейль, – собравшись с силами, изрек режиссер. – Умру сейчас.
– Если пока не помер, значит, еще продержишься.
– Уйди отсюда! Я тебя не звал! Я Светку звал, а она не идет, зараза! Они все меня бросили, все! Жена бросила! Катька бросила! Людка тоже, Светка! До этого Леночка еще! А я умираю!
– Нужно воды, аспирина и «Скорую», наверное, – решила Тонечка. – Мы сами не справимся. Если он все время пил «ерш»!
– Слова всякие она знает, – пробормотал Герман. Он чувствовал брезгливость от того, что она так хорошо разбирается в алкоголиках. – Вася, где твой телефон?
– Нету.
– Где он, Вася?
– Хрен знает! Выбросил!
– Зачем?
Василий заплакал.
– Звонит то и дело. Я боюсь. Светку убили, ко мне подбираются.
Тонечка зачем-то полезла в холодильник. Краем глаза Герман следил за ней.
– Вася, где Светины родители живут? Соберись, ну!..
Тонечка вернулась с бутылкой воды, стаканом и полотенцем. Из бутылки она намочила полотенце, пристроила Василию на голову, налила воды в стакан и стала совать ко рту страдающего.
– Попей, попей, – приговаривала она, – полегчает, точно тебе говорю.
Василий крутил головой, морщился и мычал. Вода текла по щетинистой шее, проливалась на пиджак и олимпийку.
– Я ей все отдал, – вдруг выкрикнул он, отталкивая Тонечкину руку. Вода из стакана широко плеснула, попала Герману на джинсы. – Все, что у меня было, все мое богатство! У меня же оно было, богатство! И я ей отдал! А ее убили! И я… умираю!..
– Саш, давайте правда «Скорую» вызовем?..
Герман полез в карман за телефоном.
– У нее вся жизнь была в этих часиках, – продолжал бормотать Василий. Желтое лицо его покрылось потом. – Так она говорила. А мне передали, они пропали, и жизнь пропала, и моя пропала тоже.
– Чья жизнь? В каких часиках, Вася? Так Света говорила, да? Про свои часы?
Василий стал закатывать глаза. Тонечка быстро оглянулась на Германа, вид у нее был испуганный.
– Песчаный проезд, дом тринадцать, квартира сто, – говорил тот в телефон. – Похоже на сердечный приступ. Лет сорок, точно не знаю. Василий Филиппов. Мой телефон?..
– Найди, – прохрипел Василий. – Она умерла, но ты найди. Хорошая девочка… жалко…
– Внизу домофон, просто набираете номер квартиры. Когда вас ждать? – громко спрашивал Герман трубку. Подошел и отдернул пыльную штору. В комнату ринулся солнечный свет. – Нет, давайте точнее! Я понимаю, что много! Я все понимаю, но…
– Он умер, – вдруг сказала Тонечка. Она стояла возле дивана на коленях.
Герман в один шаг оказался рядом, зачем-то сунул Тонечке свой телефон и посмотрел.
Василий Филиппов лежал вытянувшись и не дышал. Лицо у него было такое, словно он умер давно, несколько дней назад.
– Человек умер, – проговорила Тонечка в телефон. – Да, только что. Пока вы беседовали. Приезжайте.
Герман взял ее за плечо. Она поднялась и посмотрела ему в лицо.
– Дать тебе воды? – спросил он буднично.
– Я не хочу пить.
– Давай я тебя в кресло отведу.
– Саш, я не хочу сидеть.
Они еще немного постояли рядом с Василием.
– Ерунда какая, – пожаловался Герман. – Ну, что это такое?!
– Это жизнь такая.
– Ничего в ней не понимаю. Чем дальше, тем больше не понимаю.
– Никто не понимает.
Так они стояли над мертвым режиссером Филипповым и разговаривали обыкновенными голосами.
– Как ты думаешь, его на самом деле убили?
– Он помер у нас на глазах. Ты его не убивала? Потому что я точно нет.
– Я серьезно спрашиваю, Саша!
– А я тебе серьезно отвечаю.
– Но ведь он все время вчера повторял, что его убьют. А сегодня умер.
– Он умер с перепоя.
Тонечка вздохнула:
– Хорошо бы так.
– Хоть как, все равно никакого удовольствия, по-моему.
Она улыбнулась против воли.
– Ты какой-то непробиваемый мужик, – сказала она, пожалуй, с уважением.
– Ну, всерьез оплакивать его я не в состоянии.
– А кто к нему приходил, ты не знаешь?
– В каком смысле – приходил? Он все время с кем-то жил, одно время с женой, потом с девицами всякого сорта. Разумеется, кого-то из них я знаю, но не всех.
– Нет-нет, кто ему приносил еду и выпивку?
– Понятия не имею! Да, наверное, он сам и приносил! Вряд ли у него прислуга!..
Тонечка осторожно, словно боясь разбудить спящего, отошла от дивана и поманила Германа за собой:
– Иди сюда.
– Что? А, иду.
Она открыла холодильник – осветилось пластмассовое нутро, заросшее по задней стенке желтой ледяной шубой.
– Смотри.
Он заглянул. Холодильник был пустой и заброшенный, как и квартира. На полках ничего, кроме двух усохших сморщенных сосисок и лимона с магазинной наклейкой.
– Ну, я смотрю.
Тонечка взяла лимон и сунула ему под нос.
– Видишь наклейку? Такие клеят в супермаркетах, когда продают поштучно. Яблоки или апельсины. Или лимоны! Их взвешивают и приляпывают бумажку с ценой и датой. Видишь?
Герман повертел лимон перед глазами.
– Сегодняшнее число, – сказала Тонечка. – К нему кто-то сегодня приходил. Принес лимон. И бутылки.
Герман серьезно посмотрел на нее.
– Почему бутылки? Здесь нет никаких бутылок.
– Зато вон там есть, под столом.
Они вернулись в комнату, и Тонечка полезла под журнальный стол.
Герман присел на корточки и тоже заглянул.
– Вот это вчерашние бутылки, – шепотом заговорила Тонечка и стала показывать, какие именно вчерашние. – А на столе сегодняшние.
– Чем они отличаются?
– Под столом только бутылки из-под виски и коньяка. А на столе, видишь, какой набор.
Он взглянул на стол.
– Вчера и ночью он пил виски и коньяк. А сегодня и вино, и мартини, и водку! И коньяк совсем другой. Под столом «Арарат», а это, по-моему, киргизский, что ли…
Рассматривать бутылки и рассуждать про коньяк рядом с только что умершим человеком Герману было невмоготу, зря Тонечка назвала его «непробиваемым»!
Он взял ее за штрипку джинсов, потянул, заставил вылезти из-под стола и увел на кухню.
Открыл кран и умылся холодной водой. Руки вытер о джинсы, а лицо вытереть было нечем, капли падали с подбородка.
Она проворно достала из заднего кармана упаковку бумажных носовых платков и подала.
– Саш, тебе нехорошо?
– Мне отлично. Я только хочу отсюда уехать.
– Хочешь, езжай, а я дождусь «Скорую».
– За кого ты меня принимаешь?
– За современного мужчину, которому не нужны никакие лишние проблемы.
– Все проблемы, – подхватил он, – современные женщины решат сами!.. Я не понял про бутылки, объясни мне.
– Вчерашние бутылки под столом, они совсем другие. Там три из-под виски, все одинаковые, «Чивас» и одна из-под армянского коньяка. Это дорогие бутылки!.. А на столе что попало, и все дешевое! Вино «Мацеста», водка «Ледяная капля», «Мартини», персиковый ликер. Не хватает только «Тройного» одеколона!..
– У него деньги кончились. Так не может быть?..
– Он бы купил что-нибудь одно, как ты не понимаешь! Три бутылки водки, например. И он никуда не выходил! Куда он мог выйти в таком состоянии! Он все время пил! Вчера его привез твой водитель, оставил, пьяного, и он продолжал пить! А утром кому-то позвонил или ему кто-то позвонил, и он сказал – привези мне выпить. И ему привезли… ассорти.
– Телефон, – вдруг вспомнил Герман. – Васька сказал, что телефон он выбросил, потому что тот звонил все время. Должно быть, моя секретарша звонила. Она все утро ему звонила, а он трубку не брал!
Они полезли под раковину, достали ведро и заглянули. Там было пусто. То есть совсем пусто – ни бутылок, ни объедков, ни даже мусорного пакета! Телефона не было тоже.
– Подожди, я попробую позвонить.
Герман нажал кнопку, и они стали прислушиваться и оглядываться по сторонам.
– Не звонит, – констатировала Тонечка. – Может, он его из окна выбросил?
– Окна не открываются. Я штору отдернул, обратил внимание.
– Как?!