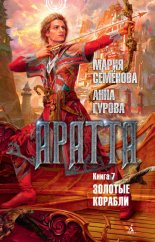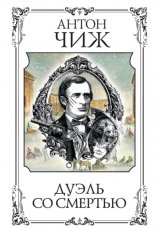Рыцарь-разбойник Конофальский Борис

– Пювер? – Волков не мог вспомнить такого. – Кто он, гауптман? Оберст?
– Не ведаю, экселенц, – отвечал Сыч.
– Да как же ты не узнал, кого к нам пошлют? – злился Волков. – Капитана или полковника? То первым узнавать нужно. Я же тебе говорил, что первое, что знать надобно: кто командир будет.
– Не понял я, экселенц, – сразу загрустил Фриц Ламме. – Запамятовал.
– Ладно, еще что узнал?
– Ну, еще узнал, что этот Пювер разослал по городам и селам сбор ополчения.
– Дьявол. К какому дню им велено собираться?
– Не знаю, – ответил Сыч.
– Не знаешь? – опять злился Волков. – А что ж ты знаешь?
– Знаю, что от Рюммикона будет тридцать пикинеров и восемь арбалетчиков.
Что против него горцы собирают войско, Волков и сам догадывался. Сыч ничего нового не сказал ему.
– Что был ты там, что не был, – зло выговаривал ему кавалер. – И эти два олуха, дружки твои, сидят пиво попивают, тоже ничего не выведали. Деньги им дал – что в реку кинул.
– Экселенц, – морщился как от боли Фриц Ламме, – то дело для них новое, да и для меня тоже, и опасное к тому же.
– Знать, дурья твоя башка, – выговаривал ему Волков, – знать мне надобно все о них, чтобы понимать, что делать. У кантона сил против меня не вдесятеро – в сто раз больше! Понимаешь? Сколько их будет: триста или тысяча? Что делать? Бежать, всех уводить или драться? А как мне решение принять, если ты мне ничего не говоришь по делу.
– Уж извините, экселенц, – смущенно бормотал Сыч. – Не смог.
– Извинения твои вздор, – сказал Волков. – Иди на тот берег, выясни все.
– Опять на тот берег? – развел руками Фриц Ламме.
– Опять! – заорал Волков. – Опять. Вызнай мне, сколько их будет, когда начнут и где реку перейдут.
– Ну ладно, – вздохнул Сыч. – Переночую, помоюсь, поем да пойду.
– Нет! – коротко бросил кавалер, полез в кошель и, не считая, достал оттуда пригоршню серебра, высыпал монеты Сычу в руку. – Поешь и сейчас же иди. Сегодня. Еще раз говорю: вызнай мне, сколько их, когда пойдут и где к реке подойдут.
Сыч еще раз вздохнул и покивал головой, а когда Волков направился к дому, потряс серебро на ладони. Кажется, не очень-то был он ему рад.
Так и жил кавалер в изматывающем ожидании. В ожидании неотвратимых бед. День за днем, день за днем. Притом что вокруг все радовались. Радовались мужики хорошему урожаю, радовались солдаты в ожидании раздела добычи. Офицеры тоже были довольны. Кажется, из всех, кто жил в Эшбахте, были недовольны только два человека: господин Эшбахта и госпожа Эшбахта.
Да, госпожа Эшбахта была недовольна своей жизнью. Хоть не грозили ей ни горцы, ни немилость сеньора. Горе ее оказалось женским. Она ложилась в постель и сразу заводила разговор о том, что муж ею пренебрегает. Каждый раз разговор заканчивался злыми упреками, и от упреков этих кавалер начинал злиться, едва сдерживался, чтобы не ответить ей так же или еще хуже: сказать жене, что знает о ее распутстве, а может, и вовсе покарать несчастную прямо на супружеском ложе. Посему последнюю неделю Волков не шел в постель, пока госпожа Эшбахт не заснет.
Приехал к нему Рене, привез большой сундук и сказал, что все распродали. Четыре солдата затащили сундук в спальню, поставили к стене, где уже стояли его сундук и ящики с доспехами и оружием. Рене, довольный и счастливый, отпер сундук, а там мешки с серебром.
– Вот эти мешки ваши! Вот, вот и вот, – говорил он и заглядывал Волкову в лицо, надеясь, что тот будет рад. – Как и положено по уложению кондотьеров, ваша доля капитанская – четверть. То есть две тысячи восемьсот шестьдесят шесть талеров, кавалер.
Волков покивал, выдавил улыбку – рад я, рад. Ответил ротмистру:
– Отлично.
А сам вспоминал, каким злым было лицо жены только что, когда смотрела она, как солдаты затаскивают большой сундук к ним в спальню. Лицо у нее все время было таким в последние дни.
Серебро. Две тысячи восемьсот шестьдесят шесть талеров. Если бы лет пять назад ему посулили хоть половину от этого и сказали, что за это потребуется встать в первый ряд штурмовой колонны, которая идет в пролом стены осажденного города, так он встал бы не раздумывая. Ни мгновения бы не сомневался. А сейчас даже смотреть деньги не стал, ни к одному мешку не прикоснулся.
Рене это заметил и, кажется, уже не удивлялся, что кавалеру будто все равно.
– Завтра раздадим деньги, – говорил он, – пусть пока у вас полежат.
– Хорошо.
И все.
Все-таки Рене ушел озадаченный. И Волков это видел. Очень это было нехорошо, не должны подчиненные видеть в нем человека растерянного, испугавшегося или даже отстраненного. Но кавалер ничего не мог с собой сейчас поделать. Он все время думал… Нет, не о его сеньоре, разгневанном герцоге, и не о горцах, его свирепых и мстительных соседях. Его выматывали мысли о возможной беременности жены. И ни сон, ни еда, ни деньги для него сейчас не были радостью. Ревность, уязвленное достоинство, растоптанная честь и боязнь, что на его поместье сядет не его сын, заставляли кровь закипать.
Волков мрачнел, как только вспоминал об этом, а пальцы сжимались в кулаки до хруста. И он представлял с удовольствием, как эти самые пальцы сжимаются на нежном белом горле распутной женщины. Никогда доселе он не испытывал таких сильных чувств. Кавалер буквально болел от них. Он даже женщин сейчас не хотел, хотя не старая еще, ровесница жены или чуть старше, рыжеволосая госпожа Ланге была весьма привлекательна. Ходила рядом, сидела с ним за одним столом и делала ему тайные знаки, если хотела поговорить. Он легко мог взять ее, как только представилась бы возможность, никуда бы она не делась. Но не трогал, не до нее ему было.
Так он и жил в эти дни: не радуясь ни серебру, ни вину, ни жирному мясу и не желая женщин. Словно грешный старик перед смертью.
Пришел к нему солдат еще до обеда. Чего ему нужно было? Хоть поначалу Волков и не хотел его слушать, думал, что клянчить что-то хочет, но согласился принять. Сел за стол свой, велел звать просителя. Солдат был молод, звали его Михель Цеберинг, он поклонился и сказал:
– Господин, дозволите ли вы лодки ваши взять, что на пристани у амбаров стоят? Хочу кирпич в Фринланд возить. Там открыть продажу в Эвельрате.
– Эвельрат неблизко, чего тяжесть в такую даль возить, кирпич и мне нужен, – ответил Волков. – Мне церковь еще строить, монаху моему дом достраивать.
– Монах ваш дом уже достроил, стены стоят, печи стоят, черепицы мы ему еще нажжем, сколько нужно будет, а кирпич ему больше не требуется. Как церковь строить начнете, так вы свой можете тратить. У нас того кирпича, что вам причитается, много. На костел небольшой хватит.
– И что, во Фринланде кирпич ваш брать будут? – без всякого интереса спрашивал Волков.
– Будут, господин, будут, – говорил солдат уверенно. – Купчишки их тут все время около нас трутся, все норовят купить кирпичи наши. И цену дают, но сдается мне, что там у них за речкой цена получше будет. Иначе тут бы у нас кирпич не клянчили. Думаю поехать туда с первой партией. Поглядеть, как торговля пойдет.
Брат Ипполит, что за другим концом стола сидел с детьми над книгами, беседу их слышал. Обычно он в господские разговоры не лез, а тут оживился, подошел к кавалеру и просил позволения слово сказать.
– Ну? – разрешил Волков.
– Пусть солдат племянника вашего возьмет в компанию, – заговорил монах, склонившись к уху господина. – Юноша к цифрам и счету боек. Возрастом уже к делам способен. Ему, кажется, тринадцать уже. Вдруг к делу купеческому способность у него проявится.
А монах, может, был и прав. Щуплый все еще мальчик к воинскому делу оказался не приспособлен, но по возрасту уже мог попробовать другое ремесло.
– А грамоте ты его уже научил? – с некоторым сомнением осведомился кавалер.
– Писать и читать может плохо, но память у него хороша и считает хорошо.
Солдат терпеливо ждал, а Волков поманил к себе племянника:
– Знаешь, что брат Ипполит мне предлагает?
– Не ведаю, господин, – отвечал юноша.
– Брат Ипполит говорит, что ты к делу купеческому предрасположен. Что память твоя хороша, и что считаешь ты бойко.
– Хочу я ремеслу воинскому учиться, – сказал Бруно Дейснер.
– Нет, о том и не помышляй, – возразил кавалер без обычной твердости. – Солдат, бери моего племянника с собой помощником, пусть учится торговать. За это лодки мои используй без всякой платы.
– Что ж, мне помощник будет кстати. Беру, конечно, – сразу согласился солдат. Глупо ему было бы не взять к себе в помощь племянника господина.
Волков достал два талера и протянул юноше.
– Это тебе на содержание. – Он положил в руку парню одну монету. – А это тебе на дело. Иди, смотри, что можно купить дешево там и продать дорого тут. И наоборот. И запомни: в деле купеческом главное – это знание. – Положив вторую монету, он помолчал и добавил: – Это во всех делах главное. Слушай, смотри, считай, запоминай. Знай цены.
– Да, дядя, – отвечал без всякой радости Бруно, зажимая деньги в руке. – Как пожелаете.
– Так и пожелаю, ступайте.
Оба они ушли на двор договариваться, и тут же пришла сестра. Уже все знает, глаза мокрые, стоит, с упреком смотрит на брата.
– Хватит! – Волков махнул на нее рукой. – Не на войну уходит, а в дело торговое.
Она только покивала. Вроде как понимала.
А он вспомнил себя. Сам был только немногим старше, когда ушел в солдаты. И денег ему никто не дал, и компаньона у него не было. Ничего, выжил.
– Успокойтесь, сестра, успокойтесь, – говорил он, – даст Бог, все у него получится.
Она согласно кивала, понимала, что так хорошо для мальчика будет, и пошла на двор поговорить с сыном.
Волков же встал глянуть, где Максимилиан и Увалень пропадают. А они на дворе, там же все офицеры собрались, даже Карл Брюнхвальд в телеге приехал – ни ходить пока еще не мог, ни на коне ездить, одна рука еще досками стянута оставалась. А за воротами двора солдаты толпились. Улица людьми забита. Кажется, все пришли. И тут кавалер вспомнил, что сегодня день расчета. День дележа добычи. Пришли за деньгами.
Он стоял почти на пороге, когда мимо него бочком протискивалась госпожа Ланге, неся завязанные в комок простыни. И она тихо сказала слова, от которых Волков вдруг ожил сразу:
– Госпожа Эшбахт не обременена.
Сказала и пошла к сараям. А ему потребовалось время, чтобы понять смысл этих слов.
Гора с плеч. По-другому и не скажешь. И причем самая большая гора. Самая тяжкая, та, что пригибала до самой земли. И вот нет ее.
Не обременена! Чисто чрево ее. Значит, для Сыча дела нет. И слава богу, что без него все обошлось. Сыч – человек безжалостный, он легко придушил бы новорожденного младенца, роди госпожа Эшбахт мальчика. Придушил и опять в колыбель положил, словно само чадо померло. А сам спать бы пошел спокойно, заглянув перед этим к Марии на кухню поесть чего-нибудь. Однако отдавать приказ о душегубстве, о детоубийстве пришлось бы ему, Волкову. А ему страсть как не хотелось такие приказы отдавать. Он за свою жизнь и так людей поубивал в избытке. Но детей среди них не было.
– Хорошо, – тихо сказал кавалер и глянул вслед уходящей рыжей красавице. – Спасибо, госпожа Ланге. За весть добрую будете вознаграждены.
Брат Семион словно с ума сошел: на дом свой все деньги потратил, что у епископа на костел выпросил. Из двух тысяч двухсот отличных серебряных монет чеканки земли Ребенрее уже ушло тысяча семьсот, и опять пришел брать деньги.
– Куда же ты их деваешь? – спрашивал Волков, думая: а не прячет ли монах часть их для себя.
– Закажу изразцы для печей. Мастер приехал, готов по божеской цене мне все печи обложить изразцами.
– Уж не князем ли Матери Церкви ты себя возомнил? – усмехался Волков. Но деньги давал.
– Так всю жизнь жил в святой простоте, хочется радости для глаз и сердца, – смиренно отвечал монах, забирая деньги цепкой рукой.
Ничего, пусть строит, пусть старается. Волков не жалел денег епископа. Лишь бы горцы результаты всех этих стараний не спалили. Он опять усмехался и спрашивал:
– А на что ты будешь костел возводить? Скажи-ка мне, святой человек.
– Да уж коли Бог не оставит, так сыщу на что, – отвечал монах, пряча серебро под сутану.
Волков понимающе покивал, настроение после доброй вести у него было хорошее:
– Ну-ну, только не забывай, монах, что на приход в Эшбахт тебя епископ назначил по моей просьбе, ты уж меня не подведи, друг сердечный.
– Не подведу, господин, не подведу, – все так же беззаботно говорил брат Семион, спускаясь по лестнице на первый этаж. – Денно и нощно молю Бога, чтобы разрешил вопрос с костелом.
Волков сундук закрыл и последовал за монахом. А там, внизу, за столом, все женщины его: госпожа Эшбахт, ликом сумрачна, сидит; сестра Тереза ходит тихо, словно мышка; госпожа Ланге украдкой косится на кавалера. И племянницы тут же. Все занимаются рукоделием. Вышивают. Мария и две бабы дворовые готовят обед. На дворе офицеры и старшины солдатские считают серебро. К ним кавалер идти не захотел: народу слишком много, суета. Свое серебро он уже получил.
Садясь к столу на свое место, он жену свою ласково за руку тронул. Элеонора взглянула на него недобрым взглядом, в глазах нелюбовь. А он ей улыбнулся в ответ.
Зато младшая племянница всегда кавалеру рада. Бросила рукоделие свое, хоть и мать ее окликнула, не послушалась, пошла к дяде на колени. Стала рассказывать ему, что теленок бодал ворота. Дядя кивал, а сам поглядывал на госпожу Ланге украдкой, и та, ловя его взгляд, краснела и глаза опускала к шитью.
– Мария, ну скоро там у тебя обед? – крикнул он.
– Свинину уже ставлю жариться, – отвечала служанка.
– Ты не забыла? Сегодня господа офицеры будут!
– Да разве про них забудешь, они со своими солдатами тут уже с утра, – отвечала за служанку госпожа Эшбахт. – На двор не выйти.
Опять она была недовольна. Но Волкова это мало волновало. Главное – чтобы обед побыстрее подавали.
Первый раз Волков увидал, что Максимилиан выпил много вина. Он сидел в конце стола с Увальнем до самого вечера. И пил почти наравне с офицерами. Наверное, от радости. Максимилиан Брюнхвальд и Александр Гроссшвулле получили свои доли за рейд в Милликон. И если Гроссшвулле получил долю сержантскую, то Максимилиану досталась доля прапорщика, двести сорок монет, деньги для юноши немыслимые. Они оба все тосты за офицерами поднимали. И к ночи были совсем навеселе.
Жене кавалера все эти офицерские пирушки сразу не полюбились.
Сестра кавалера, Тереза, сидела чуть покраснев. Жена Карла Брюнхвальда тоже довольна была. Госпожа Ланге раскраснелась и цвела. Пила и смеялась вместе со всеми. А вот дочь графа сидеть за столом со всеми не хотела. Поела, попила, посидела немного, а как стемнело на дворе, так сказала вроде как Волкову, но так, чтобы все слышали:
– Спать пойду, вы тоже, господин мой, не засиживайтесь, гостям скажите, что надо честь знать.
– Скажу-скажу, – обещал Волков. – Не засидятся гости. Ступайте почивать, жена.
Она еще по лестнице поднималась в покои, а он уже на Бригитт смотрел, смотрел и любовался ею. Та как раз смеялась над шуткой Бертье, главного весельчака за столом. И тут на кавалера взгляд бросила. И как увидала его глаза, что ее поедом ели, так даже испугалась. Глаза его были пьяны и алчны. От взгляда этого она еще сильнее покраснела, смеяться перестала, стала руками обмахиваться, чтобы не так ей жарко было. Потом хотела стакан взять, да опрокинула на стол. Все смеялись, и она тоже. Как стакан подняла и держала его, пока ей Рене вина наливал, на Волкова косилась. А он не смеется, кажется, один за столом, он взгляда от нее не отрывает.
И Бригитт Ланге еще сильнее стала волноваться.
Потом с госпожой Брюнхвальд и госпожой Терезой они вышли на улицу подышать – в доме уже слишком жарко стало. И когда уже пошли в дом обратно, так госпожа Ланге у двери встала, пропуская вперед подруг. И как те вперед прошли и она уже хотела в дверь входить, так ее схватил кто-то за руку. Схватил крепко из темноты. Так крепко, что у женщины сердце зашлось от страха. Ноги едва не подкосились, и она прошептала:
– Ой, господи!
Темно на дворе было, ночь безлунная, не видела она того, кто ее схватил, но знала, кто это. То ли по запаху, то ли сердцем чуяла.
И повел ее он за угол, за амбар. Она пошла послушно на мягких ногах, сердце чуть не выскакивало. И споткнулась, в темноте. Упала на колени.
«Ну не дура ли? – сама себе сказала. – Была бы не пьяна, так со стыда умерла бы». А вслух опять прошептала, словно других слов не знала:
– Ой, господи!
Истинно дура.
Сильные руки ее подняли, а она смеяться стала, юбку отряхивать. А он ей лицо запрокинул, взял за щеки горячие. Она замерла и про юбку тут же позабыла.
И тут он ее поцеловал. В губы. И все равно ей было, что щетина колется, и все равно ей было, что вином пах он. Так сладко ей стало, так хорошо, что до кончиков пальцев на ногах по телу ее волна прошла. Такая волна, что ноги опять сделались слабы, хоть на землю ложись. Но нет, не дали ей руки сильные лечь, они приподняли ее и к стене амбара поставили. Руки эти стали ей грудь мять, сжимать, но совсем не больно. А потом и живот трогать, низ живота, юбку ей тянуть кверху и комкать. А губы горячие целовали ее в губы, в шею, в щеки, в глаза. А руки его в ее юбках путались. И чтобы помочь ему, она сама свои юбки подобрала. Так высоко подобрала, как нужно ему. Совсем высоко.
А потом, когда все кончилось, тихо смеялась в темноте, отряхиваясь и поправляя одежду.
– Чего вы? – спросил Волков.
– Как на свет идти, не знаю, – говорила Бригитт, посмеиваясь, – вся, как холопка, грязна, и сверху, и изнутри. Платье все грязно.
– Я вам новое куплю, самое лучшее, что найдете в Малене.
– Я не про то, господин, я про то, что люди увидят, – пояснила госпожа Ланге, отряхивая юбку.
– И черт с ними. Жена спит, а остальные пьяны, не до того им.
– Пойду, а то подумают еще чего.
– Ступайте, – сказал он.
Она сама поцеловала его в губы и пошла в дом, а он еще постоял, подождал немного.
Утром следующего дня кавалер чувствовал себя на удивление хорошо, ничуть от вчерашнего не страдая. А вот госпожа Ланге хорошо себя не чувствовала. И госпожа Эшбахт с удовольствием ей за это высказывала:
– Поменьше бы сидели с господами офицерами. Может, и не тошнило бы вас поутру, и голова бы не болела.
– Вы правы, госпожа, – отвечала Бригитт.
– Да кто ж тогда вам золото будет дарить, если вы пить вино с ними не станете? – едко замечала Элеонора Августа, косясь на браслет, что поблескивал на руке госпожи Ланге.
– Извините. – Бригитт встала из-за стола и вышла из дома, даже не поглядев в сторону Волкова.
«Неужто рыжую раскаяние мучает?» – думал кавалер. Он надеялся, что не в этом дело, а в винной болезни, что со всеми случается от больших возлияний.
После завтрака пришел Ёган. Он похудел заметно, стал серьезен. Резок. Одежда пообтрепалась, лицо почернело от солнца. Все лето на коне в поле был. Видно, непросто давалась ему новая должность. Раньше был добряк, ругался только с Сычом, а сейчас и мужиков, и нанятых солдат готов был палками лупить, если ленились и отлынивали.
Сели за стол, Ёган выложил перед собой бумаги и принялся рассказывать, сколько собрали ржи, ячменя, овса и даже гороха. Гороха тоже немного было, хоть он и не уродился как надо. Брат Ипполит научил Ёгана писать сразу после приезда в Эшбахт. Теперь управляющий записывал все корявым почерком, чтобы не забыть и показать господину. Стали решать, что делать с урожаем. Ёган твердил и твердил, что сейчас продавать ничего не нужно.
– Господин, ржи у нас один амбар до потолка. С мужиками рассчитался, солдатам, что помогали, тоже все отдал. И три тысячи пудов осталось, собрали, наши, значит. Купчишки дают по два крейцера и два пфеннига за пуд. Воры, собаки! Нипочем по такой цене отдавать нельзя. Попомните мои слова: к Рождеству три будет стоить.
– Продавай, Ёган, – велел Волков, чуть подумав.
– Не слышите вы меня, что ли? – Управляющий от досады аж ладонью по столу хлопнул. Племянниц на другом конце стола напугал, дурень. – Говорю же: к Рождеству три крейцера давать будут. А у нас еще у реки полный амбар ячменя и овса. И вам сюда полный амбар овса насыпал. То, что в амбары не влезло, то продать можно, если вам так деньги нужны, остальное пусть лежит до зимы. Амбары у нас новые все, хорошие, не протекают, авось зерно не заплесневеет, и мыши его сильно не поедят, зачем его сейчас-то по дешевке продавать?
Кавалер слушал его, слушал и спросил негромко:
– А ты слышал, что я ярмарку пограбил за рекой?
– Да кто ж этого не слышал, все это слышали. Мужики ваши в ужасе до сих пор от лихости вашей, они горцев до смерти боятся. Удивляются, как вы осмелились, – говорил Ёган.
– Правильно, что боятся, – все так же тихо проговорил Волков. – Горцы – люди свирепые и обидчивые. Они придут сюда скоро. Что делать станем, когда придут?
Ёган смотрел на него удивленно, хлопал глазами. Видно, такая мысль ему в голову не приходила.
– Ну, – начал он медленно, – так вы их, может, погоните.
– Погоню, если двести их будет. А если придет пятьсот? – Управляющий молчал. Думал. – Продавай все, – велел Волков, подождав немного. – Деньги в кошель положил да поехал, а зерно с собой не увезешь.
– Так, значит, и амбары наши новые пожгут.
– Обязательно пожгут, – заверил его кавалер, – если до них доберутся. И амбары, и дом этот, и все дома вокруг. И ты готов будь по первому знаку все имущество быстро собрать и у меня, и у мужиков и бежать на север к Малену.
– И имущество, значит, и скот – все, значит, собирать придется.
– И имущество, и скот. Все. А зерно, что не нужно нам на зиму, все продай и мужикам с солдатами накажи, чтобы так же делали. Чтобы телеги в порядке держали, чтобы лошади здоровыми были.
– Вон оно как, значит. – Ёган был обескуражен. – Значит, зерно продавать будем.
– И побыстрее, – подтвердил Волков.
В этот день пришло сразу два письма. Одно злое от нобилей городских, в котором просили его быть к ним на совет. Хотели знать городские нобили, станет ли Волков и дальше длить свару с кантоном Брегген. И не хочет ли он раньше срока договора вернуть деньги те, что они ему дали. То письмо он выкинул, даже дочитывать не стал. А вот то письмо, что привез ему гонец из Фринланда, так хоть другим читай. Писал ему сам его высокопреосвященство архиепископ и курфюрст Ланна:
«Сын мой, лучший из сынов моих, рыцарь и паладин, хранитель веры и опора Трона Господня, мир наполнен славою деяний твоих. Слышали все люди богобоязненные, что опять указал ты сатане место его, опять попрал еретиков, что в мерзких горах своих живут в подлости ереси, теша господина своего Люцифера зловонного мерзостью реформаторства. Слуги сатаны Лютер и Кальвин слезы льют за господина своего попранного. А мы возликовали со всеми людьми веры истинной и в честь тебя на всех колокольнях славного города Ланна велели бить «праздник». А в проповедях все отцы святые читали тебе славу и упоминали как хранителя веры и рыцаря Божьего, чтобы все агнцы Божьи за тебя молились, как молюсь о тебе я ежедневно».
Любой бы хвалился таким письмом, и Волков хвалился бы, если бы не имелось там приписки:
«А еще, сын мой, прошу тебя про уговор наш насчет купчишек Фринланда вспомнить. Про тех, что от спеси своей про уважение к господину своему позабыли. Сделай им так, чтобы вспомнили они. Бери с них серебро без всякого милосердия за то, что по твоей реке плавают. То будет дело богоугодное, так как от глупой гордыни спесивцев отворотит. А письмо мое сожги от греха подальше. И благословен будь.
Архиепископ и курфюрст славного города Ланна».
Волков подошел к очагу, над которым Мария готовила еду, и кинул письмо в огонь. Он не собирался выполнять просьбу архиепископа. Нет. Уж точно не сейчас. Герцог Ребенрее и граф и так на него злы, а начни кавалер грабить купчишек, так и вовсе взбесятся.
И могло так случиться, что добрых людей от герцога он увидел бы раньше, чем злобных горцев. А Волкову ну никак не хотелось доводить дело до войны с герцогом. Это поначалу, ему казалось, что Эшбахт поместье нищее, никчемное, которое можно бросить да уйти. А теперь он уже так не считал. Обжился, свыкся с землей этой, собрал урожай, построил кое-что, родней обзавелся какой-никакой. Хотя почему никакой? Родней он обзавелся самой знатной, что есть в округе. Деньгу получал с реки, с кирпичей. Зачем же такое бросать? Только лишь потому, что поп из Ланна просил? Хватит попу и того, что он распрю с горцами по его велению затеял. Ну, а если он горцев угомонит, так, может быть, и за купчишек примется. Купцы – это деньги, кто ж от денег отказывается? Уж точно не он.
За обедом Элеонора Августа сказала вдруг:
– Господин мой, дозволите ли вы мне съездить в город?
Говорила она без привычной своей злости, вполне себе мирно.
– Коли есть нужда у вас в городе быть, так я с вами поеду, – отвечал Волков. Он точно не собирался отпускать ее одну. – Могу сегодня, время у меня есть.
– Ах, чего же вам лишний раз тревожиться, раны свои ездой бередить, нужно мне купить женских мелочей. Если не желаете меня пускать одну, так я дома останусь, пусть Бригитт съездит без меня. Она и сама все купит.
Кавалер глянул на госпожу Ланге и по лицу ее сразу понял, что тут дело непростое. И сказал:
– Ну что ж, пусть госпожа Ланге едет. Дам ей провожатого.
– Спасибо вам, супруг мой, – говорила Элеонора Августа.
Была она сама ласковость. И даже улыбалась ему первый раз за многие дни.
А госпожа Ланге после обеда сделала Волкову знак, и как только они смогли остаться наедине, так достала из рукава платья сложенный вчетверо листок и протянула ему. Кавалер развернул бумагу и сразу понял, от кого это письмо и кому:
«Друг сердца моего на вечные времена, пишет вам та, кто без дум о вас и дня не живет. Пишу вам, чтобы сказать, как скучаю без вас, без песен ваших, без рук ваших, без поцелуев ваших. Здесь, в дикости Эшбахта, живу без музыки и стихов, без ночных пиров и танцев, но то бы я все снесла, если бы вы, мой милый, были со мной. Или хотя бы изредка приезжали ко мне. Но сие невозможно, супруг мой – деспот, стихов от него никогда не услышишь.
Пиров у него не бывает, поэтов и певцов тут не привечают, людишки его низки, чернь да солдафоны. Хоть и моется он каждый день, так все одно смердит от него потом конским и кровью людской, видно, на всю жизнь уже этим провонял. И от этого и от того, что вас нет, тоскливо мне тут, жизнь для меня кончилась. Живу одной лишь надеждой, что сгинет в какой-нибудь войне или издохнет от своих ран. Ходят слухи, что сюда, в Эшбахт, горцы явятся. Молюсь, чтобы пришли его и прибили. А еще надеюсь, что папенька позовет его и меня к себе в поместье, где я буду счастлива видеть вас, на веки вечные друг мой сердечный.
Навсегда ваша Элеонора».
Как это ни странно, но кавалер не злился уже, его не затрясло, кулаки его не сжались и сердце не забилось. Он словно весть от лазутчиков своих получил о том, что враг не смирился, что враг продолжает войну. В этом письме было все, что ему требовалось знать про свою жену. Он понял, что она отдастся своему любовнику при первой возможности и что она ждет его, Волкова, смерти. Но вот только ли смиренно ждет? А еще он понял, что рыжая красавица Бригитт на его стороне. Волков взглянул на нее, девушка стояла рядом, смотрела на него и ждала, она была похожа на ребенка, что совершил хороший поступок и ждет похвалы от взрослого.
– Вы молодец, – сказал кавалер и погладил ее по волосам.
Поглядел на нее и понял, что ждала она не этого. Тогда он поцеловал ее в губы, потом полез в кошель и достал из него пять талеров:
– Кажется, недавно вы испачкали платье?
– Да, – она улыбнулась и покраснела немного, – и еще нижние юбки.
– Купите себе всего побольше, – предложил он, вкладывая ей в руки деньги, – теперь вы часто будете пачкаться. – Она схватила деньги с радостью, спрятала их в платье. Кажется, была довольна. А он продолжал: – Отдайте письмо тому, кому оно написано, а на словах добавьте, что как только будет случай, как только муж покинет Эшбахт, так Элеонора его сюда призовет.
Лицо Бригитт сразу изменилось:
– Так вы задумали его… заманить его.
Заманить? Она придумала странное слово. Ну, что ж, пусть будет «заманить».
– Конечно, – Волков все решил, когда еще читал письмо, – а вы мне в этом поможете. Вы ведь поможете мне, Бригитт?
Он смотрел на нее не отрываясь, прямо в ее зеленые глаза, и женщина не смогла ему отказать, она кивнула:
– Да, господин.
– Вот и хорошо. Так что вы ему передадите на словах?
– Передам, что… что как только вы покинете Эшбахт, так Элеонора даст ему знать…
– Чтобы он?.. – уточнил кавалер.
– Чтобы он приехал к ней, – не сразу закончила госпожа Ланге.
– Именно. – Волков еще раз поцеловал ее и пошел в дом.
Вскоре она собралась, села в карету своей госпожи и подруги и уехала. А Волков позвал Максимилиана и Увальня и сказал им:
– Давненько я не стрелял, Максимилиан, несите мне мой пистолет и арбалет, а ты, Увалень, найди чурбан побольше и волоките его за амбары.
Кавалер стрелял долго – и из пистолета, и из арбалета. Причем стрелял хорошо, как и раньше, стрельбой своею удивляя оруженосцев. Ни один, ни другой и близко не могли стрелять так точно, как это делал старый солдат. Хотя с пистолетом он был знаком немногим больше, чем молодые люди.
Они стреляли, пока не появился брат Ипполит. Подошедший монах встал в стороне и ждал, пока кавалер обратит на него внимание.
– Ты что-то хочешь? – спросил тот, натягивая арбалетную тетиву.
– Господин, я был сегодня в Малене.
– И как? Стоит город?
– Слава Богу, господин, стоит. Я заходил на почту.
– Ты все еще пишешь своему настоятелю?
– Пишу, господин, все еще пишу, – покивал монах. – Почтальон спросил меня, не захвачу ли я вам письмо, раз еду в Эшбахт.
– Письмо для меня? – уточнил Волков, поднимая арбалет и сразу выпуская болт.
Болт впился в самый центр чурбака. То был отличный выстрел.
– О! – восхитился Максимилиан. У него так не получалось.
А Увалень даже говорить ничего не стал. Вообще, судя по всему, стрельба была не его делом.
– Письмо для вас, господин, – подтвердил монах, тоже повосхищавшись точным выстрелом. – И судя по почерку, оно от нашей Брунхильды.
– От Брунхильды? – Кавалер сразу отдал арбалет Увальню. И пошел к монаху. – Давай сюда.
Да, почерк был коряв и скорее напоминал детский, чем взрослый, но брат Ипполит узнал его сразу, ведь это он учил Брунхильду грамоте.
Волков развернул послание:
«Любезный брат мой, я и мой супруг граф желаем поделиться с вами радостью нашей. Хочу обрадовать вас вестью, что беременна я, и это доктор наш подтвердил. Молю Бога и вас прошу молить Его, чтобы даровал мне сына. И верую я, что родись у меня сын, так порадуетесь и вы вместе со мной, и надеюсь, что это будет ваш племянник наилюбимейший.
Сестра ваша Брунхильда, графиня фон Мален».
Волков прочел это и растерялся, пошел и сел на одну из телег, что стояли за амбарами. Молодые люди – и монах, и Максимилиан, и Увалень – переглядывались и не понимали, что с господином произошло. Что такого странного могло быть в письме госпожи Брунхильды? Отчего он молчит, отчего сел и задумался?
А он опять поднял бумагу и прочел последнюю строку: «И верую я, что родись у меня сын, так порадуетесь и вы вместе со мной, и надеюсь, что это будет ваш племянник наилюбимейший». Да, молодые люди не понимали, что происходит с ним. Да и никто не смог бы понять, что с ним, кроме него самого и графини Брунхильды фон Мален.
Больше кавалер стрелять не хотел, Максимилиан уже зарядил пистолет и выстрелил в колоду, а он пошел в дом. А там у порога стояла Тереза, как будто ждала его. Она явно была встревожена: щеки красны, руками платок комкает. Волков же не заметил того, прошел мимо в дом, а там за столом с госпожой Эшбахт вел вежливую беседу ротмистр Арчибальдус Рене. Хоть и не до того Волкову было, но он заметил, что ротмистр зачем-то в кирасе. Кираса начищена так, что не любое зеркало таким бывает. А еще подпоясан он офицерским шарфом, и сапоги его и одежда вычищены. Словно ко смотру приготовился. Как кавалер вошел, так ротмистр встал, сжимая в руках шляпу.