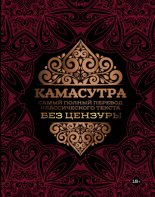Черный Леопард, Рыжий Волк Джеймс Марлон

– Ты говоришь слишком громко.
– Знаю.
Перед этим человеком в пыль было брошено такое множество ковров: ковер на ковре, ковры явно с востока, и другие, в цветах, каким нет названия, – что можно было подумать, будто он коврами торгует, а не людьми. Он из ковров стены сотворил: черные ковры с красными цветами и надписями на чуждых языках. Было так темно, что постоянно горели две лампы. Барышник сидел на высоком табурете, пока один прислужник снимал с него сандалии, а другой внес блюдо с финиками. Может, и был он принцем или, по крайности, большим богачом, только ноги у него воняли. Прислужник, державший зонт, попытался снять с хозяина шапку, но получил от него по рукам – не сильно, а игриво, слишком игриво. Еще много-много лун тому назад я зарекся вникать в мелочи поведения людей. Прислужник с зонтиком обратился к нам со словами:
– Достопочтенный Амаду Касавура, лев нижних гор и владыка людей, примет вас до захода солнца.
Леопард повернулся уходить, но я сказал:
– Он примет нас сейчас.
Носитель зонтика справился с отвисшей челюстью.
– По-моему, вы не понимаете нашего языка.
– По-моему, я прекрасно его понимаю.
– Достопочтенный…
– Его достопочтенство, видать, забыл, как разговаривать со свободнорожденными.
– Следопыт.
– Отстань, Леопард.
Леопард закатил глаза. Касавура стал смеяться.
– Я буду на постоялом дворе «Куликуло», на тот случай, если кто-то захочет поговорить со мной о делах.
– Никто не уйдет без позволения, – проговорил работорговец.
Повернувшись, я направился к выходу и почти добрался до него, когда появились три стражника, держа руки на оружии, но не извлекая его.
– Стража примет тебя за беглеца. Сперва разделается с тобой, а потом уже станет задавать вопросы, – произнес Касавура. Голосок у него оказался писклявее, чем я ожидал. Как у малого ребенка или у захудалой ведьмы. Стражи схватились за оружие, и я выхватил из лямок на спине два топорика.
– Кто первый? – спросил.
Касавура засмеялся громче. Потом спросил:
– И это человек, кому, как ты говорил, время остудило сердце?
Леопард громко вздохнул. Я понимал, что это проверка, просто не любил, чтоб меня подвергали проверкам.
– Мое имя говорит само за себя, так что решай по-быстрому и не трать мое время попусту. К тому же работорговцев я не терплю.
– Принесите еду и напитки. Сырую козлиную ногу для Квеси. Или ты предпочтешь живого, чтоб самому убить? Садитесь, благородные господа, – пригласил Барышник.
Теперь носитель зонта вздернул брови и плотно втянул губы. Он подал хозяину золотой кубок, и тот вручил его мне.
– Это…
– Пиво масуку, – сказал я.
– Ведь говорили же, что у тебя нюх хорош.
Я выпил. То было пиво, лучше какого я никогда не пробовал.
– Вы человек богатый и со вкусом, – оценил я.
Он от похвалы отмахнулся. Поднялся на ноги, но нам махнул, мол, сидите, сидите. Даже его начинали раздражать слуги, что мельтешили перед глазами на каждом шагу. Барышник дважды хлопнул в ладоши, и все они убрались.
– Ты не тратишь время понапрасну, так что не стану его тратить. Уже три года, как украли ребенка, мальчика. Он только-только начинал ходить и мог говорить «баба». Однажды ночью его кто-то украл. Никаких посланий не оставили, и выкупа никто не потребовал – ни запиской, ни с помощью барабанов, ни даже посредством колдовства. Знаю, что за мысль у тебя сейчас в голове. Может, продали его на тайном рынке ведьм: маленький ребенок принес бы ведьмам кучу денег. Только мой караван получил защиту от Сангомы, именно такую, какая по-прежнему наделяет защитой даже после ее смерти. Но тебе это известно, ведь так, Следопыт? Леопард считает, что железные стрелы отскакивают от тебя потому, что им страшно становится.
– Все ж нам с тобой есть еще о чем поговорить, – сказал я Леопарду, придав лицу какое надо выражение.
– Ребенка этого мы доверили одной домоправительнице здесь, в Малакале. Потом однажды ночью кто-то перерезал глотки всем в доме, а ребенка украл. Одиннадцать в доме – все убиты.
– Три года назад? Так они в игре не только далеко ушли, они могли ее уже и выиграть.
– Это не игра, – заметил Барышник.
– Мышка никогда так не думает, зато думает кошка. Ты еще не завершил свой рассказ, а дело уже звучит неосуществимым. Впрочем, заканчивай.
– Благодарю. Мы слышали от нескольких человек, что, возможно, одна женщина с ребенком снимает комнату в гостинице близ Колдовских гор. Все они занимали одну комнату, вот почему один из постояльцев и запомнил. Мы узнали об этом, потому что нашли хозяина гостиницы через день после того, как постояльцы съехали. Послушай меня: мертв, как камень, весь белый оттого, что вся кровь из него ушла.
– Его убили.
– Кто знает? Но потом, десять дней спустя, до нас дошла весть о еще двоих. Два дома аж по пути в Лиш, где мы опять услышали о них – четверо мужчин и ребенок. И все мертво после их ухода.
– Но от тех гор в Лиш добираться одну и еще половину, может, две луны пешком.
– Скажите мне что-нибудь, чего мы не уяснили. Помимо того, что убивают одинаково, все мертво, как камень. Почти две луны спустя люди из Луала-Луала выбежали из своих жилищ и не хотели возвращаться обратно, болтая о ночных демонах.
– Он странствует с бандой убийц, но они его не убили? Что в нем такого ценного? Мальчик, рожденный свободным от работорговца? Он не твой собственный?
– Он дорог мне.
– Это не ответ.
Я поднялся.
– В данный момент мясо в вашей истории там, где вы не желаете говорить, а кость – где говорите.
– Тебе необходимо знать, чтобы работать на меня? Говори откровенно.
– Нет, ему не надо, – сказал Леопард.
– Нет, мне не надо. Только ты ищешь ребенка, кто три года как пропал. Он может быть за Песочным морем, или крокодил давным-давно его высрал в Кровавое болото, мог, насколько нам известно, затеряться в Мверу. Даже если он еще жив, он будет ничем не похож на ребенка пропавшего. Вполне может жить под другой крышей, называть другого отцом. Или четверых.
– Я не его отец.
– Это твои слова. Может, он теперь в рабстве.
Барышник сел передо мной.
– Ты хочешь, чтоб мы занялись поисками. Так скажи мне правду. А тебе нравится словами в меня кидаться.
– О чем?
– Каждому мужчине тут не повезло на войне. Каждую женщину тут купят, и жизнь ее пойдет получше. В конце концов, живи они хорошо, так не оказались бы на невольничьей повозке.
– Он ничего не говорил, почтенный Амаду, это просто у него привычка такая, – запричитал Леопард.
– Не говори за него, Леопард.
– Да уж, Леопард, не говори за меня.
– Ты был рабом, нет?
– Мне не надо совать нос в дерьмо, чтоб понять, что оно воняет.
– Справедливо. И все же кто ты такой, чтоб я тебе свою жизнь расписывал? Ты тот, кто станет искать, и найдет, и вернет жену, даже если ей ее же муж глаза вырезал. У каждого, кто сейчас здесь сидит, есть цена, достойный Следопыт. А твоя и вовсе может оказаться дешевой.
– Что у тебя есть от мальчика?
– Нет, не так быстро. Мне только лишь нужно знать, что предложение тебя цепляет. Мы встретились, мы выпили пива, мы примем решение. Вот что тебе следует знать. Предложение такое я сделал и еще кое-кому. Числом восемь, возможно, девять. Кто-то станет действовать с тобой вместе, кто-то нет. Кто-то постарается найти мальчика первым. Ты не спросил, сколько монет я заплачу.
– А мне и незачем. Учитывая, как дорог он тебе.
Леопард всполошился. Он не знал, что кто-то станет искать ребенка сам по себе. Пришел мой черед угомонить его.
– Следопыт, тебя это не оскорбляет? – спросил он.
– Оскорбляет? Я даже не удивляюсь.
– Я и не думал, что ты способен удивляться. Однако это наш добрый друг Леопард, а не ты, кто все еще не знает, что нет в человеке черного, одни оттенки, и оттенки серого. Моя мать не была доброй женщиной и добродетельной тоже не была. Только сказала она мне: Амаду, богам моленья шли, а двери на запоре держи. Ребенок пропал три года назад.
– Леопард, подумай. Глупо ему было бы доверить это всего двум искателям.
Работорговец хлопнул в ладоши, и трое поспешили вновь войти, чтобы заняться тем же самым: тереть ему ноги, подавать ему финики и глазеть на меня, будто я тоже обращусь в леопарда.
– Даю вам четыре ночи на решение. Путешествие это не будет легким. Есть силы, Следопыт. Есть силы, Леопард. Они приходят с ветром утром или порой, когда солнце в самую высь поднялось, в час слепящего света ведьм. Так же, как я хочу, чтоб мальчика нашли, наверняка есть и такие, кто желает держать его в скрытости. Никто еще слова не сказал про выкуп, и все ж я знаю, что ребенок жив, и знал еще до того, как шаман обращался к старшим богам и те поведали ему, что это так. Но, слушайте вы оба, есть силы. В жаркое время года губительный ветер прокатывается по городам и уносит все, что им иметь не надлежит. Дневной ли грабитель, ночной ли вор – не могу сказать, с чем вы столкнетесь. Однако мы слишком много говорим. Даю вам четыре ночи. Коль «да» станет вашим ответом, встретимся у Рухнувшей Башни в конце улицы Бандитов. Место известно?
– Да.
– Ждите меня там после захода солнца, и это будет вашим согласием.
Барышник повернулся к нам спиной. Наше дело с ним пока было сделано. И тут опять вспомнились мне женщина, какую он убил, и мужчина, кого он сделал евнухом.
– Глупый Следопыт, ты же наверняка знаешь, как евнухами делают? Мужчина этот, верняк, умрет.
Я попросил владелицу устроить Леопарда в комнате, что, как я знал, пустовала. Когда я говорил с ней, на мне не было одежды, так что она сказала, мол, да, разумеется, только теперь плата удваивается. «Не то, вернувшись как-нибудь из своих странствий, вы у себя в комнате ничего не найдете». – «Так у меня и нет ничего», – сказал я.
Леопард согласился на комнату после того, как я сказал ему, что, коль скоро он найдет себе дерево, чтоб спать на нем в обличье зверя, так сразу окажется идеальной мишенью для выстрела из лука и стрела пронзит ему ребра. А все животные в городе принадлежат либо тому, либо другому жителю, так что бродить по улицам и охотиться на них нельзя. И даже если ты убьешь чьего-нибудь козла или курицу, то ни за что не приноси ее к себе в комнату. И если даже ты и принесешь добычу к себе в комнату, не оброни ни единой капли крови. Леопарда слова мои разозлили, но он понял их разумность. Я понимал, что станет он метаться по комнате из угла в угол, зная, что рычать ему нельзя. Попытается спать на окне, но поймет, что нельзя, да еще и чуя, как разгоняется кровь в телах дичи в загонах для животных под окном. Так что он привел в комнату малого. На третий день он поднялся ко мне в комнату, ухмыляясь и поглаживая живот.
– У тебя вид, будто ты целую антилопу к себе затащил.
– Все шито-крыто. В последнее время я б запросто мог обжорой стать.
– Аппетит твой всему постоялому двору известен.
– Тебе б быть единственной монашкой в борделе. Причудливые звери, причудливые порывы, Следопыт. Ты куда сегодня? Я пойду твой город осмотрю.
– Город ты уже видел.
– Хочу твоими глазами взглянуть или, скорее, твоим носом нюхнуть. Знаю, что в этом городе что-то поджидает нас.
Я глянул ему прямо в глаза:
– Иди, почеши яйца, котяра, в свое свободное время.
– Следопыт, кто скажет, что нам нельзя и то, и другое?
– Как хочешь. Мне надо наведаться к нескольким людям. Людям, что ставки делают, но дальше платить не желают. Один человек, кто зло учинил из нашей добродетельности. Иди умойся.
Он выпустил язык, длинный, как молоденькая змейка, и облизал обе свои лапы.
– Готово, – ухмыльнулся. – К кому идем? К человеку, кто тебе денег должен, кому мы ноги вырвем? Каждому по ноге!
Утверждают, что Малакал – город, построенный ворами. Малакал – это горы, а горы – это Малакал. Единственное место, что никогда не подвергалось захвату, потому как это был единственный город, на какой никто даже не осмеливался посягнуть. Одно только карабканье в горы обессилило б и людей, и лошадей. Почти каждый мужчина тут прирожденный воин, и большинство женщин – тоже. Это был последний оплот Короля против ваших южных племен массыкин, и именно отсюда мы вновь повели войну и расколошматили ваших южан как сучье племя. Замиренье было вашей идеей, а не нашей. Почти каждый большой город разрастается вширь, а Малакал вместо этого устремляется в небо: дом над домом, башня над башней, некоторые башни до того узки и высоки, что люди забыли про ступени и предоставляют вам взбираться вверх по веревке. Окна над еще одним рядом окон, дома высотой в десять человеческих ростов. Сами башни стоят так тесно, что кажется, будто они повалились друг на друга, а на севере есть одна, какая и привалилась, но ею до сих пор пользуются. И все ж еще уже были там дороги и проходы между башнями. Четыре стены опоясывали город, поставленные одна внутри другой, четыре кольца встроены в горы, что возвышались одно над другим пиками легких домов. Подойди напрямую, и Малакал предстает подобием четырех крепостей, каждая из которых вырастает из той, что под нею, а башни высятся поверх башен. Но взгляни с птичьего полета, и увидишь большие дороги, ползущие, как по спирали, до самой вершины, а оттуда обратно вниз, с дозорными укреплениями для воинов, с бойницами для лучников, жилье и постоялые дворы, мастерские и торговые дома, богадельни и темные вереницы колдунов, воров и ищущих удовольствия мужчин. Из наших окон видны Колдовские горы, где живут многие сангомы, но находились они слишком далеко. Жители рано познали мудрость использования пространства для птичьих дворов, где куры нагуливали вес, и заборов, за какие не было хода псам и горным зверям. Вниз с гор – кратчайшие пути в долину для невольничьих караванов и к морю для караванов с золотом и солью. В Малакале не производится ничего, кроме золота, и идет торговля всем, что может быть ввергнуто в рабство, за что можно взять пошлину со всех проезжающих, ведь если вы с севера, то мы единственный ваш выход к морю.
Само собой, я речь веду о делах девятилетней давности. Нынешний Малакал ничуть не похож на тот.
– Затрудняюсь сказать, в удачное или неудачное время мы попали в этот город из-за прибытия сюда Короля, – сказал я Леопарду, когда мы выходили.
Караван Короля уже видели в двух днях пути, и весь Малакал ожидал празднования десятилетнего юбилея Кваша Дара, Северного Короля, сына Кваша Нету, великого покорителя Увакадишу и Калиндара. Само собой, празднует он в городе, что внес самый большой вклад в спасение королевской задницы, с тем чтобы его королевское дерьмо по-прежнему подтиралось его подданными. Однако гриоты уже пели хвалы Королю за спасение горного города. Мужчины Малакала даже не служили в его армии, они были наемниками, но стали бы сражаться даже за Массыкин, приди оттуда кто с хорошей деньгой первыми. Но обделайся все боги, если город не собирался заранее позаботиться об устройстве торжества. Черно-золотые флаги Кваша Дара висели повсюду. Даже детишки раскрашивали себе мордочки золотым и черным, будто были они ку или гангатомами. Женщины предоставили золоту левую грудь, а черному – правую, на обеих стоял знак носорога. Ткачи ткали материю, мужчины обряжались, а женщины создавали на головах громадные украшения из цветов – и все это в черно-золотом.
– Твой город прихорашивается, – заметил Леопард.
– Один старейшина шепнул мне, что мир – это слух, мол, и года не пройдет, как мы опять пойдем войной на юг.
– Тебе-то что до этого? Война ли, мир ли, жены все равно желают вызнать, кто спит с их мужьями.
– Вот это одна из самых дельных твоих мыслей, Леопард.
Я жил близ центра города, что было новым для меня. Я всю дорогу был человеком с окраины, всегда на побережье, всегда на рубеже. Так никто никогда не знает, только ли что я пришел или собираюсь уйти. При себе я держал лишь столько, сколько мог уместить в мешок и убраться скорее, чем утечет песок в часах. А во в месте вроде этого, где люди все время приходят и уходят, ты можешь оставаться в самом центре, никуда не двигаясь, и все же исчезнуть. Что удобно для человека, кого мужики ненавидят. Моя гостиница находилась в центре, за третьей стеной.
Людей, живших в границах третьей стены, другие считали богачами, но это неправда. Большинство народа жило за второй стеной, а воины, солдаты и торговцы на ночь устраивались за первой, что опоясывала весь город, готовый отразить врага. Я рассказываю тебе это потому, как ты никогда не бывал там и, судя по тому, что ты за человек, никогда не побываешь. Ты прав, нынче нам выпало самое долгое замирение, какое только было. Его можно было б даже миром назвать. Я повел Леопарда по улицам, что взбирались вверх и скатывались вниз, извиваясь и сворачивая, петляя до самой последней башни на пике горного хребта. Оглядевшись, я обернулся и увидел, что он смотрит на меня. Потом заговорил:
– Он за нами не идет.
– Кто, твой маленький любовник?
– Зови его как угодно, только не этим.
– Он будет следовать за тобой с края склона.
– Он из дому не выйдет ни сегодня, ни завтра, пока вздутие не перестанет опухать.
– Опухать?
– Прошлой ночью попытался живот мне почесать. Етить всех богов, я поверить не мог. Кто стал бы чесать кошке пузо?
– Он, должно быть, тебя с собакой перепутал.
– Я что, лаю? Или яйца у мужиков обнюхиваю?
– Ну…
– Сейчас лучше умолкни.
Больше я смех сдерживать не мог. Ну да, знал я, что кошки бесятся, когда их пузик трогают, потому как все кошачьи, большие или маленькие, считают животы свои чересчур мягкими, чересчур уязвимыми для нападения. Леопард насупился, потом рассмеялся и огляделся вокруг, когда мы подошли к месту, где дорога шла под уклон. Вокруг, считай, никого не было, если кто и выходил, то тут же, едва завидев нас, бросался обратно под защиту дверей. Я бы подумал, что они боятся нас, только в Малакале никто не боялся. Понимали, что что-то грядет, и не желали в том участвовать.
– На этой улице быстро темнеет, – сказал Леопард.
Мы подошли к двери человека, что задолжал мне деньги, а рассчитаться пытался россказнями. Он впустил нас, предложил сливового сока и пальмовой водки, но я отказался, Леопард согласился, пришлось сказать, не обращая внимания на то, как он на меня вытаращился, что на самом деле и он отказывается. Хозяин дома стал разматывать еще одну историю – про то, как деньги были на пути из какого-то города близ Темноземья, но, видать, бандиты попались, хотя нес деньги собственный его брат: деньги и еще сладости, что его мама напекла, – сладостей этих он мне даст, сколько душа моя примет. В этой истории одни только мамины сладости были чем-то новым.
– То ли я, то ли проторенные пути стали нынче не так безопасны, как были в войну?
Он говорил мне. А я прикидывал, с какого пальца ломать начать. В тот последний раз я пригрозил ему сломать палец, и не сделать этого значило бы для меня предстать человеком, кто не держит своих обещаний и кто скор на слова, какими в городах просто так не бросаются. А он смотрел на меня, и глаза у него на лоб лезли, да так, что я засомневался, уж не думал ли я вслух. Хозяин побежал в свою комнату и вернулся, таща кошель, тяжелый от серебра. Я, положим, золото предпочитаю, о чем уведомляю всех своих клиентов, прежде чем отправиться на поиски, только этот кошель был вдвое тяжелее, чем его хозяин был мне должен. А может, стоил и того больше.
– Возьми все, – выдохнул он.
– Ты переплачиваешь, я уверен.
– Возьми это все.
– Твой братец что, только что через заднюю дверь вошел?
– Мой дом – не твоего ума дело. Бери и уходи.
– Если тебе этого мало, я…
– Больше чем достаточно. Уходите, чтобы жена моя не прознала, что два грязных оборванца заявлялись к ней в дом.
Я взял деньги и ушел: человек этот меня озадачивал. Леопард же тем временем не в силах был смех унять.
– Ты какой-то шуткой с богами обменялся или намерен поделиться ею?
– Должник твой. Твой человек. Обосрался в другой комнате, точно тебе говорю.
– Как-то странно. Я собирался ему палец сломать, как и обещал. А он смотрел на меня, будто самого бога мщения увидел.
– Он не на тебя смотрел. – Вопрос еще с моих губ не сорвался, как ответ уже сидел в голове.
– Ты…
– Стал обращаться прямо за твоей спиной. Он себе весь перед обоссал, ты разве не унюхал?
– Может, он территорию помечал.
– И это вместо благодарности человеку, кто только что туго кошель тебе набил.
– Принимай мои благодарности.
– Произнеси это поласковей и приятней.
– Терпенье мое испытываешь, котяра.
Он пошел со мной к женщине, что хотела отправить весточку своей дочери в потусторонний мир. Я сообщил ей, что нашел пропавшую, только она не пропала. Еще один желал, чтоб я нашел, где умер один человек, что был ему другом, но его же и обокрал, мол, где бы ни лежал труп, под ним будут мешки и мешки золота. «Следопыт, – сказал он, – я дам тебе десять золотых из первого же мешка». – «Ты отдаешь мне первые два мешка, – ответил я, – и я позволю тебе взять оставшееся». – «А ну как там всего три мешка окажется?» – заволновался он. «Тебе следовало бы сказать об этом, – заметил я, – до того, как ты дал мне понюхать пот, мочу и сперму с его ночных рубах».
Леопард, насмеявшись, признал, что со мной ему забавнее, чем на представлении двух скоморохов из Кампары[28], изображающих деревянными членами, как они имеют друг друга. Я и не заметил, как солнце уже ушло, пока он, обогнав меня на несколько шагов, не исчез в темноте. Глаза его зелеными огнями горели в темноте.
– А в твоем городе совсем нечем позабавиться? – спросил Леопард.
– Ты уж как-то слишком долго к этому подбирался. Предупреждаю: в этом городе бабы для утех давно перестали изображать из себя мальчиков. Там нет ничего, кроме рубцов евнуха.
– Угу, евнухи. Лучше уж абука, дитя силы, без дыр, без глаз, безо рта, чем евнух. Я считал, что им становятся, чтоб заречься от похоти, так, богов проклятие, вот они, как болезнь, расползлись по всем борделям, будоража кровь всякому мужику, просто захотевшему для разнообразия поваляться на спине другого. Впрочем, я ведь не о такого рода забаве думал. Хотелось бы прямо сейчас мальца найти. Того, что три года как пропал.
– Знаю, кого мы могли бы прямо сейчас отыскать.
– Что? Кого?
– Барышника.
– Он отправился на побережье продавать своих новых рабов.
– Он меньше чем в четырех сотнях шагов отсюда, и сопровождает его всего один из его людей.
– Етить всех богов. Ну, верно ж говорили, что есть у тебя…
– Не произноси этого.
Мы углубились в переулок, освещенный двумя небольшими факелами, и взяли их. Это тебе не Джуба, тут не было громадных факелов по углам каждой улицы, что освещали всю дорогу. То был Макалал, и без темноты как бы блудящим облапошивать, а облапошивающим блудить? Мы прошли мимо башни о семи этажах и под тростниковой крышей, мимо трехэтажной, а потом еще одной, в четыре этажа. Миновали небольшую избушку, где жила ведьма, потому никто не хотел жить ни над, ни под ведьмой, три дома, расписанных в сетчатые узоры богачей, и еще одно строение, не понять, для чего предназначенное. Двинулись на запад до самого края первой, самой наружной, стены, мерцающее и желтое пламя высвечивало всего шагов на двадцать впереди. Я походил на дикого пса саванны, чуявшего слишком много мяса – и живого, и мертвого, и молнией сожженного.
– Пришли.
Мы остановились у дома в четыре этажа, здания повыше бросали на него тень от луны. Спереди не было никакой двери, а самое низкое окно проглядывало на высоте в три человеческих роста. Одно окно, на самом верху и посередине, было темным, с чем-то похожим на мерцающий свет в глубине. Я указал на дом, потом на окно:
– Он там.
– Следопыт, не повезло тебе. Как ты собираешься попасть туда? Или ты теперь ворон под стать моему леопарду?
– Изо всех птиц в десяти и еще двух королевствах ты меня лишь в ворона обратил?
– Замечательно, голубь, ястреб, а как тебе сова? Лучше тебе летать быстро, потому как двери тут нету.
– Дверь есть.
Леопард пристально глянул на меня, потом, насколько смог, обошел дом.
– Нет, никакой двери нет.
– Нет, это у тебя глаз нет.
– Ха, это у тебя глаз нет. Слушаю тебя и порой слышу ее.
– Кого?
– Сангому. У тебя те же слова вылетают, что и у нее. Ты еще и думаешь, как она, что умный. Ее колдовство все еще оберегает тебя.
– Будь это колдовство, оно б меня не оберегало. Она навела на меня что-то такое, что не дает развернуться коварству, мне об этом рассказал один ведьмак, что пытался убить меня чем-то металлическим. Не то чтобы это чувствуется кожей или костяком. Что-то, что остается даже после ее смерти, что опять-таки делает это не колдовством, ведь все колдовские чары умерли вместе с нею.
Я подошел вплотную к стене, будто целовать ее собирался, потом шепнул заклинание – так тихо, чтоб даже Леопард со своим звериным слухом не слышал.
– Будь то колдовство, – сказал я.
Я отпрянул и отступил назад. В таких случаях у меня всегда возникает то же ощущение, что и после того, как попью сока из кофейных зерен: вроде у меня под кожей колючки наружу пробиваются, силы ночи выходят схватить меня. Я пошептал в стену: у этого дома есть дверь, и я, с волчьим глазом, ее открою. Я отступил, и безо всякого факела по стене побежал огонь. Белое пламя промчалось по четырем углам, обозначив дверь, протрещало, прогорело и само собой погасло, оставив простую деревянную дверь безо всяких следов огня.
– Кто тут ни есть, а он связан с наукой, – сказал я.
Глиняные, скрепленные известковым раствором ступени привели нас на первый этаж. Помещение было пусто от человечьего запаха, в темноте виднелся арочный проход. Сквозь окна проникал лунный свет. Я в уловках толк знаю, но котяра шел до того тихо за моей спиной, что дважды мне казалось, что он за мной вверх не идет.
Люди над нами говорили вполголоса. На следующем этаже находилась комната с запертой дверью, но за нею я не почуял людей. На половине лестницы запахи повалили на нас сверху: сгоревшее мясо, засохшая моча, провонявшие туши зверей и птиц. Возле вершины лестницы на нас посыпались звуки, шептания, рыканье: мужчина, женщина, две женщины, двое мужчин, животное какое-то, – я сожалел, что слух у меня не так хорош, как нюх. Голубой огонек высверкнул из комнаты, затем пропал в темноте. Мы никак не могли подняться по последним ступеням без того, чтоб нас не увидели или услышали, а потому мы встали посредине пролета. Во всяком случае, нам видно было происходившее в комнате. И мы разглядели, что высверкивало голубым огоньком.
Темная женщина с железным ошейником на цепи вокруг шеи, с волосами почти белыми, но казавшимися голубыми, когда в комнате сверкал голубой огонь. Она кричала, рвала цепь с горла: голубой свет вспыхивал внутри нее и пробегал по тому раскидистому древу у нее под кожей, какое видно становится, когда вскрываются части тела человека. Вместо крови пробегал в ней голубой свет.
Потом она опять темнела. Только благодаря этому свету нам и удалось разглядеть Барышника в темных одеждах, слугу, что скармливал ему финики, и еще кого-то с запахом, какой я и помнил, да не мог узнать.
Потом та, другая, тронула палочку, что вспыхнула, как факел. Цепная отпрыгнула назад и втиснулась в стену.
Женщина держала факел. Я ее прежде никогда не видел: уверен в том был даже в темноте, но запах ее был знакомым, таким знакомым. Выше всех остальных в комнате, с густыми и всклокоченными волосами, она походила на некоторых женщин за Песочным морем. Она указала факелом вниз, на зловонную половину тела собаки.
– Скажи мне правду, – произнес Барышник. – Как тебе удалось втащить собаку в эту комнату?
Цепная зашипела. Она была голая и до того грязна, что казалась белой.
– Иди ближе, и я скажу тебе правду.
Барышник подошел, баба раздвинула ноги, пальцем расправила свою кхекхе, направляя струйку мочи, и замочила его сандалии, прежде чем он успел отскочить. Она принялась смеяться, но работорговец стиснул костяшки кулака и вышиб кудахтающий смех у нее изо рта. Леопард прыгнул, и я схватил его за руку. Цепная, казалось, смеялась, пока факел высокой женщины снова не осветил ее глаза, полнившиеся слезами. Заговорила она:
– Тытытыты – все уходите. Все вы должны уйти. Уходите сразу, бегитебегитебегитебегите, потому как отец на подходе, он на ветре едет, что ль, не слышите, лошадь скачетскачетскачет, не поцеловать вам голову нечистых чад ваших, ступайте мыть мытьмытьмытьмытьмыть…
Барышник кивнул, и высокая женщина сунула факел прямо в лицо цепной. Та опять отпрыгнула и заворчала:
– Никто не едет! Никто не едет! Никто не едет! Ты кто?
Барышник придвинулся, чтобы ударить ее. Цепная вздрогнула и спрятала лицо, моля не бить ее больше. Слишком много мужчин били ее и били ее все время, а ей всего-то и хотелось подержать своих мальчиков, первого, и третьего, и четвертого, но не второго, тот не любит, когда люди его держат, а ведь даже не его мать. Я по-прежнему держал Леопарда за руку и чувствовал, как ходили его мышцы, как вставали его волосы под моими пальцами.
– Хватит этого, – сказала высокая женщина.
– Так ее говорить заставишь, – откликнулся работорговец.
– Ты должен бы считать ее одной из своих жен.
Рука Леопарда перестала дергаться. Высокая носила черное платье из Северных земель, что доходило до пола, но, скроенное в обтяг, делало ее тонкой. Она склонилась над женщиной на цепи, что все еще прятала лицо. Я его не видел, но понимал, что цепная дрожала.
– Настали дни, каких не должно было бы быть в твоей жизни. Расскажи мне о ней, – произнесла высокая.
Барышник кивнул своему подавателю фиников, и тот, откашлявшись, начал:
– Судьба этой женщины очень странна и печальна. Рассказ я веду, и я непременно…
– Не надо представления, осел. Просто расскажи.
Жаль, я не видел, как он насупился: тьма скрывала его лицо.
– Мы не знаем ее имени, а что до ее соседей, так они все от страха перед ней разбежались.
– Она тут ни при чем. Твой хозяин заплатил им, чтобы они ушли. Перестань тратить мое время попусту.
– А мне твое время до крысиной задницы.
Высокая растерялась. Уверен, никто не ожидал, что такое с его губ соскочит.
– Он всегда так? – обратилась высокая к Амаду. – Может, ты мне расскажешь ее историю, рабий барышник, а ему я, может, язык отрежу.
Подаватель фиников выхватил из рукава нож и повернул его рукоятью к высокой со словами:
– А как тебе такая забава? Я тебе нож даю, а ты – попробуй.
Высокая нож не взяла. Цепная по-прежнему прятала свое лицо, забившись в угол. Леопард успокоился. Высокая женщина смотрела на подавателя фиников с пытливой улыбкой.
– Он мастак базарить, этот-то. Ладно, выкладывай свою историю. Я послушаю.
– Ее соседка, прачка, говорит, что зовут ее Нуйя. Никто ее не знает и о ней не справлялся, вот и будет имя ей Нуйя, хотя она на него не откликается. Она вон ему откликается. И никому из живущих не рассказать о ней, кроме нее самой, а она не говорит. Но вот что нам известно. Пусть имя ей будет Нуйя, а жила она в Нигики со своим мужем и пятью детьми. Садык, Маханг, Фула…
– Покороче, подаватель фиников.