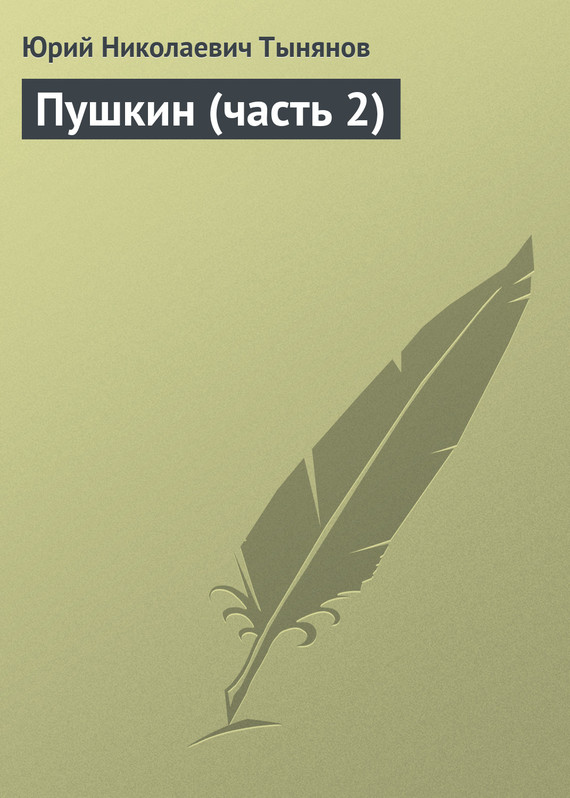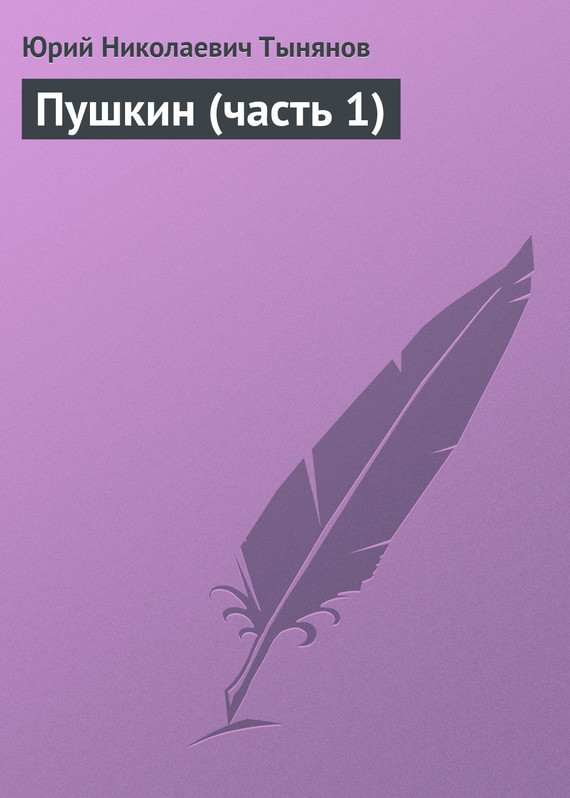Возвращение со звезд Лем Станислав
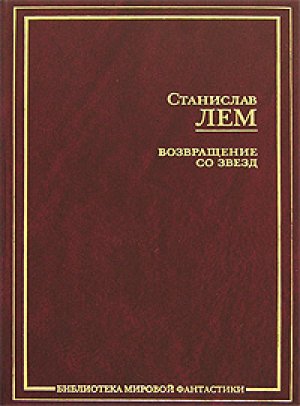
Аэн подала мне высокий конус с соломинкой, он мерцал как рубин, но был мягкий, на ощупь напоминал пушистую кожицу плода. Сама она взяла другой. Мы сели. Сиденья были несносно мягкие, словно мы сидели на облаке. У напитка был вкус не знакомых мне свежих фруктов, попадались крошечные кусочки, неожиданно и забавно лопавшиеся во рту.
— Нравится? — спросила Аэн.
— Да.
Это мог быть какой-то ритуальный напиток. Например, для избранников. Или для укрощения особо опасных. Но я уже сказал себе, что ни о чем не стану спрашивать.
— Когда сидишь, ты мне больше нравишься.
— Почему?
— Ты ужасно большой.
— Знаю.
— Нарочно стараешься быть невежливым?
— Нет. Само получается.
Аэн стала тихо смеяться.
— И еще я остроумный,— добавил я.— Куча достоинств, правда?
— Ты не такой, как все,— заметила она.— Никто так не говорит. Скажи мне, как это происходит. Что ты чувствуешь?
— Не понимаю.
— Притворяешься, да? А может, ты обманул меня? Нет. Невозможно. Ты бы не сумел...
— Прыгнуть?
— Я не об этом.
— А о чем?
Ее глаза сузились.
— Не догадываешься?
— Ну, знаешь! — воскликнул я.— Что, этого у вас уже не делают?
— Делают, но не так.
— Подумать только. Так хорошо у меня получается?
— Нет. Так, словно ты хотел...— Она не договорила.
— Что?
— Сам знаешь. Я это чувствовала.
— Я был зол...— признал я.
— Зол! — пренебрежительно передразнила она.— Я думала ты... сама не знаю, что я думала. Никто не решился бы на такое, понимаешь?
Я усмехнулся про себя.
— Именно это тебе так понравилось?
— Как ты не понимаешь? В мире не стало страха, а ты можешь испугать.
— Хочешь еще? — спросил я. Ее губы приоткрылись, она снова смотрела на меня, как на дикого зверя.
— Хочу.
Она придвинулась ко мне. Я взял ее руку, положил на свою, плашмя,— ее пальцы едва доставали мои.
— Почему у тебя такая жесткая рука? — спросила Аэн.
— От звезд. Они — острые. А теперь спроси: почему у тебя такие большие зубы?
Аэн улыбнулась.
— Зубы у тебя вполне обыкновенные.
Говоря это, она подняла мою ладонь, так осторожно, что я вспомнил свою встречу со львом и не обиделся, а засмеялся. Все это в конце концов ужасно глупо.
Аэн привстала, налила себе из маленькой темной бутылочки и выпила.
— Знаешь, что это? — спросила она, зажмурившись, словно обожглась питьем. У нее были огромные ресницы, видимо, накладные. У актрис всегда накладные ресницы.
— Нет.
— Никому не скажешь?
— Никому.
— Перто...
— Ну и. ну,— сказал я на всякий случай.
Аэн открыла глаза.
— Я видела тебя еще раньше. Ты шел с таким страшным стариком, а потом возвращался один.
— Это сын моего младшего товарища,— объяснил я. Самое удивительное, что это правда, мелькнуло у меня в голове.
— Ты привлекаешь внимание — знаешь?
— Что поделаешь.
— Не только потому, что ты такой большой. Ты ходишь иначе. И смотришь так, словно...
— Как?
— Так, словно ты все время настороже.
— Перед чем?
Аэн не ответила. Лицо ее изменилось. Дыхание стало громче, она взглянула на свою руку. Кончики ее пальцев дрожали.
— Уже...— сказала она и тихо улыбнулась, но не мне. Словно что-то снизошло на нее. Зрачки ее расширились, она медленно опустилась на серое изголовье, отливающие медью волосы рассыпались, она смотрела на меня, как победительница.
— Поцелуй меня.
Я обнял ее, и это было ужасно, ибо я хотел и не хотел,— мне казалось, она перестает быть собой,— словно каждый миг она могла превратиться в кого-то другого. Она вцепилась в мои волосы, когда она отрывалась от меня, ее дыхание походило на стон. Кто-то из нас фальшивит, подличает, думал я, но кто, она или я? Я целовал ее, ее лицо было прекрасно до боли и чуждо до ужаса, потом — только невыносимое наслаждение, но и тогда во мне не исчез холодный, молчаливый наблюдатель. Послушное изголовье напоминало присутствие кого-то третьего, чья бдительность унижала, и, словно зная об этом, мы за все время не произнесли ни слова. Я засыпал, обнимая Аэн, а мне казалось, что кто-то стоит и смотрит, смотрит...
Когда я проснулся, она спала. Мы были в другой комнате. Нет, в той же самой. Но она как-то изменилась: часть стены отодвинулась, стал виден рассвет. Над нами, словно забытая, горела узкая лампочка. За стеной, над вершинами еще черных деревьев, занимался день. Я осторожно подвинулся на край постели; Аэн пробормотала что-то похожее на «Алан» и продолжала спать.
Я пошел по пустым, просторным залам. Окна в них выходили на восток. Сквозь них лился алый блеск, прозрачная мебель казалась налитой красным вином. В глубине анфилады я увидел чью-то тень: это был робот, жемчужно-серый, безликий, его торс слабо светился, в нем лампадкой тлел рубиновый огонек.
— Я хочу уйти,— сказал я.
— Пожалуйста.
Серебряные, зеленые, голубые лестницы. Я попрощался со всеми сразу лицами Аэн в высоком, как храм, холле. День уже был в разгаре. Робот открыл мне дверь подъезда. Я велел ему вызвать глайдер.
— К вашим услугам. Вам угодно домашний?
— Можно домашний. Мне нужно в гостиницу «Алька-рон».
— Слушаюсь. К вашим услугам.
Кто-то мне уже так отвечал. Но кто? Я не мог вспомнить.
По крутой лестнице — чтобы до конца помнилось, что это дворец, а не простой дом,— мы с роботом сошли вместе; солнце уже поднялось высоко; я сел в машину. Когда она тронулась, я оглянулся. Робот все еще стоял в позе послушания, сложенными тонкими щупальцами напоминая богомола.
Улицы были почти пусты. В садах, как покинутые причудливые корабли, отдыхали виллы, именно отдыхали, словно приземлились на минутку, сложив остроугольные, разноцветные крылья. В центре народу было больше. Остроконечные здания с раскаленными на солнце вершинами, дома-оранжереи с пальмами, дома-великаны на широко расставленных опорах — улица рассекала их, вылетала на голубеющий простор, я больше ни на что не смотрел. В гостинице я помылся и позвонил в бюро путешествий. Заказал ульдер на двенадцать. Немножко смешно пользоваться такими названиями, понятия не имея, что это такое.
У меня оставалось еще четыре часа свободного времени. Я соединился с гостиничным Инфором и спросил про Бреггов. У меня не было ни братьев, ни сестер, у дяди по отцу остались двое детей, мальчик и девочка. Если даже их нет в живых, то их дети...
Инфор назвал мне одиннадцать Бреггов. Я спросил, кто они родом. Оказалось, лишь один, Атал Брегг, происходил из моей родни. Он приходился внуком моему дяде, ему было уже под шестьдесят. Итак, я узнал теперь все про свою родню. Снял даже телефонную трубку, чтобы позвонить ему, но потом положил ее. Что в конце концов я мог ему сказать? Или он — мне? Как умер мой отец? Моя мать? Для меня они умерли гораздо раньше, и я, вторично рожденный после их смерти, не имел права спрашивать. Я воспринимал происшедшее как некое коварство, словно обманул их, трусливо бежав от своей судьбы, укрывшись во времени, менее смертельном для меня, чем для них. Это они похоронили меня в звездах, а не я их — на Земле.
И все-таки я опять снял трубку. Ждать пришлось долго. Наконец откликнулся домашний робот, сообщивший, что Атал Брегг сейчас не на Земле.
— А где?
— На Луне. Отбыл на четыре дня. Что передать?
— Что он делает? Кто он по профессии? — спросил я.— Дело в том, что... я не знаю, тот ли он человек, которого я ищу, возможно, произошла ошибка...
Обманывать робота было как-то легче.
— Он психопед.
— Спасибо. Я позвоню через несколько дней.
Я положил трубку. Он не астронавт, и на том спасибо.
Подключившись опять к гостиничному Инфору, я спросил, какое развлечение он может мне предложить на два-три часа.
— Посетите наш реалон.
— А что там?
— «Возлюбленная». Самый новый реаль Аэн Аэнис.
Я спустился вниз: реалон был под землей. Зрелище уже
началось, но робот у входа сказал мне, что я почти ничего не потерял — всего несколько минут. Он провел меня в темноту, каким-то странным способом добыл из нее яйцевидное кресло и, усадив меня в него, исчез.
Первое впечатление было, словно я сидел у театральной сцены или даже на самой сцене — так близко были актеры. Казалось, протяни руку — и дотронешься до них. Мне повезло, шла историческая драма из моих времен; время действия точно не указано, но, судя по некоторым подробностям, все происходило спустя несколько лет после моего отлета.
Сначала я наслаждался костюмами: сценография была натуралистична, но именно это меня и развлекало, ибо я улавливал множество ошибок и анахронизмов. Герой, весьма интересный, смуглый брюнет, вышел из дому во фраке (было раннее утро) и поехал в автомобиле на свидание с любимой; на нем был и цилиндр, но серый, как у англичанина, едущего на скачки. Потом показывали романтический кабачок с хозяином, каких я в жизни не видал,— он был вылитый пират; герой уселся прямо на фалды фрака и потягивал через соломинку пиво; и так далее, и так далее.
Вдруг мне расхотелось смеяться: появилась Аэн. Одета она была бестолково, но это сразу потеряло всякое значение. Зрители понимали: она любит другого, а этого юношу обманывает; типичная героиня мелодрамы, коварная, приторная — штампы и банальность. Но Аэн не поддалась искушению. Она показывала девушку безрассудную, самозабвенную и из-за безграничной наивности собственной жестокости — ни в чем не повинную, делавшую несчастными всех именно потому, что не хотела принести несчастья никому. Бросаясь в объятия одного, она забывала о другом так неподдельно, что верилось в ее искренность.
Впрочем, весь этот вздор куда-то уходил, и оставалась лишь Аэн, великая актриса.
Реаль был не то что обычный телетеатр. Если вглядываться в какой-нибудь фрагмент сцены, фрагмент этот начинал увеличиваться и разрастаться, так что каждый зритель сам, по собственному выбору, решал, хочет он видеть первый план или общий, Причем на краю поля зрения пропорции не искажались. Это была дьявольски хитроумная оптическая комбинация, создававшая иллюзию сверхъестественно четкой, многократно усиленной яви.
Потом я вернулся к себе, чтобы уложить вещи: через несколько минут надо было уезжать. Вещей оказалось многовато, я был еще не готов, когда запел телефон: подали мой ульдер.
— Сейчас спущусь,— сказал я. Робот-носильщик забрал чемоданы. Выходя из номера, я вновь услышал телефон. Я задержался. Легкий сигнал повторялся неутомимо. Еще решит, что я сбежал, подумал я и снял трубку, не совсем понимая, зачем я это делаю.
— Это ты?
— Да. Ты проснулась?
— Давно уже. Что ты делаешь?
— Смотрел тебя. В реале.
— Да? — переспросила она. В голосе ее послышалось удовлетворение, означавшее: он мой.
— Нет,— сказал я.
— Что нет?
— Аэн, ты — великая актриса. Но я совсем не тот, за кого ты меня принимаешь.
— А ночью ты тоже был не тот? — перебила Аэн. В голосе ее звенела веселая нотка — и мне опять стало смешно. Я никак не мог успокоиться: этакий звездный квакер, совершивший грехопадение, суровый, раскаивающийся, скромный.
— Нет,— сказал я, с трудом сдерживаясь,— я был тот. Но я уезжаю.
— Навек?
Этот разговор развлекал ее.
— Послушай,— начал я и остановился, не зная, что сказать. Какое-то время я слышал только ее дыхание.
— И что дальше? — спросила Аэн.
— Не знаю,— я быстро поправился,— ничего. Я уезжаю. Это бессмысленно.
— Конечно,— согласилась она,— и поэтому замечательно. Что ты смотрел? «Подлинных»?
— Нет. «Возлюбленную». Послушай...
— Это — полный провал. Я видеть этого не могу. Моя худшая вещь. Посмотри «Подлинных». Или нет, приходи вечером. Я тебе покажу. Нет, нет, сегодня не смогу. Завтра.
— Аэн, я не приду. Я действительно сейчас уезжаю...
— Не говори «Аэн», говори «послушай»...— попросила она.
— Послушай, пойди ты к черту!!! — сказал я и положил трубку, мне стало ужасно стыдно, я поднял ее, снова положил и выбежал из номера, словно за мной гнались. Я спустился вниз, а оказалось, что ульдер на крыше. Пришлось опять ехать наверх.
На крыше был сад с рестораном и посадочная площадка. Точнее, гибрид ресторана и посадочной площадки, перемешанные ярусы, летающие перроны, невидимые шахты — я ни за что не отыскал бы своего ульдера и за целый год. Но меня подвели к нему чуть ли не за руку. Он был меньше, чем я думал. Я спросил, сколько продлится полет,— мне хотелось почитать.
— Около двенадцати минут.
За чтение браться не стоило. Внутри ульдер немного напоминал экспериментальную ракету Термо-Факс, которой я когда-то управлял, только немного комфортабельнее, но когда закрылись двери за роботом, любезно пожелавшим мне счастливого пути, стены сразу стали прозрачными, а поскольку я сидел на переднем из четырех мест (остальные были свободны), впечатление создалось такое, будто я летел на стуле, помещенном в большом стакане.
Весьма забавно, но ничего общего с ракетой или автомобилем; скорее похоже на ковер-самолет. Причудливое средство сообщения сначала взвилось вертикально без всякой вибрации, а затем, как стрела, помчалось горизонтально. Опять произошло то, что я уже заметил однажды: ускорение не сопровождалось ростом инерции. Тогда, на вокзале, можно было принять это за обман чувств, теперь же я был уверен в верности своих ощущений. Трудно передать мое состояние: если они действительно ликвидировали зависимость между ускорением и инерцией, значит, всё — гипотермия, испытания, отбор, мучения и тяготы нашего путешествия,— всё оказалось абсолютно ненужным. То же, что я, мог бы в свое время чувствовать покоритель гималайской вершины, обнаруживший на ней отель, полный туристов, а с другой стороны горы — канатную дорогу и веселые аттракционы. То, что, оставаясь на Земле, я вероятнее всего вообще не дожил бы до такого открытия, отнюдь не утешало меня; я бы обрадовался тому, что такой метод, возможно, не годится для космического плавания. Конечно, чистейший эгоизм, и я отдавал в нем себе отчет, но шок оказался слишком силен, и никакого энтузиазма я не испытал.
Тем временем ульдер бесшумно летел дальше; я глянул вниз. Мы как раз пролетали мимо Терминала: он медленно отодвигался назад, похожий на ледяную крепость. На невидимых из города верхних этажах чернели огромные воронкообразные входные отверстия для ракет. Потом ульдер пронесся довольно близко от остроконечного иглообразного здания в черную и серебряную полоску. Оно было выше уровня полета ульдера. С уровня земли оценить его высоту было невозможно. Оно походило на трубопровод, соединявший город с небом, а на торчавших из него этажерках роились ульдеры и другие большие машины. На таких посадочных площадках люди казались горсткой мака, высыпанной на серебряное блюдо. Мы летели над белыми и голубыми группами домов, над садами, улицы становились шире, покрытие проезжей части тоже было цветное, преобладали бледно-розовая краска и охра. Море строений простиралось до самого горизонта, изредка разделенное полосами зелени. Я испугался, что так и будет до самой Клавестры. Но машина прибавила скорость, дома рассыпались, разбежались по садам, появились огромные спирали и бесконечные лучи дорог; они шли многочисленными уступами, сходились, перекрещивались, исчезали под землей, разбегались звездообразно, рассекали ровное, серовато-зеленое пространство под высоким солнцем, кишевшее глайдерами. Потом среди посаженных четырехугольниками деревьев показались огромные строения с вогнутыми кровлями, в центре каждой что-то испускало слабый красноватый свет. Дальше дороги разошлись, теперь всюду господствовала зелень, кое-где — вкрапления другой растительности: красной, голубой,— цветы выглядят иначе — слишком интенсивная окраска.
Доктор Жюффон был бы мной доволен, подумал я. Только третий день, и такие достижения. А какое начало.
Не кто-нибудь, а великая, прославленная актриса. И почти не боялась, а если и боялась, то страх был ей только приятен. Так держать. Но к чему он говорил о близости? Так ли выглядит у них близость? Как я геройски сиганул в водопад. Благородное страшилище, щедро вознагражденное красавицей, пред которой падают ниц толпы. Как возвышенно с ее стороны!
Лицо у меня горело. Кретин, уговаривал я себя, чего тебе надо? Женщину? Ты ее получил. Ты получил все, что возможно, включая приглашение выступить в реале. Теперь у тебя будет дом, будешь гулять в садике, читать книжечки, смотреть на звездочки и говорить себе тихонечко, скромненько: я был там. Был там и вернулся. И даже законы физики работали на тебя, счастливчик, перед тобой еще полжизни, а вспомни, как выглядит Рёмер, он на сто лет старше тебя.
Ульдер стал снижаться, раздался свист, все отчетливее вырисовывалась окрестность, полная белых и голубых дорог, блестевших, как эмалированные. Большие пруды и маленькие, квадратные бассейны сверкали на солнце. Дома, рассыпанные на вершинах отлогих холмов, становились все больше и правдоподобнее. На горизонте синела горная цепь с убеленными вершинами. Я увидел еще посыпанные гравием дорожки, газоны, клумбы, зеленое зеркало воды в бетонном обрамлении, тропинки, кусты, белую кровлю — все это медленно повернулось, окружило меня и застыло, словно завладевая мною.
IV
Двери открылись. Бело-оранжевый робот стоял на газоне. Я вышел.
— Приветствую вас в Клавестре,— произнес робот, и его белый животик неожиданно тихо запел: раздались хрустальные звуки, словно у него внутри была музыкальная шкатулка.
Я, смеясь, помогал ему выносить мои вещи. Потом задняя крышка ульдера, лежавшего на траве, как маленький серебряный дирижабль, открылась и два оранжевых робота выкатили мой автомобиль. Тяжелый голубой кузов заблестел на солнце. Я совершенно забыл о нем. А потом все роботы, нагруженные моими чемоданами, коробками, пакетами, гуськом направились к дому.
Это был огромный куб с окнами-стенами. Он начинался с панорамного стеклянного солярия, дальше шел холл, столовая и деревянная лестница наверх; робот — поющий, с музыкальной шкатулкой — специально обратил мое внимание на эту настоящую деревянную лестницу.
На втором этаже было пять комнат. Я выбрал расположенную не совсем удачно, окнами на запад, так как в других, а особенно в комнате с видом на горы, было слишком много золота и серебра, в этой — только полоски зелени, напоминающие помятые листья, на кремовом фоне.
Роботы сложили все мои пожитки в стенные шкафы; они работали ловко и тихо, а я стоял возле окна. Порт, подумал я. Пристань. Только высунувшись, я смог увидеть синюю дымку гор. Внизу простирался сад с цветами и несколькими сотнями старых плодовых деревьев в глубине; у них были извилистые сучья. Деревья, пожалуй, уже не плодоносили.
Немного в стороне, по направлению к шоссе (я видел его из ульдера, теперь его заслоняла живая изгородь) поднималась над зарослями вышка трамплина. Там был бассейн. Когда я отвернулся от окна, роботы уже ушли. Я передвинул к окну легкий, словно надувной, письменный стол, положил на него пачки научных журналов, сумки с книгами-кристалликами и аппарат для чтения; отдельно — чистые блокноты и ручку. Это была моя старая ручка — при сильной гравитации она начинала течь и все пачкать, но Олаф прекрасно ее отремонтировал. Я взял блокноты и написал на них: «История», «Математика», «Физика», я все делал быстро, так как хотел скорее попасть в бассейн. Я не знал, можно ли выйти в одних плавках, а купальный халат я забыл. Я пошел в ванную, расположенную в коридоре, и там, маневрируя бутылкой с пеножидкостью, смастерил ужасное, ни на что не похожее страшилище. Содрал его с себя и начал снова. Второй халат получился у меня немного лучше, но все равно он выглядел вызывающе; потом я обрезал самые большие неровности у рукавов и укоротил полы, после чего халат стал выглядеть более или менее прилично.
Я спустился вниз, не зная, есть ли кто в доме. В холле никого не было. В саду тоже, только оранжевый робот подстригал траву возле роз. Они уже отцветали.
Почти бегом я добрался до бассейна. Вода блестела и дрожала. От нее веяло прохладой. Я сбросил халат на золотой песок, который обжигал ступни, и, громыхая по металлическим ступеням, взбежал наверх. Трамплин был невысок, но для начала вполне подходил. Я оттолкнулся, сделал сальто — не отважился на большее после такого перерыва! — и вошел в воду, как нож.
Я вынырнул счастливый. Быстро поплыл в одну сторону, потом повернул обратно — бассейн был пятидесятиметровым. Я проплыл его восемь раз, не снижая темпа, вылез на берег, с меня текло, как с тюленя, лег на песок, сердце сильно билось. Как здорово! На Земле есть свои прелести! Через несколько минут я уже обсох. Встал, огляделся — никого. Прекрасно! Взбежал на трамплин. Сначала сделал сальто назад — получилось, хотя я слишком сильно оттолкнулся: опорной доской служил пластик, который очень сильно пружинил. Потом я сделал двойное сальто; оно не очень получилось, я ударился бедрами о воду. Кожа моментально покраснела, словно ее обожгло. Повторил. Немного лучше, но все же не совсем верно. После второго витка, принимая вертикальное положение, я не успел выпрямиться и ударился ступнями. Но я был настойчив, и у меня было время, много времени! Третий, четвертый, пятый прыжок. У меня уже слегка шумело в ушах, когда я — оглядевшись на всякий случай еще раз — попытался сделать сальто с поворотом. Это был полный конфуз, фиаско — удар о воду сбил мне дыхание, я наглотался воды и, фыркая, задыхаясь от кашля, вылез на песок. Уселся под ажурной лестничкой трамплина такой опозоренный и злой, что тут же рассмеялся над собой. Потом я снова плавал — четыреста метров, перерыв и опять четыреста.
Когда я возвращался домой, мир казался иным. Пожалуй, именно этого мне больше всего недоставало, думал я.
Белый робот ждал меня у дверей.
— Вы будете обедать у себя или в столовой?
— Я буду обедать один?
— Да, извините. Они приезжают завтра.
— Я пообедаю в столовой.
Я поднялся наверх и переоделся. Я не знал еще, с чего начну свои занятия. Пожалуй, с истории, это разумнее всего; хотя мне хотелось делать все сразу, а больше всего — настроиться на загадку побежденной гравитации. Раздался музыкальный сигнал. Явно не телефонный звонок. Я не знал, что это такое, поэтому соединился с домашним Инфором.
— Приглашаем на обед,— объяснил мелодичный голос.
Столовая была залита профильтрованным через зелень сиянием, наклонные стекла у потолка блестели, как кристалл. На столе стоял один прибор. Робот принес меню.
— Не надо, не надо,— сказал я,— мне все равно, что есть.
Первое блюдо напоминало фруктовый суп, второе было уже ни на что не похоже. О мясе, картошке, овощах, вероятно, надо забыть навсегда.
Очень хорошо, что я обедал один — десерт под моей ложечкой взорвался. Это, может, слишком сильно сказано, во всяком случае, крем забрызгал мне колени, свитер. Это была какая-то сложная конструкция, только по виду твердая, и я неосторожно задел ее ложечкой.
Когда появился робот, я спросил, могут ли мне принести кофе в комнату.
— Конечно,— ответил он.— Сейчас?
— Пожалуйста. И двойную порцию.
После купания меня сморила сонливость, а тратить время на сон было жалко. О, здесь действительно все совершенно иначе, чем на борту «Прометея». Послеполуденное солнце поджаривало старые деревья, короткие тени собрались возле стволов, воздух дрожал вдали, но в комнате было даже холодновато. Я сел за письменный стол, за книги. Робот принес мне кофе. Почти трехлитровый прозрачный термос. Я промолчал. Видно, робот исходил из моих габаритов.
Надо было бы начать с истории, но я принялся за социологию, так как хотел сразу узнать побольше. Однако я быстро убедился, что мне с этим не справиться. Она была насыщена трудной социальной математикой, а что хуже всего — авторы обращались к неизвестным мне фактам. Кроме того, я не понимал многих слов и должен был искать их значение в словаре. Пришлось установить другой оптон — у меня их было три. Мне скоро это надоело, дело подвигалось медленно, и я оставил высокие порывы и взялся за обыкновенный школьный учебник истории.
Что-то со мной случилось, я почему-то совсем потерял терпение — это я, которого Олаф называл последним воплощением Будды. Вместо того чтобы читать учебник страница за страницей, я сразу бросился искать главу о бетризации.
Теорию разрабатывали трое — Бенне, Тримальди и Захаров. Отсюда и возник этот термин. С удивлением я узнал, что они были моими ровесниками,— они обнародовали свою теорию через год после нашего отлета. Сопротивление, естественно, было огромным. Вначале никто не хотел принимать этот проект всерьез. Потом его вынесли на заседание ООН. Какое-то время он переходил из одной подкомиссии в другую — казалось, он потонет в бесконечных обсуждениях. Однако тем временем исследовательские работы быстро продвигались, теорию усовершенствовали, проводились массовые эксперименты на животных, потом на людях (первые опыты поставили на себе сами создатели — Тримальди на какое-то время парализовало, тогда еще не знали об опасностях, которыми грозит взрослым бетризация, и этот несчастный случай приостановил дело на восемь лет). Но на семнадцатый год от ноля (мое личное летосчисление — ноль означал старт «Прометея») постановление о всеобщей бетризации приняли, однако это было только начало, а не завершение борьбы за гуманизацию человечества (так говорилось в учебнике). Во многих странах родители не хотели делать детям прививки, а на первые станции нападали; несколько десятков совершенно разрушили. Период беспорядков, репрессий, принуждений и сопротивления продолжался лет двадцать. В школьном учебнике, по понятным причинам, обо всем говорилось лишь в общих чертах. Я решил поискать более подробные детали в специальных работах. Перемены укоренились только тогда, когда у первого бетризированного поколения родились дети. В книге ничего не говорилось о биологической стороне бетризации. Здесь было много дифирамбов в честь Бенне, Тримальди и Захарова. Появился проект начать новое летосчисление с проведения бетризации, но его не поддержали. Летосчисление не изменилось. Другими стали люди. Глава заканчивалась патетическим описанием периода Новой Эры Гуманизма.
Я поискал монографию Ульриха о бетризации. Снова очень много математики, но я решил ее освоить. Эта операция проводилась не на плазме наследственности, чего я опасался. Иначе не пришлось бы бетризировать каждое последующее поколение. Я подумал об этом с облегчением. Во всяком случае, оставалась, по крайней мере теоретически, возможность возврата к прежнему состоянию. Воздействовали на развивающиеся лобные части мозга в раннем периоде жизни с помощью группы белковых ферментов. Эффект был избирательным: агрессивные порывы сократились на 80—88 процентов по сравнению с небетризированными, исключалось образование ассоциативных связей между актами агрессии и сферой положительных эмоций; на 87 процентов сократилась опасность личного жизненного риска. Отмечалось самое большое достижение — перемены не сказывались отрицательно ни на умственном развитии, ни на формировании личности и что, может, самое важное — возникшие ограничения никак не были связаны со страхом. Другими словами, человек не убивал не потому, что боялся самого поступка. Это привело бы к нарушению психики, страх охватил бы все человечество. Люди не убивали, так как это даже «не могло прийти им в голову».
Одно положение Ульриха окончательно убедило меня: при бетризации агрессивность исчезает не потому, что она запрещена, а потому, что в ней нет потребности. Подумав, я, однако, решил, что это не объясняет главного — хода мыслей человека, прошедшего бетризацию. Ведь они совершенно нормальные люди и могут представить себе абсолютно все, даже убийство. Что же в таком случае делает невозможным его реализацию?
Я искал ответ на этот вопрос до вечера. Как обычно бывает с научными проблемами, то, что казалось относительно простым и ясным в кратком изложении, становилось все более сложным по мере того, как я углублялся в изучение. Музыкальный сигнал позвал на ужин — я попросил принести его в комнату, но даже не притронулся к еде. Объяснения, которые я в конце концов нашел, отличались друг от друга. Отвращение, близкое к омерзению; огромное нежелание, усиленное непонятным для небетризован-ного образом; самым интересным были показания исследуемых, которые в свое время — восемьдесят лет назад — они давали в Институте Тримальди под Римом, выполняя задание преодолеть невидимый барьер, поставленный в их сознании. Это было, пожалуй, самым необычным из всего, что я прочитал. Ни один из них не преступил этого барьера, но рассказы о переживаниях, испытываемых ими, немного отличались. У одних преобладали психические симптомы — желание бежать, вырваться из ситуации, в которую их поставили. Повторение опытов вызывало у этой группы сильные головные боли, а многократное настойчивое повторение приводило в конце концов к нервному расстройству, которое, однако, быстро излечивалось. Другие испытывали физические страдания: задержку дыхания, ощущение духоты, их охватывало чувство ужаса, но не страха.
По данным Пильгрина, только восемнадцать процентов бетризированных, убедившись, что перед ними кукла, решалось на мнимое убийство.
Запрет распространялся и на всех высших животных, но он не касался земноводных и пресмыкающихся, а также насекомых. Конечно, в сознании бетризированных отсутствовали научные знания о зоологической систематике. Запрет просто связывался со степенью близости к человеку — ведь каждый, образованный или нет, знает, что собака ближе к человеку, чем змея.
Я прочитал множество других работ и пришел к выводу — правы те, кто утверждал, что полностью понять бетризированного может только бетризированный. Я отложил это чтение со смешанным чувством. Больше всего меня беспокоило отсутствие работ критических или резко отрицательных, каких-то анализов, суммирующих все негативные результаты бетризации, а что они должны быть, я ни на секунду не сомневался не потому, что не доверял исследователям, просто такова уж сущность любых человеческих начинаний: в них всегда соседствуют добро со злом.
В небольшом социологическом очерке Мурвицкого приводилось много интересных данных о движении сопротивления бетризации, возникшем в первое время. Едва ли не самым сильным оно было в странах с многовековыми традициями кровавой борьбы, например, в Испании и некоторых государствах Латинской Америки. Впрочем, нелегальные общества борьбы с бетризацией создавались почти во всем мире, особенно много — в Южной Африке, в Мексике и на некоторых островах в тропиках. Использовались всякие способы — и фальсификация медицинских свидетельств о сделанной прививке, и даже убийство врачей, проводящих ее. Когда период массового сопротивления и бурных столкновений прошел, наступило внешнее спокойствие. Внешнее, так как только тогда стал проявляться конфликт поколений. Бетризированная молодежь отбрасывала значительную часть достижений человечества — обычаи, привычки, искусство, все культурное наследство подвергалось коренной переоценке. Перемены охватили множество сфер — от эротики и межличностных отношений до оценки войны.
Конечно, такого огромного воздействия на человечество ожидали. Закон вступил в жизнь, согласно решению, только через пять лет после его принятия, а в это время готовились многочисленные кадры воспитателей, психологов, специалистов, которые должны были следить за правильным развитием нового поколения. Была проведена полная школьная реформа, изменен репертуар всех зрелищных учреждений, тематика книг и фильмов. На всевозможные нужды и последствия бетризации в течение первых десяти лет тратилось ежегодно около 40 процентов народного дохода всей Земли.
Это было время великих трагедий. Бетризированная молодежь становилась абсолютно чужой для собственных родителей. Она не разделяла их интересов. Она испытывала отвращение к их кровожадным пристрастиям. Четверть века нужно было издавать два типа журналов, книг, ставить различные театральные спектакли, одни — для старшего поколения, другие — для нового. Но все это происходило восемьдесят лет назад. Сейчас родились дети у третьего нового поколения, а в живых небетризированных осталось немного — стотридцатилетние старики. То, что составляло сущность их молодости, новому поколению казалось таким же далеким, как традиции эпохи каменного века.
В учебнике истории я наконец нашел информацию о втором по значению великом событии минувшего века. То была победа над гравитацией. Этот век называли даже «столетием парастатики». Мое поколение мечтало о покорении гравитации в надежде, что оно принесет полный переворот в астронавтике. Действительность оказалась иной. Переворот произошел, но он охватил прежде всего Землю.
«Мирная смерть», связанная с несчастными случаями на дорогах, стала трагедией моего времени. Помню, как самые крупные ученые старались разгрузить бесконечно забитые шоссе и дороги, чтобы хоть немного уменьшить статистику все возрастающего числа происшествий; ежегодно сотни тысяч людей погибали в катастрофах, проблема казалась неразрешимой, как квадратура круга. Говорили, невозможно вернуть пешеходам безопасность: самый совершенный самолет, самая мощная автомашина или поезд могут выйти из-под контроля человека — автоматы по сравнению с человеком более надежны, но они тоже ломаются; любая, даже самая совершенная техника имеет определенный недостаток, процент ненадежности.
Парастатика, гравитационная инженерия, решила эту проблему столь неожиданно, сколь это было необходимо, ведь мир бетризированных должен был быть миром совершенно безопасным, иначе биологическое совершенство этой меры — напрасно.
Рёмер оказался прав. Сущность открытия можно было выразить математически, добавлю сразу — дьявольски сложно. Наиболее общее решение, важное «для всех вероятных миров», дал калека Эмиль Митке, сын почтового служащего, гений, расправившийся с теорией относительности так же, как Эйнштейн с теорией Ньютона. Это была длинная, необыкновенная и, как любой достоверный рассказ, неправдоподобная история, смешение дел ничтожных и великих, глупости и гениальности людей. Она закончилась йаконец через сорок лет созданием «малых черных ящиков».
Этими маленькими «черными ящиками» оснащались все средства передвижения — от водного до воздушного; эти «ящики» гарантировали «временное спасение», как в конце жизни пошутил Митке; в момент опасности — падения самолета, столкновения поездов или автомашин, одним словом,— катастрофы — освобождался заряд «гравитационного антиполя», которое, взаимодействуя с силой инерции удара или резкого торможения, сводило ее к нулю. Этот математический нуль представлял собой наиреальнейшую действительность — он поглощал всю энергию удара, снимал шок, спасая тем самым и пассажиров, и технику.
«Черные ящики» находились всюду: в лебедках, лифтах, в ремнях парашютов, на океанских лайнерах и в мопедах. Простота их конструкции была такой же ошеломляющей, как и сложность теории, по которой они были созданы.
Стены моей комнаты порозовели от первых лучей света, когда я, смертельно усталый, упал на кровать, сознавая, что познакомился со второй, после бетризации, великой революцией века, прошедшего на Земле за время моего отсутствия.
Меня разбудил робот. Он принес завтрак. Было около часа дня. Сидя в кровати, я нашарил отложенную прошлой ночью работу Старка «Проблемы звездных полетов».
— Надо ужинать, Брегт,— сделал мне замечание робот.— Иначе вы ослабеете. Нельзя так читать. До рассвета. Врачи очень не советуют, знаете?
— Знаю, а откуда тебе-то известно? — спросил я.
— Это мой долг, Брегг.
Он подал мне поднос.
— Я постараюсь исправиться,— проговорил я.
— Надеюсь, что вы правильно поняли мою доброжелательность и не восприняли ее как назойливость,— произнес он.
— Ну, конечно, понял,— сказал я.
Когда я помешивал кофе и под ложечкой начали таять кусочки сахара, меня охватило огромное и бесконечное изумление. Поразительно было не только то, что я действительно на Земле, что я вернулся и вспоминаю прочитанное этой ночью, которое никак не выходило из головы, но прежде всего то, что я сижу на кровати, что у меня бьется сердце,— что я живу. Мне захотелось в честь такого открытия сделать что-то особенное, но, как всегда, ничего хорошего придумать я не смог.
— Послушай,— обратился я к роботу,— у меня к тебе просьба.
— Я к вашим услугам.
— Ты свободен? Тогда сыграй ту мелодию, что вчера, хорошо?
— С удовольствием,— ответил он, и я под веселые звуки музыкальной шкатулки тремя глотками выпил кофе, а когда робот вышел, я переоделся и побежал к бассейну. Право, не знаю, почему я все время так спешил. Что-то меня подгоняло, словно я чувствовал г— в любую минуту мое спокойствие, слишком незаслуженное и невероятное, оборвется. Как бы там ни было, я, даже не оглядываясь, быстро пробежал напрямик через сад, несколькими прыжками взлетел на вышку и, уже отталкиваясь от доски, заметил двоих людей, выходивших из-за дома. С такого расстояния, понятно, я не мог их разглядеть, я сделал сальто, не самое удачное, и нырнул до дна. Открыл глаза. Зеленая вода сверкала, как кристалл, тени волн танцевали на освещенном солнцем дне. Я поплыл под водой к ступеням, а когда вынырнул, в саду уже никого не было. Делая сальто, я в долю секунды различил тренированным взглядом мужчину и женщину. Верно, у меня появились соседи. Я подумал, не проплыть ли мне еще раз бассейн, но старик Старк победил. Вступление к книге, где он писал, что полеты к звездам — ошибки молодости астронавтики, так разозлило меня, что я готов был закрыть книгу и никогда больше уже не возвращаться к ней. Но превозмог себя. Поднялся наверх, переоделся. Спускаясь, заметил в зале на столе вазу с бледно-розовыми фруктами, немного напоминающими груши. Я набил ими карманы брюк, нашел окруженное с трех сторон живой изгородью уединенное место, взобрался на старую яблоню, выбрал подходящее для моего веса разветвление, уселся там и принялся за изучение этой погребальной речи над делом моей жизни.
Через час моя уверенность была поколеблена. Старк использовал аргументы, против которых трудно было возразить. Он опирался на скудные данные, которые доставили первые две экспедиции, предшествующие нашей; мы называли их «уколами», ведь они только зондировали пространство на расстоянии нескольких десятков световых лет. Старк составил статистическую таблицу вероятного рассеивания, иначе говоря, «частоты заселения» всей Галактики. Возможность встречи разумных существ он оценивал как один на двести случаев. Другими словами, на каждые двести экспедиций — на протяжении тысячи световых лет — только, у одной был шанс открыть обитаемую планету. Однако и такой результат — что удивительно — Старк считал заманчивым, а план космических контактов в его анализе рушился только в дальнейших рассуждениях. Я возмущался, читая, что неизвестный мне автор писал об экспедициях типа нашей, то есть организованных до открытия эффекта Митке и явлений парастатики. Он считал подобные экспедиции абсурдом. Но черным по белому писал, что по крайней мере теперь в принципе можно создать корабль, развивающий ускорение порядка 1000, а может, даже 2000 g. Экипаж такого корабля вообще не ощущал бы ни ускорения, ни торможения — на борту была бы постоянная сила тяжести, равная доли земной. Так, Старк признавал возможным на протяжении одной человеческой жизни полеты до границ Галактики и даже в другие галактики — трансгалактодромия! — об этом так мечтал Олаф. При скорости лишь на незначительную долю процента меньше скорости света экипаж мог достичь глубины Метагалактики и вернуться на Землю, постарев всего на несколько месяцев. Но на Земле за это время должны были пройти не сотни, а миллионы лет. Вернувшись, они не могли бы жить в столь изменившейся цивилизации. Неандерталец легче бы приспособился к нашей жизни. Но это не все. Ведь речь шла не о судьбе группы людей. Они были посланцами человечества. Оно ставило вопросы, на которые они должны были привезти ответы. Если ответ касался проблем, связанных с развитием цивилизации, то человечество должно было решить их раньше, чем вернется экспедиция. От постановки вопроса до получения ответа на него проходили ведь миллионы лет. И это не все. Ответ становился неактуальным, мертвым, так как цивилизации, находящиеся за пределами нашей Галактики, достигали уже другого звездного берега. За время возвращения тот мир тоже не стоял на месте, а развивался миллион, два, три миллиона лет. Вопросы и ответы не совпадали, безнадежно опаздывали, что перечеркивало их, превращая в фикцию всякий обмен опытом, ценностями, идеями. Напрасно все. Ведь они были посредниками и поставщиками ненужных сведений, а их дело беспощадно и необратимо отчуждало их от человеческой истории; космические экспедиции представляли собой неизвестное до сих пор, самое дорогостоящее своеобразное дезертирство с территории исторических перемен. И ради такой фантазии, ради такого никогда не оплаченного, всегда напрасного безумства Земля должна была работать с наивысшим напряжением и отдавать своих самых лучших людей?
Книга заканчивалась главой о возможностях исследований с помощью роботов. Они тоже, конечно, передавали бы ненужные сведения, но в таком случае удалось бы избежать человеческих жертв.
Было еще трехстраничное резюме — попытка ответить на вопрос, есть ли возможность путешествия со сверхсветовыми скоростями, и даже рассматривалась проблема «моментальной космической стыковки», то есть преодоления мирового пространства без или почти без потери времени. Эта теория, скорее гипотеза, строилась на еще неизвестных свойствах материи и пространства, почти не опиралась ни на какие факты и называлась «телетаксией». Старк считал, что располагает аргументом, перечеркивающим и этот, уже последний шанс. Если бы «телетаксия» существовала, то ее, несомненно, открыла бы какая-нибудь высокоразвитая цивилизация нашей или другой галактики. В таком случае ее представители могли бы в самое короткое время по очереди дистанционно посетить все планеты солнечной системы, не исключая и нашу. Однако на Земле подобный «телевизит» неизвестен, что доказывает: о таком исследовании космоса можно размышлять, но осуществить его — нельзя.
Я возвращался домой ошеломленный, с чувством почти личной обиды. Старк, которого я никогда не видел, просто сразил меня. Мой неумелый пересказ не передает неоспоримой логики его рассуждений.
Не помню, как я добрался до комнаты, как переоделся; мне захотелось закурить, но тут я заметил, что уже давно курю, сидя на кровати, согнувшись, словно ожидая чего-то. А, верно — обед. Совместный обед. Да, я на самом деле немного боялся людей. Я не признавался в этом самому себе и именно поэтому так поспешно согласился поселиться на вилле вместе с незнакомыми. Возможно, ожидание встречи с ними вызвало эту необыкновенную спешку, словно я стремился успеть подготовиться к их появлению и при помощи книг проникнуть в тайны новой жизни. Еще сегодня утром я не мог этого четко сформулировать, но после книги Старка мое волнение перед встречей рассеялось, как туман. Я достал из аппарата для чтения голубоватый, похожий на зерно кристаллик и с чувством огромного удивления положил его на стол. Это он нанес мне нокаут. Первый раз после возвращения я вспомнил Турбера и Джимму. Я должен с ними встретиться. Может, в этой книге содержится правда, но есть какая-то другая — о нашей правде. Никто не обладает всей полнотой истины. Это невозможно. Из оцепенения меня вырвал музыкальный сигнал. Я одернул свитер и спустился вниз, прислушиваясь к себе, но уже более спокойный. Солнце освещало виноград, окружавший веранду; холл, как всегда после полудня, заливал рассеянный зеленоватый свет. Стол был накрыт на три персоны. Когда я вошел, открылись двери напротив и в них показались те двое. Они были по современным понятиям высокими. Мы вели себя, как дипломаты,— встретились на полпути, я назвал свою фамилию, мы подали друг другу руки и сели за стол. Меня охватило какое-то странное спокойствие, наверное, так чувствует себя боксер, поднявшись после нокаута. Находясь в таком подавленном состоянии, я как бы издалека присматривался к молодой паре.
Женщине, пожалуй, не было и двадцати. Гораздо позднее я пришел к мысли, что ее невозможно описать; безусловно, фотография не могла бы точно передать ее облик, даже на следующий день я не знал, какой у нее нос, прямой или чуть курносый. Я наблюдал, как она протягивает руку к тарелке, и радовался, словно увидел нечто дорогое, неожиданное, необычное: она улыбалась редко и сдержанно, будто была не совсем уверена в себе, не совсем владела собой, считала себя по натуре слишком веселой или, может, строптивой и старалась с этим разумно справиться, но иногда давала себе волю, и это ее забавляло.
Мне приходилось все время бороться с желанием разглядывать ее. Но все же я то и дело смотрел на нее, на се волосы, напоминающие ветер, я наклонился над тарелкой, поднимая глаза украдкой, два раза чуть не перевернул вазу с цветами, короче, старался вести себя прилично. Но они словно вообще меня не замечали. Они обменивались взглядами, понятными только им, их соединяли какие-то невидимые нити понимания. Не знаю, перебросились ли мы за все время двумя десятками слов — погода, мол, отличная, место приятное и можно здесь хорошо отдохнуть. Маджер был ниже меня на голову, худой, как мальчишка, хотя ему было, пожалуй, за тридцать. Одет в темное. Блондин с продолговатой головой и высоким лбом. Его неподвижное лицо казалось очень красивым. Но стоило ему обратиться к жене с улыбкой (их разговор состоял из намеков и полуслов, совершенно непонятных для постороннего), лицо становилось почти безобразным. Точнее сказать, пропорции как бы изменялись, губы немного кривились влево, теряли контуры; и даже его улыбка выглядела невыразительно, правда, зубы у него были красивые, белые. А когда он оживлялся, то глаза становились слишком голубыми, а челюсть — будто образцово вылепленной, и весь он представлял собой безликий образец мужской красоты, ну прямо из журнала мод.
Короче, с первого мгновения я почувствовал к нему антипатию. У девушки — так я мысленно называл его жену — ни прекрасных глаз, ни губ, ни волос; все обыкновенное. Она сама была необыкновенной. С такой, неся палатку на спине, я мог бы дважды пройти Скалистые горы, подумал я. Почему именно горы? Не знаю. Она ассоциировалась у меня с ночевками в сосновом лесу, с мучительным подъемом, с морским берегом, на котором ничего нет, кроме песка и волн. Неужели только потому, что у нее не подкрашены губы? Сидя напротив, я чувствовал ее улыбку, даже если она не улыбалась. В неожиданном порыве дерзости я решил посмотреть на ее шею — такой поступок равен воровству. Случилось это уже в конце обеда. Маджер внезапно обратился ко мне, и я, кажется, покраснел.
Он долго говорил, и я не сразу уловил о чем. В доме есть только один глайдер, а он, к сожалению, должен взять его, так как ему надо ехать в город. Поэтому, если я тоже собираюсь ехать и не желаю ждать до вечера, то не поеду ли я вместе с ним? Он мог бы, конечно, прислать из города другой глапдер или...
Я прервал его. Начал в том смысле, что никуда не собираюсь, но заколебался, словно что-то припоминая, и тут же услышал собственный голос, произносящий: действительно, у меня есть намерение поехать в город, и если можно...
— Ну, это прекрасно,— сказал он. Мы уже встали из-за стола.— В котором часу вам было бы удобно?
Мы долго обменивались любезностями, пока я не выяснил, что он вообще-то спешит. Я сказал, что готов ехать в любую минуту. Договорились ехать через полчаса.
Я вернулся наверх, несколько удивленный таким оборотом дела. Мадхер меня совершенно не интересовал. Мне абсолютно нечего было делать в городе. Зачем мне понадобилась эта прогулка? Кроме того, мне казалось, что я перебрал с учтивостью. В конце концов, если бы я действительно спешил в город, то роботы, безусловно, как-то выручили бы меня и мне не пришлось бы идти пешком. Может, ему что-то нужно от меня? Что именно? Ведь он совсем не знал меня. Я ломал над этим голову тоже неизвестно зачем, пока к назначенному времени не спустился вниз.
Его жены нигде не было, она не появилась и в окне, чтобы еще раз, издалека, с ним попрощаться. Вначале мы молчали, сидя в просторной машине, глядя на мелькающие повороты и извивы шоссе, кружащие вокруг гор. Постепенно завязался разговор. Я узнал, что Маджер — инженер.
— Именно сегодня я должен провести контроль городской селекстанции,— сказал он.— Вы, кажется, тоже кибернетик?
— Из эпохи каменного века,— ответил я.— Извините... а откуда вы это знаете?
— Мне сказали в бюро путешествий, кто будет нашим соседом; естественно, мне было интересно.
— Понятно.