Пора, мой друг, пора Аксенов Василий
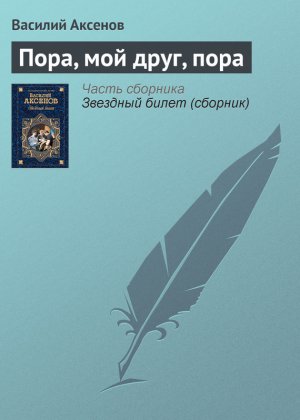
– Где твоя девушка? – спросил он в зале ожидания.
Горяев показал на Таню, которая уже не читала, а задумчиво глядела в окно.
– Вот эта? – Сергей взглянул на Таню и пошел к выходу на берег.
– Значит, в двенадцать ноль-ноль! – крикнул он Горяеву, обернувшись.
Горяев подошел к Тане и рассказал ей о новом своем знакомом и его обещании подбросить их до строительства.
Глава 3
Честно говоря, немного подташнивало меня от этого проклятого торта, а иной раз, извини, отрыжка появлялась прогорклым маслом. Я дошел до палатки, взял пачку «Луча» и стал курить, чтобы отбить этот вкус. Вообще-то я не курю, разве что когда выпьешь с товарищем, стрельнешь у него одну-другую папироску, чтобы разговор лучше шел.
Так вот, дымя «Лучом», я и отправился к автобусной остановке. На остановке под навесом сидели женщины-матери, а на стенке висел плакат, синий такой, и дохлая кобыла на нем нарисована. Гласил плакат о том, какое количество никотина убивает наповал лошадь. Вроде бы, значит, тонкий намек на толстые обстоятельства – раз, мол, лошади столько надо, чтобы окачуриться, то человеку и того меньше. Вообще-то додумал художник: лошадь к никотину непривычная, а люди есть такие, что дымят без остановки, как буксиры-угольщики.
Рядом с этим зловредным плакатом висело объявление об оргнаборе рабочей силы на Таймыр. Требовались там и механики и мотористы – в общем и мне бы нашлась на Таймыре работенка. Вот дела, везде эти объявления висят, куда ни приедешь. Помню, в Пярну мы с Валькой Марвичем прочли объявление о наборе сюда, а здесь, оказывается, уже и на Таймыр ребят набирают. Чего-чего, а работы у нас хватает.
А может, в самом деле на Таймыр отсюда махнуть? Достроим здесь заводик, можно и туда податься. Полярные надбавки – это дело, да и посмотреть на те места соблазнительно.
На шоссе здесь, у них, в областном центре, непорядок, грязь и колдобины. Неужели грейдером нельзя пройтись? У нас, в Березани, и то чище, хоть там и самосвалы двадцатипятитонные по шоссе гоняют.
Появился автобус, весь заляпанный и тихий. Видно, остерегался шофер в кювет посадить пассажиров.
Погрузился я в автобус со своей олифой и доехал до остановки Васильевский затон. От остановки до затона – путь мне через лес.
Что я люблю – это ходить через лес. Приятно было идти по дороге, хоть лес здесь и не такой, как в Ярославской области, откуда я родом, не такой веселый. В здешних лесах больше мрачности, особенно по такой-то погоде.
Тут – как будто маслом по сердцу – выглянуло солнышко.
Осины слева задрожали, а елки справа стоят важные и неподвижные. Лужи стали голубыми, и кукушка в чаще квакнула пару раз. Сколько жить мне еще на нашей мирной планете?
– Ну-ка, старая ведьма, начинай отсчет! – крикнул я кукушке.
А она, зараза: «ку-ку, ку-ку» – и молчок. Два года всего, значит. Это меня не устраивает.
– Давай сначала, – крикнул я.
«Ку-ку, ку-ку» – снова молчок. Опять два раза. Может быть, война через два года налетит, и я, значит, того… смертью храбрых под каким-нибудь «Поларисом»?
Я прямо зажмурился, когда вообразил, как начнутся подводные залпы ракетами, как они начнут нас долбать, а мы их двойным ударом, веселые будут дела! А мне надо дочку еще воспитывать, в детсад ее по утрам водить, и пацана хочу заиметь – заводишко этот не раньше чем через год достроим, а на Таймыре дел тоже невпроворот – ну, уж фигу вам с маслом!
– Давай сначала! – заорал я опять кукушке, этой старой лесной дешевке, которой самой-то небось не меньше ста лет, которая небось видела здесь черт те что, партизан, наверно, видела и колчаковских белогвардейцев, да еще собирается небось пожить сотняжку-другую.
Ну, тут она испугалась, наладилась, начала работать на полных оборотах. «Ку-ку, ку-ку, ку-ку…» Уже за двадцать перевалила – дочка моя на третий курс перешла в Московском государственном университете, а пацаненок экзамены сдает на аттестат зрелости, грубит уже мне, щенок, на девчонок стал заглядываться…
– Давай, давай! – крикнул я старой птице. – Мотай дальше!
Пока из леса вышел, со счету сбился. Вроде на восьмой десяток перевалило. Хватит, старой калошей шлепать тоже неинтересно. Собирайте гроши на поминки, чтоб все было как у людей. Поплачьте малость, это невредно. Умолкла. Нашли мы с ней контакт. Плачьте, мои товарищи, старые хрычи, это невредно. А впрочем, может, еще десятку добавить?
– Ну-ка, давай! – сказал я тихо, и она мне еще десятку отстукала, порядок.
Я посмотрел с бугра вниз на затон и увидел, что катер наш «Балтик», 0-138, в полном порядке, стоит себе среди разного деревянного и ржавого железного хлама. Мухин и Сизый заметили меня на бугре и стали руками махать: быстрей, мол. Мухин, капитан наш, старый морячина, тоже балтийский, а Сизый, матрос, молодой местный пижон.
Всю осень и зиму, как приехали мы сюда с Валькой Марвичем, мы втроем ремонтировали этот катер, можно сказать, строили его заново: мотор перебрали, обшивку даже клепали и варили заново.
Ничего, не обижало нас начальство – оклады дали по летнему тарифу, по навигационному, и премиальные спускали, по полторы сотни выходило чистых.
Сизому, понятно, меньше, как неквалифицированному пижону.
И вот сейчас катер наш был на плаву, мощненький такой, осталось только его покрасить. За олифой я и ездил на пристань.
– Олифу достал? – спросил Мухин.
– За кого вы меня принимаете, товарищ Мухин? – сказал я. – Югов сказал: достану – значит, достанет.
– Значит, покрасим? – смекнул Сизый.
– Верно ты сообразил, – говорю ему. – Значит, покрасим.
– Давай заводи свой патефон, – буркнул Мухин.
Я полез в свое отделение, запустил машину. Все у меня было в порядке, прямо сердце радовалось.
Побежала наша «Балтика» по сибирской реке. Я поднялся наверх и зашел в рубку к Мухину.
– Мухин, – говорю ему, – подойди на секунду к дебаркадеру.
– Нет уж, – отвечает Мухин, – там эта публичка навалится, а у нас груз.
– Тихонько подойди. Кореша одного надо прихватить с женой.
– Ладно, – говорит Мухин. – Только на айн момент.
Когда появился перед нами голубой дебаркадер, я посмотрел на часы. Точно подходили, как я и обещал Юрке Горяеву, точно в двенадцать ноль-ноль.
Юра и девушка эта самая стояли на палубе дебаркадера ближе к корме и всматривались в нас. Я махнул им.
Когда подошли, Юрка тотчас же бросил на палубу свой чемодан и девчонка свой тоже бросила. И оба прыгнули к нам. Неплохо это было сделано. Мы сразу же отвалили, публика только заорать успела.
– Знакомьтесь, – сказал Юра.
– Очень приятно, Таня, – сказала девчонка и руку мне протянула.
– Югов Сергей Иванович, – сказал я, нахмурясь.
Всегда я хмурюсь, когда с красивой девчонкой знакомлюсь, не пойму отчего. По отчеству себя величаю.
– Вот это чувиха! – шепчет мне Сизый.
– Не шепчи! – тихо рявкнул я на него и полез зачем-то в свой отсек.
Клапана мне надо было посмотреть, вот зачем полез.
Покрутился я с клапанами этими пяток минут – и опять наверх.
Нужно мне было рассмотреть эту Таню как следует. Гляжу. Сизый уже с ней сидит, травит ей потихонечку.
– Я, знаете, стремлюсь к повышению, – говорит Сизый.
– Заочно учусь в Ленинградском кораблестроительном.
Конечно, трудно сочетать. А еще и спорт. Я, Таня, борьбой занимаюсь.
Я присел рядом, позади них, и слушаю. Очень интересуют меня люди, которых, грубо говоря, хвастунами можно назвать. Все с них как с гуся вода.
Что такое хвастовство? Удовольствие оно доставляет человеку. Я вот не умею хвастать и часто думаю, что зря.
Хвастовство не влечет за собой никаких неприятных последствий.
Помню, на эсминце, когда спартакиада флота началась, записывается к нам на боксерское соревнование один старший матрос. Я его спрашиваю (при ребятах, заметь): «Какой у тебя разряд, старший матрос?» А он отвечает нехотя так: да так, мол, на первый работаю. Ну, думаю, дела! Стали мы с ним работать, смотрю, прет старший матрос, как бык, и руками машет, не тянут.
Сильно ему тогда от меня досталось, и ребята смеялись, а все ничего, не убавилось его, старшего матроса, от этих насмешек.
Так и Сизого не убавится, когда Таня узнает, какой он на самом деле заочник и борец. Каким был местным неквалифицированным пижоном, таким он и останется. «Чувак», «чувиха» – весь разговор.
Так, Таня встает и идет на нос, где Юра стоит. Юбка у нее полощется на ветру, коленки светятся, прямо хоть зажмурься, и волосы разлетаются. Улыбнулась мне. В общем-то она, должно быть, хорошая девчонка. Не просто фифа из Москвы, а с характером и с печалью. Пошел я за ней, и стали мы втроем стоять на носу. Стояли, помалкивали, а ветер по нас хлестал.
Дружно это как-то было, очень хорошо, будто мы старые друзья с Таней и Юрой, будто детство вместе провели.
– Шли бы вниз, в каюту, – сказал я им потом. – Нам ходу пять часов. Поспите.
– А вы местный, Сережа? – спросила Таня.
– Нет, я с Балтики, – говорю, – осенью только завербовался в Березань на строительство.
– Что же вас сюда потянуло?
– Да так, – говорю, – надумали мы с одним дружком поехать, вот и поехали.
– А кем вы на Балтике были?
«Может прихвастнуть? – подумал я. – Убавится, что ли, меня?
А ей интереснее будет». Но не решился.
– Механиком работал по дизелям, – сказал я.
– А в каком вы городе жили? – спросила она.
– В Пярну жил последний год.
– А-а, – протянула она и внимательно посмотрела на меня искоса.
И тут меня словно ожгло. Поплыли, полетели на меня воспоминания прошлого года, потому что повернулась она ко мне тем же ракурсом, что и на фото открытке. Я вспомнил, в каком виде ввалился тогда ко мне Валька Марвич и как мы с ним ушли на море и там сидели под ветром, хлюпали папиросками, а он мне фотооткрытку эту показывал и что-то неясное толковал о ней, об этой Тане, и о себе, и о каких-то других людях, о людях вообще.
А потом ночью мы лежали с Тамаркой и слушали, как он ворочается на раскладушке, молчали, не мешали ему переживать. А также вспомнил наши решительные прогулки в толпе курортников по вечерам, сто грамм с прицепом – хватит или добавим, давай добавим, давай куда-нибудь поедем, у меня специальность хорошая, флоту спасибо, жена твоя будет грустить, ну, погрустит и перестанет, я тебя что-то не пойму, тогда давай еще – а уже было закрыто и не пускали никуда. Да это точно она, Татьяна!
– А вы кто будете? – спросил я для проверки.
– Я в кино снимаюсь. Актриса, – говорит она.
– Идите вниз, Таня, – сказал я. – Отдохните.
– Ага, – сказала она и дернула Юру за рукав. – Пойдем.
Я за Таней пошел, а Юра Горяев с другого борта. Смотрю, Мухин мне подмигивает на Таню и большой палец показывает, а потом на Юру презрительно машет – это, мол, ерунда, не соперник, мол, тебе, Югов, а так, только место в пространстве занимает. Если бы знал Мухин, кого мы везем…
И вообще он это зря, Мухин. Я не из таких. Есть жена – и ладно, а крановщица Маша – это так, с кем не бывает.
Бывает со всяким. С Мухиным такое бывает чаще, чем со всяким. Мухин баб не жалеет, потому что от него в свое время невеста отказалась.
Он очень правильный мужик, Мухин, скажу я тебе! Он мне раз такое из своей жизни рассказывал, что не во всякой книжке прочтешь.
Служил наш Мухин во время войны на подводной лодке, и накрыл их «юнкерс» своими бомбами. Лодка лежит на грунте с распоротым пузом, всем в общем пришла хана, только Мухин и раненый торпедист в одном отсеке жить остались. Это где-то возле Клайпеды было в сорок первом. В общем представь себе, в кромешной темноте с раненым торпедистом. Дышать почти нечем, спички еле горят из-за недостатка кислорода. Часов через несколько Мухин взял буек, вылез через торпедный аппарат и выплыл на поверхность. А ночь уже была. Поставил Мухин буек над этим местом и поплыл куда-то вольным стилем, может, в Швецию, может, в Финляндию, а может, к своим. К своим попал. В пяти километрах на песчаной банке рота наша стояла из последних сил.
Думаешь, товарища бросил Мухин? Ну, нет! Взяли они шлюпку и пошли в темном море буек искать. Еле нашли. Мухин стал нырять – не пехотинцам же нырять? А буек-то, оказывается, отнесло, раз пять Мухин нырял, пока лодку нашел. Влез туда, на старое место – в гроб, можно сказать, снова влез и вытащил торпеду.
Все же торпедист умер, а Мухин в плен попал на той банке.
Потом в концлагере сидел в Норвегии. Убежал оттуда, с партизанами гулял. А после войны в нашем проверочном лагере сидел. Культ личности был, понял? Выпустить-то выпустили Мухина из лагеря, но только определили в спецконтингент.
Когда Сталин помер, проверять стали, что к чему, почему столько народу в лагеря запихали бериевские элементы.
Реабилитировали Мухина и даже орден ему дали, в газетах о нем стали писать. Сам вырезки видел. Мухин тебе не Сизый, трепать не будет. Спокойный он мужик и деловой, только вот бабам простить не может. А зря, женщина женщине рознь.
Итак, пришли мы к Березани спокойно и вовремя, ошвартовались. Спустился я в каюту и разбудил наших пассажиров.
Проводил их до Дома приезжих. Поднес Тане чемодан.
– До завтра, – сказал я им. – Завтра загляну к вам с утра.
После этого отправился домой. Иду по шоссе, от «МАЗов», как заяц, отпрыгиваю. Купил в автолавке булку черного хлеба, консервы «Бобы со свининой» и мармелад к чаю. На двоих будет в самый раз поужинать. Иду и все думаю о Вальке и о Тане.
Нехорошо у них получается, непорядок.
Вижу, догоняет меня он сам, Валька Марвич, на своем колесном тракторе. Восседает на нем, как падишах. Сел я с ним рядом. Поехали. Все быстрее, чем пешком. Позади у Вальки ковш болтается полукубовый, а впереди бульдозерная лопата на весу.
Знаешь эти хитрые тракторы «Беларусь»? Тут тебе и экскаватор, тут тебе и бульдозер, и тяговая сила опять же.
– Устал, – говорит Марвич. – А ты?
– А мне-то что? – ответил я. – Прогулку совершил по реке на легком катере, вот и все. Пассажиров привезли.
– А я устал, – говорит Марвич. – Устал, как лошадь. Как скот последний.
– Слушай, Валя, – сказал я ему, – ты не особенно переживай, но похоже на то, что жена твоя сюда прибыла с нашим катером.
Он только кашлянул и поехал дальше молча. Я смотрю: он потом весь покрылся, мелкими каплями.
– Шуточки такого рода, – говорит он через минуту, – раньше не свойственны были тебе, Сергей.
И газу, газу дает, балда.
– Я не шучу, – сказал я. – Таня, киноартистка, и на карточку похожа. С парнем одним она сюда приехала, с Юрой Горяевым. Только не жена она ему, это видно, и даже не крутят они любовь – это факт. Это твоя жена, друг.
Глава 4
– Что же, ты думаешь, ради меня она сюда приехала? – спрашивает Марвич.
– Зачем ради тебя? – успокоил я его. – Приехала она сюда ради меня или, может, ради нашего матроса Сизого, но уж не ради тебя, конечно.
– Боже мой, сколько иронии! – засмеялся Валька.
Мы лежали на койках в нашем вагончике и ждали, когда нагреются бобы. Керосинка стояла на полу возле двери, светились желтым огнем ее щелки и слюдяное окошечко. В вагончике было темно, только керосинка светилась, да в углу мокрый мой тельник висел на веревке, подвешенный за рукава. Как будто матрос высокого роста стоял в углу с поднятыми руками. Лампочку мы не зажигали, почему-то не хотелось. Лежали себе на койках, тихо разговаривали. Валька курил, а я мармелад убирал одну штучку за другой.
Вагончик этот мы захватили еще осенью, как говорил Марвич, «явочным порядком». Поселились в нем – и все. Сами утеплили его и перезимовали за милую душу. Тамарка, жена моя, прислала нам занавесочки вышитые, скатерку, клеенку, прочие там фигли-мигли, а Валька к Новому году купил здоровый приемник «Рига». В общем комфортабельная получилась халупа. Ребята из общежития нам завидовали. Экспресс «Ни с места» – так мы свою хату называли.
Обещают нам к лету койки в каменном доме выделить, так просто жалко будет уходить, хоть там и гальюн будет теплый, и душевая, и сушилка.
Валька включил приемник, нашел Москву.
– Передаем концерт легкой инструментальной музыки, – сказала дикторша.
Музыка действительно была легкая, ничего себе музычка.
Индикатор глазел на нас с Валькой, будто удивлялся: то расширялся, то суживался. Бобы начали бурлить.
– А не веришь, сходи к Дому приезжих, – сказал я.
Валька встал и надел свою кожаную куртку, кепку нахлобучил и в зеркало посмотрелся.
– Поешь сперва, – сказал я. – Готово уже.
Но он молча выскочил из вагончика. Я посмотрел в окошко. Он прыгнул через кювет и запрыгал по шоссе через лужи, потом опять через кювет и побежал, замелькала его черная тень, скрылась за ближним бараком.
Мы с Валькой случайно подружились еще в Эстонии, в каком-то буфете скинулись на «маленькую». Бывает же так, а! Скоро год уже, как мы с ним вовсе не расстаемся: он мне стал как самый лучший кореш, как будто мы с ним съели пуд соли вместе, как будто плавали на одном суденышке и на дне вместе отсиживались в темном отсеке под глубинными бомбами – стали мы с ним как братья, хоть у нас и разница в образовании.
Валя такой человек – скажешь ему: «Давай сходим туда-то», а он говорит: «Давай сходим». Скажешь ему: «Давай выпьем, а?», а он: «А почему же нет? Конечно, выпьем». – «А может, не стоит?»
– «Да, пожалуй, не стоит», – говорит он. Вот какой человек.
Но, конечно, и он не без заскоков: пишет рассказы. Надо сказать, рассказы его мне сильно нравятся. Там такие у него люди, будто очень знакомые.
Вот такое ощущение, знаешь: скажем, в поезде ты или в самолете поболтал с каким-нибудь мужиком, а потом судьба развела вас на разные меридианы – тебе, конечно, досадно – где теперь этот мужик, может, его и не было совсем – и вдруг в Валькином рассказе встречаешь его снова – вот так встреча!
– Ой, не идет! Не умею! Муть! – вопит иногда Валька и сует бумагу в печку.
– Балда, – говорю ему я. – Психованный тип. Лев Толстой, знаешь, как мучился? А бумагу не жег.
– А Гоголь жег, – говорит он.
– Ну и зря, – говорю я.
Очень Тамаре моей Валька понравился и дочке тоже. А у самого у него семейная жизнь не ладится, по швам расползлась.
Не знаю уж, кто из них прав, кто виноват. Таня ли, он ли, а только понял я из Валькиных рассказов, что мучают они друг друга без веских причин.
Я снял кастрюлю, керосинку задул, навалил себе полную тарелку бобов и стал ужинать под легкую инструментальную музыку.
Не знаю, что мне делать с крановщицей Машей? Как получилось у нас с ней это самое, неделю мучился потом и бегал от нее, все Тамару вспоминал. Не хватает моей души на двух баб. А Валька говорит, что он в этих делах не советчик. А ведь мог бы подбросить какие-нибудь цэ у. Писатель все же. Молчит, предоставляет самому себе.
А Маша мне стихи прислала: «Если облако ты белое, тогда я полевой цветок, все для тебя я сделаю, когда придет любви моей срок».
Тамара мне, значит, носки вязаные и шарф, а Маша – стихи.
Дела!
– Облако белое, – смеется Марвич. – Облако в клешах.
Это он шутит, острит без злобы.
По крыльцу нашему застучали шаги, и послышалось шарканье – кто-то глину с ног соскребывал. Я зажег свет. Вошли Марвич и Мухин. В руках у них были бутылки. Значит, Валька не к Дому приезжих, а в автолавку бегал, вот оно что.
– Давно с тобой не виделись, – сказал мне Мухин. – Заскучал за тобой, Сергей Иванович.
– Садитесь, штурман, – сказал ему Валька и поставил бутылки на стол: ноль-пять «Зубровки», ноль-пять алычовой и бутылку шампанского.
– Можно отправление давать? – спросил я.
– Давай, – сказал Валька и разлил поначалу «Зубровки».
– Внимание! – крикнул я. – До отхода голубого экспресса «Ни с места» осталось пять минут. Пассажиров просим занять свои места, а провожающих выйти из вагонов. Сенькью!
– Провожающих нету, – заметил Марвич, и мы выпили.
– Тут вдову мне одну сватают, – сказал Мухин. – Как вы думаете, ребята, может, стоит мне остепениться на сорок пятом году героической жизни?
– Что за вдова, Петрович? – спросил Валька.
– Одного боюсь, – весовщицей она работает. Вдруг проворуется? Мне тогда позор.
– А ты ее сними, Петрович, с весов и пусти на производство, – посоветовал я.
– Идея, – сказал Мухин и разлил остатки «Зубровки».
На дворе пошел дождь. По окошкам нашим снаружи потекли струйки.
– Вот моя Тамарка медсестрой работает. В госпитале, – сказал я. – Там украсть нечего.
Мне стало печально, когда я вспомнил о Тамарке.
Струйки дождя на окнах напомнили мне балтийские наши дожди и все города, по которым мы кочевали с Тамаркой: Калининград, Лиепая, Пярну… Как мы сидим с ней, бывало, обнявшись на кровати и поем: «Мы с тобой два берега у одной реки», а за окном дождь, Тамарка ногой коляску качает, а дочка только носиком посвистывает. Горе ей со мной, жене моей: все меня носит по разным местам, и дружки у меня все шальные какие-то попадаются, можно сказать, энтузиасты дальних дорог.
Валя пустил в ход алычовую. Она была сладкая и напомнила мне утренний торт. Но все же она ударяла – как-никак двадцать пять градусов.
– А у меня жена артистка, Петрович, – сказал Валя.
– А-а, – улыбнулся Мухин, – с их сестрой тяжело. Фокусы разные…
– Ну да, – сказал Валя, – комплексы там всякие…
– Знаешь, – сказал я ему, – если уж она в Березань приехала, значит без всяких финтов. Такое мое мнение.
– Да, может быть, это и не она? Может, тебе померещилось, Серега?
– Что же ты не сходил в Дом приезжих?
– Боюсь, – тихо сказал Валька, кореш мой.
Мы стали обсуждать все его дела, но, конечно, путного ничего сказать не могли. Мухин, должно быть, представлял на месте Тани свою вдову, а я то ли Тамарку, то ли крановщицу Машу с ее стихами. А ведь такая девка, как Таня, стихов своему дружку не напишет. Потом мы допили алычовую и замолчали, размечтались каждый о своем. Мухин журнал листал, Валька крутил приемник, а я в потолок смотрел.
– Я хочу простоты, – вдруг с жаром сказал Валька. – Простых, естественных человеческих чувств и ясности. Хочу стоять за своих друзей и любить свою жену, своих детей, жалеть людей, делать для них что-то хорошее, никому не делать зла. И хватит с меня драк. Все эти разговоры о сложности, жизнь вразброд – удобная питательная среда для подонков всех мастей.
Я хочу чувствовать каждого встречного, чувствовать жизнь до последней нитки, до каждого перышка в небе. Ведь бывают такие моменты, когда ты чувствуешь жизнь сполна, всю – без края… без укоров совести, без разлада… весело и юно… и мудро. Она в тебе, и ты в ней… Ты понимаешь меня, Серега?
– Угу, – сказал я.
– У тебя были такие моменты?
– Были, – сказал я. – Помню, на Якорной площади в День флота мы перетянули канат у подводников. А день был ясный очень, и мы вместе пошли на эсминец. На пирсе народу сбилось видимо-невидимо: офицеры, рядовые – все смешались и смеялись все, что вставили фитиль подводникам…
Я вспомнил Якорную площадь, бронзового адмирала Макарова в синем небе, команду подводников в брезентовых робах – крепенькие такие паренечки, что твои кнехты, – и как мы тянули канат шаг за шагом, а потом пирс, вымпелы, шеи у ребят здоровые, как столбы, и загорелые, и наш эсминец, зачехленный, серый, орудия, локаторы, минные аппараты – могучая глыба, наш дом.
– Да-да, я понимаю тебя, – печально как-то сказал Валька. – Но видишь ли… Вот я, и ты, и Мухин, все нормальные люди постоянно мучают себя. Я все время пополняю счет к самому себе, и последнее в нем – странный парень, переросток, то ли пройдоха, то ли беспомощный щенок. Куда он делся? Это мучает меня. Ну, ладно, это к слову, но если уж так говорить, одно веселенькое чириканье не приведет в ту полную, чистую жизнь…
– Туманно выражаетесь, товарищ, – сказал Мухин.
– Да-да, – огорчился Марвич, – в том-то и дело, корявый язык…
– Боцмана я недавно встретил демобилизованного, – вспомнил я. – Стоит наш эсминец на консервации теперь, на приколе.
Моральный износ, говорят, понял?
– В такую жизнь ведут тесные ворота, – сказал Марвич, – и узкий путь. Надо идти с чистыми руками и с чистыми глазами.
Нельзя наваливаться и давить других. Там не сладкими пирогами кормят. Там всем должно быть место. Верно я говорю, Петрович?
– Верно! – махнул рукой Мухин. – Открывай шампанское!
Мы выпили шампанского, и вот тут-то нас немного разобрало.
Спели втроем несколько песен, и вдруг Валька захотел идти в Дом приезжих.
– Поздно, Валька, – сказал я. – Завтра сходишь.
– Нет, я сейчас пойду, – уперся он, – а вы как хотите.
Мы вышли все трое из вагончика и заплюхали по лужам. Вдали шумела стройка, работала ночная смена. Ползали огоньки бульдозеров, иной раз вспыхивала автогенная сварка, и тогда освещались формы главного корпуса.
– Я ее люблю, – бормотал Марвич, – жить без нее не могу.
Как я жил без нее столько месяцев?
Я помню улицу, – говорил он. – Знаешь, в том городе есть улица: четыре башни и крепостная стена, а с другой стороны пустые амбары… там и началась вся наша путаница с Таней.
Знаешь, для меня эта улица как юность. Когда я был мальчишкой, мне все время мерещилось что-то подобное и… Но ты, Сергей, должно быть, не понимаешь…
– Почему же нет? – сказал я. – Мне тоже мерещилась всякая мура.
– А потом я стал стыдиться этой улицы. Как говорится, перерос. Напрасно стыжусь, а?
– Эх вы, молодые вы еще! – крикнул вдруг Мухин, сплюнул и остановился.
– Ты чего, Петрович?
– Ничего, – в сердцах сказал он. – Ты детей видел в немецком концлагере? Ты видел, как такие вот маленькие старички в ловитки еще играть пытаются? А горло тебе никому не хотелось перегрызть? Лично, собственными клыками? Пока! Завтра к двенадцати явись на судно.
Он пошел от нас в сторону, раскорякой взобрался на отвал глины и исчез.
А мы, конечно, в Дом приезжих не пошли. Только издали посмотрели на огоньки и отправились спать. Конечно, не спали, а болтали полночи. Разговаривали. Мы поняли Мухина.
Глава 5
С соседками своими по комнате Таня познакомилась еще вечером. Это были три проезжие геологини и пожилая женщина-врач, инспектор облздравотдела. Утром, когда Таня открыла глаза, геологини уже встали, а инспектор сидела на кровати и расчесывала волосы.
В окне было солнце. Лучи его, проникая через занавески, падали на молодые тела геологинь. На них было хорошее белье.
Они ходили в одном белье по комнате, укладывали свои рюкзаки и кричали друг другу: «Сашка, Нинка, Стелка…» Потом они надели байковые лыжные костюмы и резиновые сапоги, и теперь трудно было представить, что под костюмами у них такое хорошее белье и столь свежие молодые тела.






