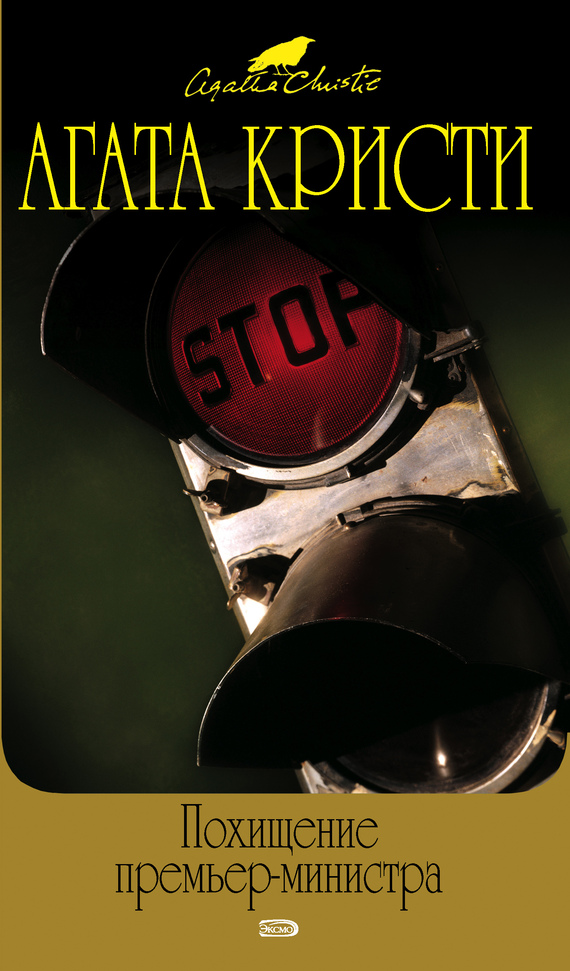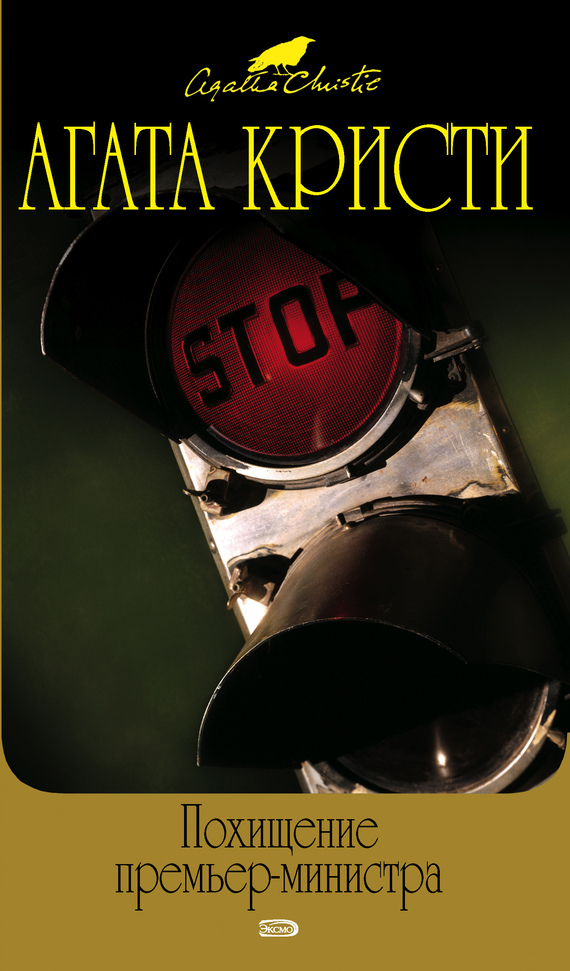Прекрасные черты Пугачёва Клавдия

Взрослые часто бывают убеждены в том, что их мир безмерно отделён от мира детей и что непроходимая пропасть между детством и человеческой зрелостью является законом природы. Надо ли говорить, что это чистейшая выдумка. Встретившись впервые с детской зрительской массой не в обстановке школы, а в условиях свободного восприятия искусства и вольного высказывания своих впечатлений и мыслей по поводу этих впечатлений, мы с каждым днём убеждались в полноценности детского эстетического восприятия и, главное, в полноценности детского мышления. «Взрослость» – это не только и не обязательно физическая зрелость человека. Возможна и в раннем возрасте определенная степень взрослости. Она обусловлена жизненным опытом, преждевременно формирующимся независимо от физического развития.
В условиях беспризорничества такая преждевременная взрослость может определять не столько внешний, сколько внутренний мир подростка. Тогда наступает момент серьёзного выбора средств воспитательного воздействия, то есть перевоспитания человека. История борьбы с беспризорностью весьма насыщена тем психологическим материалом, который лёг в основу пьесы А. Крона «Винтовка № 492116».
Перевоспитание беспризорников – вот, в сущности, событийная тема этого спектакля. Великолепно написанная пьеса значительно пересиливала узкие задачи практической «полезности» и нравоучительности. Она глубоко волновала силой заложенной в неё идеи человеческой ценности. И в этом смысле роль рядового беспризорника Паташона, которую играла Пугачёва, стала в ряд значительных образов спектакля и явилась ещё одним доказательством высокого мастерства артистки, дальнейшего развития её художественного метода и реалистической глубины создаваемых ею образов.
Паташон непокорен, как и его «вожак» Ирод. Но он ещё и изобретателен в нахальном приспособленчестве к порядкам армейского быта. Он не просто смешон в своих выходках, но ещё и дерзок и циничен в своём отношении к начальнику и к требованиям не только воинской, но и всякой общественной дисциплины. Изживание внутреннего анархического начала, сложившегося в психике Паташона под влиянием затянувшей его в свои сети преступной среды, составляет искусство той социальной педагогики, силу которой противопоставляет анархии строй нашей Советской Армии. Перед юным зрителем впервые театром выдвигалась серьёзная тема человеческой воли и её воспитания в атмосфере ответственности и самоуправления. Паташон – испорченный ребёнок, впитавший всю омерзительность взрослой аморальности. В этой аморальности он, как и его друзья, видит «романтику свободы» и «закон преступной поруки». Но как великолепно Пугачёва оттенила во всем развитии роли чудесную наивность, чистоту дружбы и веру в силу товарищества, бессознательно хранимые в душевном потенциале Паташона и ещё не окончательно вытравленные из его, по существу, здорового человеческого таланта. Таков сложный комплекс художественного образа, в котором заложен эстетический смысл сценического решения этой роли. Пугачёва играла эту роль исключительно завершённо, художественно и педагогически точно. Весь творческий путь К. В. Пугачёвой, пройденный ею на сцене Ленинградского театра юных зрителей, – это прекрасный путь актрисы – художника и педагога, во многом способствовавший формированию эстетической и педагогической теории советского театра для детей и юношества.
Так училась и формировалась, прежде чем уйти из «детского театра» в театр для взрослых, артистка К. В. Пугачёва. Все мы, её товарищи по Театру юных зрителей, видели её первые шаги на сцене, следили за её постепенным артистическим ростом, радовались её буйному успеху у многотысячных зрителей.
В студийную пору я преподавал ей и её подругам литературу. Это были годы нашей совместной актёрской юности, хотя я был значительно старше её по возрасту. Мы учились у замечательного мастера и педагога А. А. Брянцева искусству театра для детей, в сущности, тогда только впервые открытому им. Многих актёров воспитал Брянцев как актёров именно педагогического театра. Но все мы должны сказать, что каждому из нас пришлось многому научиться и у нашей Капы Пугачёвой, которая умела так работать над своей актёрской природой, что её творческий путь в Ленинградском ТЮЗе стал уроком вдохновенной артистической жизни, которому можно только радоваться, дивиться и подражать».
Зон
«Дорогая моя ученица № 1! У тебя, ты знаешь, лёгкая рука – листок этот посылаю тебе для подтверждения сего, какая плеяда ведёт свой счёт начиная с тебя! Спасибо за память, с неизменной любовью
Борис Зон.30 апреля 1958 года.»
Это было написано мне на программе по случаю его 60-летнего юбилея, который праздновался в Ленинградском отделении Всероссийского театрального общества Ленинградским государственным театральным институтом. Я заранее поздравила Бориса Вольфовича и в ответ получила программу этого юбилея с очень плохой его фотографией и его же припиской к фото «Хоть моя красота никогда на пленяла тебя, я всё же требую подтверждения, что здесь я даже отдалённо не похож на себя». И действительно, фото было не из лучших.
Впервые я встретила Бориса Вольфовича, когда ему было лет двадцать пять. Он был актёром в Театре юного зрителя в Петрограде, а мы, ученицы Студии имени Златы Ионовны Лилиной, танцевали жар-птиц в первом тюзовском спектакле «Конёк-Горбунок» Ершова, где Борис Вольфович играл стольника.
Через год Брянцев привёл к нам в студию Бориса Вольфовича и сказал: «Теперь с вами будет заниматься Борис Вольфович, любите его и слушайтесь, вам будет с ним очень интересно». До сих пор с нами работал сам Александр Александрович, поставивший в студии «Сказку о рыбаке и рыбке», «Вильгельма Телля» и «Антигону». Все эти спектакли игрались в стенах студии, а «Телля» мы показывали несколько раз как студийный спектакль даже на сцене самого ТЮЗа. В этих спектаклях я играла роль Вильгельма Телля и Антигону.
Роль Антигоны изменила мой характер, моё мышление и моё поведение в жизни. Из весёлой, любившей подурачиться, понимающей юмор и от души умеющей смеяться, я превратилась в замкнутую, избегающую людей и полюбившую одиночество девушку. Меня как будто подменили, я внутренне готовила себя стать трагической или, в крайнем случае, драматической актрисой. Я ходила всегда с серьёзным лицом, вырабатывала особую манеру двигаться, меня интересовали только трагедийные и драматические произведения.
Александр Александрович подметил это и предложил Борису Вольфовичу в сценах из «Тома Сойера» Марка Твена, которые тот собирался с нами ставить, дать мне роль Гекльберри Финна.
И Зон сумел как педагог снять с меня весь этот надуманный груз и вновь вернуть мне весёлость и жизнерадостность. Он повёл меня по линии характернокомедийной, чем и определил всю мою дальнейшую жизнь на сцене.
В студию Борис Вольфович приходил подтянутый, в кипельно-белой рубашке, с чёрным бантиком вместо галстука, в толстовке (тогда так называли широкую, особого покроя куртку) и идеально вычищенных ботинках. Он казался примерным учеником, а не педагогом. Вначале мы с осторожностью приглядывались к нему и к его методу работы. Знакомство состоялось быстро, так как он сразу расположил к себе удивительной для молодого человека серьёзностью, деловитостью и целеустремлённостью. Зон рассказал нам, как он задумал сделать спектакль вместе с художником Михаилом Александровичем Григорьевым. Григорьев преподавал в студии, и мы очень любили этого чудесного художника и прекрасного человека. Михаил Александрович неоднократно в летние каникулы выезжал вместе со студией на дачу и поэтому знал нас досконально. Он почти с каждого делал рисунки на природе и во время зарисовок основательно знакомился с учениками. Михаил Александрович рассказал о каждой из нас Борису Вольфовичу, и тот сразу понял, каким образом следует обращаться с нами на занятиях.
Они задумали спектакль как детскую игру, и поэтому декорации состояли из больших кубиков (примерно 100 на 80 сантиметров), которые мы должны были складывать и раскладывать для построения нужной сцены. А пока что мы работали над сценами «Разговор Тома с Геком о дохлой кошке», «Окрасказабора», «Диалог Бекки и Тома в школе», «На необитаемом острове». Все персонажи в пьесе до нас доходили стопроцентно, так как среди нас ходили и Том Сойер, и Бекки Тэтчер, Гекльберри Финн, Бэн и даже тётушка Полли.
Борис Вольфович работал весело, озорно. Мы не переставали удивляться его фантазии и умению из каждого вытянуть то, что присуще только его индивидуальности. Он открывал в нас неведомые нам самим качества, о которых мы и не подозревали.
По задумке Брянцева, Борис Вольфович должен был в этом спектакле вырастить новых «травести», то есть актрис или актёров, играющих на сцене детей. В дореволюционном театре детей на сцене обычно играли актрисы в очень зрелом возрасте или брали просто детей, если надо было играть пяти, десятилетних. Но ребёнок в театральном спектакле таит в себе большую опасность. Его «всамделишность» нарушает театральную реальность. Так писала в своей статье «Амплуа, рождённое заново» драматург Александра Яковлевна Бруштейн – друг и соратник Зона. В пьесе «Похождения Тома Сойера» главные персонажи пьесы были дети, и дети же сидели в зрительном зале. Они были требовательны к достоверности и жизненной правде. И новые «травести», которые были ненамного старше зрителей, исполняли роли органично, так как играли самих себя, создавали образы самые разные, как разнообразны дети в жизни.
Так что задача Зона была не только режиссёрская, но и, главным образом, педагогическая. Он впервые проверял на нас своё педагогическое и режиссёрское дарование; его увлечённость и внутренняя приподнятость всегда ощущались на всех репетициях. Мы делали бесконечные этюды на тему пьесы, и когда подошли к сценам, нам было очень легко в них войти. Мы абсолютно верили в предлагаемые обстоятельства и раскладывая и складывая «кубики», мы устраивали из них то классы школы, то кладбище, то необитаемый остров. Нас не смущало, что это фанерные кубики, мы верили в обстоятельства места и действовали в нём.
Одарённость Зона не только как педагога, но и как режиссёра определились сразу, ибо талант режиссёра состоит, как уже упоминалось, ещё и в том, чтобы суметь увидеть в актёре то, о чём, может быть, он сам и не подозревает. И всё это делалось легко, неожиданно и радостно. Борис Вольфович очень любил, когда мы ему предлагали тот или иной вариант сцены. Мы его меньше стеснялись, чем Александра Александровича, так как считали Зона почти ровесником. А посему иногда веселились на репетициях вовсю вместе с режиссёром. Но Зон только так выглядел, он всегда умел дать нам понять, где границы нашего с ним контакта. Он от души смеялся над всеми нашими выдумками, а мы, видя это, ещё больше старались его удивить и иногда, не выдержав серьёзного тона, начинали сами заразительно смеяться. Одним словом, это был праздник творчества, и Борис Вольфович никогда его не портил своими замечаниями. Многие наши предложения вошли потом в спектакль.
Тогда же родилась двухминутная пауза в сцене кладбища, о которой Борис Вольфович Зон упоминал в своих лекциях в Театральном институте в Ленинграде. Том ходит среди могил, а Гек Финн с дохлой кошкой сидит на холмике и с помощью босых ног передаёт своё внутреннее состояние, переживая страх. То у него большой палец на ноге остаётся один, а другие пальцы сжимаются, и этот палец начинает вертеться в разные стороны в зависимости от того, откуда исходит звук. То он начинает трясти подошвами ног;
ему всё кажется, что за его спиной покойники. Он пугается каждого шороха и вздоха Тома. В самую мучительную минуту происходит шевеление пальцами на двух ногах… Конечно, при этом выражение лица на каждый переход игры ногами соответствует его переживаниям.
В студии на эту тему был сделан целый этюд. Для спектакля было отобрано самое выразительное, ребята в зале реагировали восторженно, и надо было очень умело переключить реакцию зрительного зала на следующую сцену. И Зон сумел это сделать. Это не был трюк ради трюка, была найдена форма выявления внутреннего состояния Гека. Я не помню, кто сказал, «что сопричастность зрительного зала к действию необходима в каждом театре, но в детском театре эта сопричастность особая и ощущаешь её по-особому – в открытых реакциях, в непосредственности, в горячих проявлениях чувств». Это абсолютно правильно. Я, будучи много лет в ТЮЗе, всегда ощущала эту сопричастность и созданный Зоном Гекльберри Финн жил долго в сознании современников, а не лучшее ли это доказательство значительности таланта режиссёра?
На наши репетиции иногда заглядывал Брянцев, но никогда не делал замечаний, очевидно, не хотел смущать молодого режиссёра. Мы только видели, как после репетиции, нежно обняв Бориса Вольфовича, он уводил его в другую комнату, что-то объясняя по дороге.
Первая работа Бориса Вольфовича со студийцами была настолько удачна, что Брянцев решил, что Зон должен срочно сделать из студийной постановки спектакль для ТЮЗа.
В ТЮЗе роли взрослых уже играли профессиональные актёры, а детей по-прежнему играли студийцы. Для многих из нас этот спектакль решил нашу судьбу – нас приняли в труппу театра.
Борис Вольфович в студии поставил ещё один спектакль «Кукла мастера Бракбари» (сочинение нашей же студийки Елены Дарской, музыку к спектаклю написала тоже очень талантливая ученица студии Александра Николаева). Этот спектакль они играли в доме «Друзей камерной музыки» и в клубах. В нём я не была занята, так как уже работала в театре.
В ТЮЗе мне посчастливилось играть очень интересные и разнообразные роли; я принимала участие почти во всех постановках Зона.
В ТЮЗе Зон рос быстро и успешно и в 28–30 лет был уже прекрасным педагогом и режиссёром. Огромное достоинство его как режиссёра заключалось в том, что он очень любил актёров. Он также радостно и легко работал в ТЮЗе, как и в студии, и актёры, занятые в его спектаклях, шли на репетицию как на праздник.
Его яркая индивидуальность сказывалась в неожиданном решении спектакля. Его фантазия покоряла не только зрителя, но и нас – актёров. Удивительные мизансцены, иногда очень острые, создавали увлекательные спектакли. «Похождения Тома Сойера», «Хижина дяди Тома», «Четыре миллиона авторов», «Дон-Кихот», «Винтовка», «Близнецы», «Продолжение следует», «Мы», «Клад», «Ундервуд» – были чудесными постановками того времени.
Тридцатые годы справедливо считаются временем расцвета театрального искусства. Борис Вольфович ушёл из ТЮЗа, организовав свой театр, а я была приглашена на работу в Москву. Но мы никогда духовно с ним не расставались и до последних дней его жизни вели переписку. В одном из писем он писал: «Скоро и тебе стукнет сорок лет сценической жизни! А я был твоим проводником туда. Удивительно всё это. Как будто вчера ты была Геком, и прошло едва ли столько лет. Часов, дней, быть может… Но лет? Чепуха какая-то… Спасибо за память, всегда тебя помню и никогда не переставал любить. Б. Зон».
Когда он приезжал в Москву один или с женой Ниной Александровной, просто так или по каким-либо неотложным делам, мы всё равно всегда встречались или у нас дома, или в другом месте, или просто прогуливались по Москве. И как бы мы ни веселились или горевали, – а в жизни бывало и то, и другое – он был всегда на большой высоте – как товарищ и настоящий друг. Хоть годы и сравняли нас в смысле возраста, но я всегда помнила, что он мой наставник и очень ценила его отношение к себе.
Когда-то в одном из писем ко мне он писал: «Слушая энтузиаста, ученики приобретают больше, чем из общения с любым эрудитом». А Борис Вольфович был энтузиастом своего дела, и его увлечённость и любовь к своему предмету помогли ему вырастить прекрасных актёров нескольких поколений.
Бруштейн
Берусь за перо с радостным волнением, так как загляну в свою юность и буду вспоминать человека, которого безмерно любила. Может быть, моя судьба сложилась бы иначе, менее интересно, если бы я не встретилась с Александрой Яковлевной Бруштейн. Она всегда в моей душе.
Познакомилась я с Александрой Яковлевной в Петроградском ТЮЗе, где шли её пьесы и где я работала как актриса, начиная с 1922 года и по 1934 год. Впервые я её увидела в 1924 году, когда Александр Александрович Брянцев начал репетировать пьесу «Гаврош» в её инсценировке по роману Гюго «Отверженные». Нам всем в театре Александра Яковлевна очень нравилась не только потому, что была вежлива и обходительна со всеми, но и потому, что широта её знаний, её образованность удивляли даже самых просвещённых и умнейших людей нашего театра, а в ту пору их в ТЮЗе было немало. Её обаяние как человека распространялось на всех.
С каким волнением мы, молодые актёры, ждали выступления Александры Яковлевны на наших «Четверrax», которые устраивал в то время заведующий литературной частью театра Самуил Яковлевич Маршак. Кто только не выступал на этих «Четвергах» – художники, писатели, музыканты, актёры, учёные! Частыми гостями были Корней Чуковский, Евгений Шварц, Даниил Хармс, Вениамин Каверин, Антон Шварц, Николай Акимов и, конечно, Александра Яковлевна Бруштейн. Я просто была влюблена в неё, да и не я одна. Когда она что-нибудь рассказывала, это был такой каскад остроумия, необычайных поворотов! Это был такой блеск, что мы готовы были её слушать без конца, а уж если она рассказывала что-нибудь смешное, мы, молодёжь, захлебывались от смеха и восторга и кричали ей: «Александра Яковлевна, расскажите ещё что-нибудь!» Даже когда она выступала где-нибудь на серьёзные темы, мы старались не пропустить её выступление.
Александра Яковлевна плохо слышала и носила аппарат. Из-за её глухоты мы, молодёжь, считали её гораздо старше, чем она была, и про себя говорили: «мировая женщина старуха Бруштейн», а «старухе» было всего 40 лет.
Её глухота нисколько не мешала ей радоваться жизни. Много лет спустя она мне говорила: «Знаешь, это даже иногда удобно, когда кто-нибудь долго и нудно выступает или просто говорит глупости – я выключаю аппарат и наслаждаюсь тем, что не общаюсь с дураком».
Она была доверчива, вернее, верила людям, прощала им их ошибки. Она напоминала Доктора в пьесе Шварца «Тень», который говорил, что «в каждом есть что-то живое» и что надо только «задеть за живое» и всё станет ясно и просто. Она никогда не желала никому зла, постоянно кого-то устраивала, за кого-то просила. Забота о других не мешала, а помогала ей жить. Она не только умела рассказывать сама, она, как никто, умела и выслушать человека, дать совет, если он нуждался в этом. Все, кто её окружали, были с ней откровенны «до донышка», как говорила она, – так она умела расположить к себе человека.
Она умела грустно улыбнуться над житейскими невзгодами, и именно ей принадлежат реплика и ремарка из «Хижины дяди Тома», которые потом вспоминались старыми тюзянами на протяжении долгих лет: «Как живёшь, Топси? – Хорошо, – сказала Топси (и заплакала).
За свою долгую жизнь я много встречала хороших и интересных людей, с удивительными биографиями, с превосходным складом ума. Но подобной женщины мне встретить больше не пришлось. Может быть, это объясняется моим преклонением и глубокой любовью к ней до последних дней её жизни. Каждая встреча с ней была для меня праздником жизни и утверждением своих сил. Она не только была для меня добрым советчиком во всех моих жизненных начинаниях и делах, моим университетом, но и одним из самых близких мне людей.
В период моей работы в Ленинградском ТЮЗе почти все её пьесы ставил режиссер Борис Вольфович Зон – «Продолжение следует», «Хижина дяди Тома», «Четыре миллиона авторов», «Так было», «Дон-Кихот». Работали они весело, радостно, от души смеялись. Александра Яковлевна вносила много предложений в режиссёрское решение пьесы, и Борис Вольфович почти никогда не сопротивлялся. Особенно удачной была их работа в спектакле «Так было», где я играла одну из любимых моих ролей, написанную ею для меня лично.
«Так было» – пьеса, повествующая о событиях далёкого для зрителей ТЮЗа 1905 года, была проникнута боевым революционным духом. Взрослые роли в спектакле играли актёры, чьи имена в недалёком будущем получили широкую известность и в Ленинграде, и за его пределами. Холёного, спокойного, равнодушного к судьбам неимущих, представительного, эффектного губернатора играл Николай Черкасов. Антуся – тупо послушного своим хозяевам, медлительного лакея играл Борис Чирков, мягко передававший белорусский акцент. Выгнанного за революционную деятельность из столичного университета и возглавлявшего революционные силы в маленьком белорусском городке студента играл Виталий Полицеймако. Играл он своего студента с добродушным пониманием человеческой психологии. Молодого рабочего Мотке играл Леонид Любашевский. Трогательно-смешного, нелепого Амдурского, зарабатывающего свой хлеб сбором подаяний на бедных, играл Михаил Шифман. Эффектную, статную польку, хозяйку мастерской пани Псешедскую играла Параскева Денисова. Хозяев мельницы, компаньонов Пундика и Талежкина играли Герман и Оранский.
Образам хозяев маленького городка и их лакеев противостояли образы революционеров и просто бедных, обездоленных людей.
Один из лучших образов в этом спектакле был создан автором и актрисой Мунт – образ бедной женщины, много повидавшей горя, ласково прозванной всеми Бабинькой. Она являлась воплощением мудрого спокойствия, здравости суждений, покоряющего внимания и тепла к людям.
Отлично выписанные драматургом детские образы в спектакле были поручены молодым актрисам. В мире детей как в маленьком зеркале отражался мир взрослых. Упитанный, неповоротливый, тупонаивный мальчик Женечка (Охитина), выплёвывающий на голубой бархатный костюмчик куски пищи, которую он не способен от переедания уже проглотить, и увенчанная огромным бантом кукольная Сонечка (Ваккерова) – дети компаньонов фирмы «Тележкин и Пундик» – родительское клеймо оставляет на них отчётливый след. Иное дело вечно голодная, забитая своей хозяйкой девчонка в услужении Франька (Уварова). Закутанный в одеяло хозяйский младенец не по её хлипким силам, она то и дело кладёт его куда-нибудь, забывая свою ношу, и с испугом возвращается за ней. Есть в ней детская потребность в ласке и мальчишеская оголтелость, сближающая её с мальчишками двора, которых играли Маркелова и Солянинова. Их вожак Абке – Пугачёва. Он продавец газет и к своей работе относится с горячностью, ему во всём присущей. Костюм мальчишки весьма живописен. Большущие штиблеты, короткие рваные брюки, на огненно-рыжих волосах не умещается убогая шапчонка. Он фантазёр и выдумщик, самозабвенно азартен. Задумав экспроприацию денег у богачей в пользу рабочих, он её осуществляет со всей ребячьей компанией. На ребятах – обычные бумажные маски с отверстием для носа и глаз, заканчивающиеся надрезами у подбородка вроде бороды, у Франьки отверстия не совпадают с глазами, что создает ряд комических эффектов, на её «дитяти» тоже налеплена газетная маска. Абке, также как его товарищи, убеждён в своей неузнаваемости и праве изымать деньги у хозяев в пользу их рабочих. А когда мероприятие проваливается, и вместо него по сходству цвета волос арестован его брат рабочий, Абке переживает глубоко и болезненно. Пьеса Бруштейн «Так было» вместе с пьесой Макарьева «Тимошкин рудник» – первые советские пьесы для детей, принёсшие театру такое обилие актёрских побед. Роль Абке была написана хорошо, но характер моего героя был сложный, и мне пришлось приложить немало труда, чтобы быть убедительной в раскрытии разных сторон образа. Недаром Зон перед выпуском спектакля писал, «что главное в его режиссёрской работе над этим спектаклем—это работа с исполнителями». (Рабочий театр. Л., 1929, № 2.) Я была занята во всех в то время идущих пьесах Александры Яковлевны в ЛенТЮЗе, но роль Абке была моей любимой ролью из её пьес. Некоторые забавные словечки, которые я придумала для моей роли, надолго запомнились маленьким ленинградцам – зрителям ЛенТЮЗа тех времён. Много лет спустя они приветствовали меня словом «экспропрация»—так мой герой Абке произносил слово «экспроприация». Эта же «экспропрация» надолго стала моим прозвищем у Александры Яковлевны.
Впоследствии, когда мы с Александрой Яковлевной крепко подружились, я спрашивала её: «Наверное, автору легче выписывать роли, если он заранее знает, кто будет играть?» «Конечно, – отвечала она, – ведь знаешь творческие возможности человека. Правда, вы, актёры, иногда выдаёте такие сюрпризы, надеешься на одно, а он повернёт совсем в другую сторону. Хорошо, если в нужную». Но, мне кажется, неожиданностей, кроме радостных, у неё в ЛенТЮЗе не было. Правда, наш юный зритель иногда своим поведением ставил актёра в тупик, но это редкие случаи, и, как правило, он (зритель) своей реакцией на то или иное событие корректировал роль в правильную сторону.
Александра Яковлевна почти всегда присутствовала на своих спектаклях и делала для себя выводы. «Зритель меня учит, что нужно и чего не надо делать, он умнее нас», – говорила она. На самом деле она вела зрителя по тому руслу, которое было выписано в её пьесах.
Она любила театр, любила актёров и, мне кажется, она в ту пору работала в ЛенТЮЗе с удовольствием и большим удовлетворением.
У неё характер был легкий – по крайней мере, ей удавалось в этом убедить даже близких людей. На деле за этой мнимой лёгкостью скрывалось ответственное, не щадящее себя отношение ко всем поворотам и сложностям судьбы.
Всё самое интересное в Ленинграде, да потом и в Москве, тянулось к ней. В её доме собирались писатели, журналисты, архитекторы, учёные, музыканты, актёры – её всё интересовало и все интересовали.
А скольким писателям она помогала своими советами, скольких людей она обогревала в их трудные минуты жизни, скольким помогала не только советами, но и материально. Сколько отослала посылок в разные концы нашей страны!
В своих книгах «Дорога уходит вдаль», «В рассветный час», «Весна», «Вечерние огни» она описала свою биографию, и по книгам можно судить, какая незаурядная это была женщина с самых ранних лет.
У неё была удивительная память – она знала наизусть «Евгения Онегина», «Горе от ума», массу стихов Пушкина, Лермонтова, Державина, Тютчева, Блока, Гумилёва, да всех не перечислишь, к случаю мгновенно цитировала того или иного писателя или изречения учёного, философа или просто остроумного человека. Спросишь, бывало, о поэте, она тут же вспоминала, что сказал Лев Толстой: «Есть поэты плохие, есть средние, есть хорошие, есть очень хорошие, есть отличные – а потом бездна, и по ту сторону бездны – Поэты». Или я вспомню, что Станиславский сказал: «Нет маленьких ролей – есть маленькие актёры». «А Шиллер сказал, – говорила она мне, – для хороших актёров нет плохих ролей».
Мне захотелось пойти в гости, где собирались интересные для меня люди, а мне забыли позвонить, чтобы я пришла, рассчитывая, что я буду обязательно. Александра Яковлевна тут же вспомнила Насреддина: «Если вы настолько неотесанны, что не пригласили меня, то я не настолько груб, чтобы не вспомнить о вас». «Бери коробку конфет или цветы и иди, если тебе интересно».
Когда я жаловалась ей, что кто-то меня обидел, она говорила: «Ну что ты огорчаешься, ведь Бог сделал людей из разного материала; одних из золота, других из серебра, а на некоторых материала не хватило, и он их сделал, сама понимаешь из чего. Они такие и есть, так что не огорчайся, они не стоят того».
Как-то я сказала: «Мать, мне некогда отвечать на письма, а жаль, есть очень интересные». Александра Яковлевна прочла их и проговорила: «Знаешь, я Володе Яхонтову отвечу сама, вместо тебя», – и у них началась переписка. Не знаю, сохранил ли Яхонтов её письма, но они явно были интересны, так как Владимир Николаевич Яхонтов в полном упоении говорил мне: «Какие у вас интересные мысли об искусстве, о жизни». Он цитировал из них целые куски, он говорил, что я его потрясла своей глубиной. Я прибегала после встречи с ним к Александре Яковлевне и спрашивала: «Что ты такое написала? Я чувствую себя полной дурой, прекрати в письмах умничать, я не смогу с тобой соревноваться».
Мы от души смеялись. Также она отвечала Коле Акимову вместо меня – это её забавляло, но Николаю Павловичу Акимову я в конце концов призналась, попросила вернуть мне её письма и с великим удовольствием прочла их.
Как горестно, что тех, кто её хорошо знали лично, почти не осталось. Обидно, что о ней не будут знать всего того, что её выделяло среди людей.
Вот выдержка из последнего её письма ко мне:
«Каплюшечка!
Ты написала мне не письмо, а конфетку – такое доброе, милое, ласковое… Спасибо тебе, дорогая, – ты даже не представляешь себе, как это мне сейчас кстати!
Настроение у меня, сама понимаешь, из рук вон, – я лежу с тяжёлым гипертоническим кризом, очень высокое давление и, хоть тресни, не снижается!
Дорогой мой Каплюшкин – всё, что ты написала о наших отношениях, ты словно прочитала в моей душе! Верно, деточка, верно, – мы, в самом деле, связаны так накрепко, навечно, что для наших отношений не страшны никакие долгие разлуки, никакие провалы в общении! Встречаемся после долгих разлук – и словно вчера расстались. Вероятно, это оттого, что заложены наши отношения давно, так прочно, в такое навсегда памятное и радостное время (Пятая Советская в Ленинграде – помнишь?), что этого нельзя забыть, даже потускнеть в памяти это не может! И ты для меня навсегда – та дочка моя Каплюша, которую я всегда помню и люблю. Горячо и нежно целую тебя, моя милая, дорогая.
Твоя Мама».
Шварц
Вспоминаю Женю Шварца. Как странно мне сейчас слышать, что он был мудрым. Слово «мудрый» к нему не шло. Был он весёлым, добрым, дурашливым, заводным на всякие шутки.
Познакомил нас Павел Вейсбрем. Вейсбрем как режиссёр помогал готовить программы брата Жени – Антона, известного чтеца.
Женя пришёл к нам в ТЮЗ на «Четверги» Маршака. И остался. Помню Женю и брата его Антона в компании Хармса, Заболоцкого, Акимова. Мы звали их «мальчиками», хотя они были старше нас. Тогда Акимов всячески вышучивал тюзовские порядки, называл ТЮЗ «Брянцевский монастырь». Шварцы, Хармс, Заболоцкий никогда над ТЮЗом не смеялись, наоборот, уважали Брянцева и его требования к актёрам, сотрудникам, да и к зрителям тоже.
Знала я первую жену Шварца, но, главным образом, знала вторую его жену Катю, в которую он был влюблён без памяти. Женя бывал у меня, вернее, у Александры Яковлевны Бруштейн, когда я была замужем за её сыном Мишей, дружил с Мишиной сестрой Надей, балериной (которая стала потом Надей Надеждиной, «Березкой»).
Когда я уехала от Бруштейнов, Женя бывал у меня на квартире нашей актрисы Параскевы Михайловны Денисовой. Мы вместе с ним сочиняли всякие дурацкие истории, рассказывали в лицах нашим знакомым и получали большое удовольствие от их реакции.
Однажды я позвонила Жене, зная его доброту, и спросила, нужны ли им с Катей красивые тарелки, которые мне достались в «наследство» от Бруштейнов. Тарелки мне были не нужны, а деньги понадобились срочно. Женя ответил: «Приноси, посмотрим». Когда мы с моей сестрой пришли к ним, они ахнули от красоты посуды. Катя заявила, что она всё берёт. Женя спросил: «Сколько ты за них хочешь?» Я ответила: «По рублю за тарелку». Женя стал смеяться и обзывать меня разными словами. Я тоже смеялась вместе с ним. Катя останавливала нас, говорила, что я даже не представляю, что это за тарелки. А я действительно не разбиралась в фарфоре.
Тогда Женя предложил устроить аукцион. Я поднимала тарелку, они кричали цену, а я должна была спрашивать: «Кто больше?» Женя каждый раз набавлял цену. Было шумно и весело. Я думала, что мы играемся, но когда я стала уходить, Женя с Катей выложили мне такую сумму денег, что я отказалась брать. «Вы что, с ума сошли?» – кричала я. А Катя и Женя кричали: «Это ты сошла с ума, мы знаем им цену, а ты нет. Бери, покау нас есть деньги. Это нам просто посчастливилось, что мы сразу можем расплатиться». Долго спорили. Я взяла ровно половину.
Потом Женя при встрече со мной всякий раз говорил: «Можно я тебе отдам ещё 20 копеек в счёт того?» И у нас с ним образовалась такая игра: почему 20? Вот 10 я возьму, а остальное – потом. Никто ничего не понимал, но в театре все знали, что мы торгуемся. Мы всерьёз разыгрывали эту сцену. Меня долго спрашивали: «Он что, брал в долг? Почему не отдаёт сразу? А чего ты отказываешься?» Я делала таинственное лицо, говоря: «У нас с ним свои счёты». – «А, так ты ему тему подсказала!» – «Нужны ему мои темы, у него самого их до черта».
Я очень любила Женю, но часто дразнила его братом Антоном: «Вот это фигура, вот это талант, какая внешность, какой голос! А что ты, Женя? Средненький, кургузенький, и как только Катя, такая красавица, влюбилась в тебя. Я бы ни за что!» Тогда Женя начинал играть. Он хватался за голову, рыдал, рвал на себе одежды. Я успокаивала его, что он будет ещё красивее Антона и будет любим всеми женщинами. Кончалась эта игра тем, что мы оба кидались друг другу на шею и все вокруг говорили: «Вот дурачьё, и когда всё это кончится!»
Зато наши дурачества очень любили самые маленькие зрители ТЮЗа (конечно, с ними речь шла не об Антоне!). Женя обожал играть с детьми, и мы вместе с ним часто организовывали игры с младшими группами зрителей в антрактах. Какие только парики он ни надевал, каким только зверем он ни рычал, ни блеял, ни мяукал. Только что бабочкой не летал.
Женя с Катей помогали многим нашим общим знакомым. У меня был приятель, ещё по Павловску, Саша Стивенсон – белокурый, хрупкий юноша. Вообще-то он был Стивенсон, и в детстве говорил по-английски лучше, чем по-русски. Родители его дружили с Шуленбургами. Шуленбурги с детьми уехали за границу, а Стивенсоны погибли, и Саша пошёл работать молотобойцем на какую-то фабрику. Как он молот поднимал, я не знаю. В ТЮЗе он бывал каждый вечер, помогал рабочим сцены, иногда даже ночевал, по секрету от Брянцева. Был он вечно голодным. Женя с Катей его подкармливали. Женя написал:
- Ходит Саша Стивенсон
- Без носок и без кальсон.
- Если снять с него штаны,
- Будут все удивлены.
К зиме Шварцы купили ему пальто, а я – ботинки.
Бывали, конечно, и серьёзные разговоры. В ТЮЗе увлекались системами. У Брянцева была своя система, у Макарьева—своя, у Зона—своя. Мальчики – Шварц, Хармс, Акимов – принимали в этих спорах горячее участие. Одно время Шварц носился с идеей, что в детском театре сказка – это «театр амплуа». Хармс и Акимов называли его архаистом, консерватором. Меня, скажу честно, это меньше интересовало. Много лет спустя Сережа Мартинсон рассказывал мне, как он принимал участие в этюдах Станиславского. Тема этюда была– «крах банка». Кто-то из студийцев метался, кто-то стоял как статуя. Мартинсон сел в креслокачалку и начал размахивать тросточкой. Станиславский спрашивает у него: «Вы почему не участвуете?» Сережа отвечает: «У меня деньги в другом банке». Станиславский вздохнул и говорит: «Мартинсону моя система ни к чему».
Женя впервые пригласил меня выступать на радио, они вместе с Олейниковым вели передачу «Детский час». Там я встретилась с Чуковским. Тогда ещё были возможны шутки в прямом эфире (да другого эфира и не было). Олейников спрашивал: «Корней Иванович, что такое та-та-та-та-та-бум, та-та-та-та-та-бум?» Чуковский тут же отвечал: «Сороконожка с деревянной ногой». Потом Шварц спрашивал: «Корней Иванович, что нужно сделать, чтобы верблюд не пролез в игольное ушко?» Чуковский отвечал: «Завязать ему узелок на хвосте».
Однажды, когда меня провожали на юг, братья Шварцы написали мне стихи. Антон написал:
- Безденежье меня терзает как проказа.
- Увы, не для меня приволье гор Кавказа,
- Анапы знойный пляж и солнце Туапсе…
И ещё что-то. Длинное стихотворение. А Женя написал:
- Приедет Капа,
- Черней арапа,
- Кругла, как мячик,
- Кругла, как шар.
- И все в конфузе
- Воскликнут в ТЮЗе:
- «Где милый мальчик?
- Какой удар!»
Я играла только в одной пьесе Жени – в «Ундервуде». Играла героиню пьесы – пионерку Марусю, но мне все роли нравились больше, чем моя. Играли в этом спектакле прекрасно Любашевский, Полицеймако, Чирков, Уварова. «Ундервуд» был написан Женей на пари к сроку. Пари было заключено уже не помню с кем, но точно, что в тот день, когда мы компанией зашли навестить больную Уварову. Уварова потом играла в «Ундервуде» злую Варварку, и у неё была замечательная реплика (когда она щипала пионерку Марусю): «Синяк – вещь неопасная, посинеет, пожелтеет, и нет его».
Потом, если у Жени бывали неприятности с цензурой или критикой, мы ему всегда говорили: «Ничего, синяк – вещь неопасная».
После премьеры «Ундервуда» на квартире у Шварцев был устроен карнавал, куда Коля Акимов пришёл во фраке, в цилиндре и с моноклем. Во время танца он снимал фрак, бросал к ногам своей дамы и оказывался в пальмерстоновской манишке, завязанной тесёмочками на голой спине…
Черкасов
Николай Константинович Черкасов пришёл к нам в Театр юного зрителя совсем молодым человеком, юношей, он только что окончил Институт сценических искусств (ИСИ), который, кстати, находился напротив нашего театра. Он выделялся среди вновь пришедшей к нам молодёжи своей необыкновенной внешностью. Высокий, с длинными руками и очень длинными ногами, худой, худющий – похожий на жердь. Мы тогда его дразнили, что у него нет, мол, туловища, а одни только ноги и шея, на которой держится маленькая головка, но соображающая по большому счёту. Колю сразу полюбили в труппе за его общительный и жизнерадостный характер. При встрече обычно задавали ему вопрос: «Ну, какая погода у вас наверху?»
В пьесе «Догоним Солнце» Шмелёва Коля впервые пробовал себя в ТЮЗе. Он играл «Старый Пень, заросший мхом», вокруг которого бегали действующие персонажи – то болотные огни, то разные букашки то старый лесовик, то журавль. Я играла роль Журлика – героя пьесы, который заболел и не мог лететь в тёплые края вместе со своей стаей.
Наступает осень, и Журлик одиноко бродит по лесу, удивляясь новым краскам и изменениям в природе. Он подходит к пню и начинает клювом его долбить, выискивая для себя еду. Черкасов, изображающий пень, начинал ворчать: «Дайте спать, дайте отдохнуть». Я не знаю, как Коля складывался и залезал в коробку, изображающую пень; высовывались только его длинные руки в прорезях коробки, изображающие корни дерева. Над коробкой торчала голова – закрытая мхом. Я клевала его в самую макушку, и он ещё куда-то убирал голову. Внешний вид Журлика – русская рубашка, клюв на голове, крылья на руках.
Коля это играл с удовольствием. Позже Черкасов писал: «ТЮЗ пленил нас тем, что это был театр не только юного зрителя, но и юного актёра… Я в своё время мечтал сыграть неодушевлённый предмет; мне посчастливилось – я получил роль Дерева, это была моя первая профессиональная работа – в сказке «Догоним Солнце». Я сыграл старый пень, которому мешали букашки, лесные твари. Я твердил: «Дайте спать, дайте отдохнуть…»
Иногда, когда я подходила к пню, я видела его умоляющий глаз, будто бы он просил, чтобы я не очень больно тыкала клювом по голове, и мне всегда было жалко его, я старалась еле дотрагиваться. Однажды, когда я подошла к Пню-Коле, я задёргалась на одной ноге (обычно я сразу же прижимала одну ногу к коленке). Я пошатнулась, и Коля совершенно неожиданно для себя обвил своими руками, изображающими корни, мою ногу. Я чуть не упала и, взмахнув крыльями-руками, вторую ногу поставила нечаянно ему на голову. В сидячем положении он был намного ниже меня – он сразу же убрал свои руки и громко сказал: «Держись крепче на ногах». И продолжал своё ворчанье: «Дайте спать, дайте отдохнуть».
В антракте я его спросила: «Коля, что это было?» – «Сам не знаю, мне показалось, что ты на одной ноге не удержишься и сейчас упадёшь на меня, представляешь, что бы это было?» – «Хорошо, я больше к тебе близко подходить не буду, но я боюсь, что клюв мой не достанет твоей макушки, и тогда не взыщи, я буду клевать тебя в плечо и шею».
На следующем спектакле я увидела такое выражение глаз, что мне стало смешно. Не выбиваясь из образа роли, я подошла и погладила пень своим крылом-рукой и успокоила Колю. С тех пор мы играли без инцидентов.
Подружились мы с Черкасовым, когда играли спектакль «Конёк-Горбунок» Ершова. Колю взяли на роль «передние ноги лошади». Репетировал он свой ввод с удовольствием, выделывая ногами бог знает что. На спектакле он так высоко поднял свою ногу с копытом, пугая подошедшего полюбоваться конями царя (которого великолепно играл актёр Преображенский), что царь испугался на самом деле. Мы, изображающие народ, искренне захохотали, на что последовала неожиданная реакция Стольника, которого играл Зон. Получилась самостоятельная добавочная сценка, за что Брянцев даже похвалил. В следующий раз Коля, одобренный похвалой Александра Александровича, решил нас всех удивить ещё больше. После того как лошади прореагировали на подход царя, он так перекрутил ноги, что мы уже смеялись не по существу пьесы. Брянцев нас всех вызвал и прочёл лекцию по поводу нашего поведения на сцене, а Черкасову сказал, чтобы он этот трюк приберёг для выступления на эстраде.
В этом спектакле я играла, попеременно изображая то девочку в народе, то звёздочку при месяце или же играла самого Конька-Горбунка, дублируя Вере Алексеевне Зандберг. Как-то в антракте я заговорилась с Колей Черкасовым, забыла переодеться в другой костюм и неожиданно для себя услышала третий звонок, вызывавший актёров на сцену. Мы побежали наверх, готовясь к выходу на сцену. На реплику: «А котлы уже кипят, ишь подряд все три стоят», мы, актёры, изображающие народ, стремительно бежали на сцену и ложились радиусом на полу, смотреть, как кипят котлы. Не успела я лечь на своё место, как услышала реплику ребят из зрительного зала: «Ишь звезда с небаупала». Тот ужас, который охватил меня, трудно передать. Я стала потихоньку ползти к выходу за кулисы, но уйти мне до темноты не удалось.
К Александру Александровичу Брянцеву мы пошли с Черкасовым вместе. Коля ни за что не хотел, чтобы мне попало одной. Войдя в кабинет, мы упали на колени, я произнесла слова из пьесы «Конёк-Горбунок»: «Не вели меня казнить, прикажи мне говорить!» Но Александр Александрович был неумолим и строго меня наказал – я в течение трёх месяцев не играла роль Конька-Горбунка. Что только не делал Черкасов, чтобы меня утешить. Вот тут-то я и поняла, какой редкостный товарищ был Коля. Наша дружба, начавшаяся с «Конька-Горбунка», осталась до конца его дней. Узнав о моем поступке, все актёры были возмущены. Брянцев воспитывал в актёрах серьёзное отношение даже к самым маленьким эпизодическим ролям, да просто к любому выступлению без единого слова. Коля ходил за мной тенью, он боялся, что меня кто-нибудь может обидеть.
Но мой случай вскоре забылся, так как случилось в театре ЧП. Наш уважаемый актёр Владимир Степанович Чернявский вдруг решил уйти из театра и подал заявление в странном, обескураживающем стиле. В нём говорилось, что он «больше не может играть Ёлки-Палки». Театр взорвался от возмущения, актёр был освобождён незамедлительно. В то время Чернявский действительно играл Ёлку в спектакле «Гуси-лебеди». Он был высокого роста и, растопырив руки и ноги, стоял посредине сцены. Он был облачён в материю, изображающую ёлку, вокруг его бегали действующие лица. В прошлом это был известный актёр, сыгравший много прекрасных ролей и имевший успех. Он был героем-любовником, как тогда определяли амплуа. Каковы были мотивы его прихода в ТЮЗ, мне неизвестно, но, конечно, он не был органичен в нём. Уйдя из ТЮЗа, он стал профессиональным чтецом. Но тогда его дерзкое заявление произвело на всех огромное впечатление. Николай Черкасов, возмущённый поступком Чернявского, пришёл к Брянцеву и предложил, что сам сыграет эту Ёлку. Я не помню, по каким причинам играл не он, а другой актёр, но Брянцев оценил Колин поступок. Авторитет Брянцева был очень высок, но конечно, многие актёры не понимали тогда тех художественно-педагогических, воспитательных задач, о которых мечтал Брянцев. Много лет спустя мы с Александром Александровичем и Колей, вспоминая этот случай, смеялись от души.
В спектакле «Принц и нищий» Коля играл одного из стражников, охранявших вход во дворец. Они были одеты в латы с тяжёлыми шлемами на голове с опущенным забралом. В течение всего акта они стояли не шелохнувшись, не произносили ни одного слова. Только когда, играя роль Тома Кенти, я подходила к Черкасову и, разглядывая стражника, трогала его, Коля должен был ударить меня своей закованной в латы рукой. Я пугалась и от страха падала на землю. Но стражники по-прежнему стояли на месте. Тогда я начинала корчить рожи, ходила кверху ногами, выделывала всякие акробатические трюки (в ту пору в ТЮЗе увлекались акробатикой и лихо всё это умели делать), заглядывала им в лицо, ища прорези в забралах, в общем, смешила как могла. А мои стражники стояли не шелохнувшись. Только однажды они не выдержали. Стали смеяться от моих проделок и трясти плечами. Я радовалась, что достигла цели, а им, беднягам, попало. Чувствуя себя виноватой, я пошла к Александру Александровичу, но Брянцев сказал, что я играла правильно, стараясь их рассмешить, а они не должны были этому поддаваться. Первое время после этого случая мне казалось, что я эту сцену играю с меньшим азартом, боясь повторить случившееся. Потом всё забылось, и вновь я делала всё, чтобы их рассмешить, но они выдержали экзамен.
Я очень любила эту роль и играла с большим увлечением. Наши актёры приходили специально посмотреть на меня из-за кулис в некоторых сценах, чаще других был Миша Хряков. И Коля в антрактах кричал за кулисами: «Опять Хряков смешил меня, я еле-еле выдержал». Первое время Миша всерьёз оправдывался, что он смотрел, что делает Пугачёва а на Колю и не взглянул. Но потом понял, что отпираться нелепо, и говорил ему: «Сегодня, Коля, ты был необыкновенен – стал как чурбан, ну вылитый чурбан». И они оба радовались своим шуткам как дети. Разговор их продолжался до конца антракта на радость присутствующим. Однажды в этой сцене я потрогала не руку Коли, как полагалось, а ногу, и Черкасов мгновенно среагировал: он поднял ногу с такой быстротой и ловкостью, что его коленка достигла почти его носа. Я же, не упустив случая, пролезла в образовавшуюся дыру, чтобы пройти в ворота дворца, но Коля мгновенно опустил ногу и, другой ногой обвив моё тело, с такой быстротой вышвырнул меня на авансцену, что я с криком повалилась на пол. Я погрозила ему кулаком, что было абсолютно в поведении моего персонажа, а он, испугавшись, что я ушиблась, неожиданно для себя произнёс: «Прости, Капелька, я больше не буду», нарушив тем самым загадочность и молчание стражников.
Всё это было проделано так ловко, что зритель пришёл в неописуемый восторг. «Что у вас происходит с Черкасовым?» – спросил в антракте Брянцев. Я ответила, что мне очень интересно играть с ним, так как я никогда не знаю, как он будет реагировать на мой подход к нему. «А как было установлено?» – спросил Брянцев. «А разве нельзя изменить установленную мизансцену?» – в свой черёд спросила я. «Нет, нельзя», – ответил Александр Александрович. Нас с Колей вызвали на репетицию, и строго определили, что мы должны делать в этой сцене. «А то играете друг с другом как дети. Вы же взрослые актёры и должны в спектакле точно исполнять предложенное вам решение мизансцены. Все ваши выдумки надо было предлагать на репетиции, а в спектакле уже играются вещи, отобранные совместно с режиссёром».
За кулисами мы с Колей обсуждали этот случай: «А скучно так, гораздо интересней, когда не знаешь, что тебя ждёт и как ты будешь реагировать».
В глубине души каждый из нас знал, что Брянцев был прав, так как иначе можно доиграться бог знает до чего.
Зато в спектакле «Похититель огня» Горлова Коля отводил душу. Он изображал одну из обезьян, которые были, по существу, униформистами сцены. Они же – слуги просцениума – во время действия переставляли декорацию, и делали это с таким видом и с таким отношением к предмету, как будто обезьяна очень в этом заинтересована. А как он прыгал с одного конца сцены на другой – это был не прыжок, а необыкновенный полёт, мы все с замиранием сердца ждали, достигнет он цели или нет.
Спектакль начинался музыкальным прологом – пляской обезьян, акробатической и острой пантомимой. Обезьяны, меняя место действия, создавали перед зрителем то пещеру тунгуинов, то бездны в горах, то узкие таинственные тропинки или кратер, откуда добывали огонь. Это был спектакль-легенда героического, романтического плана. Юноша Райго – сын первобытного племени (Кисиц) со стариком Шуху (Горлов) и подростком Ноту (Арене) преодолевают всевозможные опасные препятствия, почти смертельные, чтобы добыть огонь для своего племени и сделать жизнь первобытных людей более счастливой, более человечной. Этот спектакль играли с увлечением и большой отдачей все, даже не имеющие ни единого слова, в том числе и Черкасов.
Я же любила смотреть на Черкасова-обезьяну, когда он садился и начинал спокойно себя почесывать и выискивать блох. Делал он это на полном серьёзе. Вдруг обезьяна упускала блоху, он начинал вертеться вокруг себя, пищал, фыркал, возмущаясь, и, наконец, остановив свой взгляд на ком-нибудь из нас (изображавших первобытных людей), шёл к нему жаловаться на блоху. Я всегда ждала, кого же Черкасов выберет себе в партнёры, но длилось это недолго.
Однажды актёр Кисиц, игравший героя, прекратил это веселье не по существу спектакля, доказывая Коле, что тот мешает ему своими «обезьяньими» фокусами. Но там, где можно было, не мешая действующим лицам, обезьяны с увлечением прыгали, передвигая кубы, из которых состояла декорация, кувыркались, фыркали, пищали на разные голоса, переговариваясь друг с другом. Делали они это весело, непринуждённо. Вот тут им разрешалось фантазировать как угодно, лишь бы вовремя переставить декорацию. Шла своеобразная пантомима, и эти роли считались отличными – их исполняли актёры, которые прекрасно владели своим телом.
Это всё были первые, почти бессловесные роли Черкасова. Потом мы вместе работали во многих спектаклях: в «Томе Сойере» Коля играл Шерифа, я играла Гека Финна; в «Проделках Скапена» Коля играл Сильвестра, я играла Зербинетту; в «Тимошкином руднике» Коля играл Американца, я играла Тимошку; в «Дон-Кихоте» он – Дон-Кихот, я – Хенесилья.
Помимо театра мы с Черкасовым работали в живой газете «Комсоглаз». Этот коллектив сложился внутри театра. Организаторами были актёры среднего поколения, режиссировал Зон. Работали увлечённо и охотно, репертуар затрагивал все вопросы, касающиеся комсомола, – быт, учеба, общественная жизнь, учения, шефства, злободневность политических вопросов и так далее. Главными выдумщиками программы были Масельский, Андрианов, Ткачёв, Дилин, Черкасов. Остальные с тем же азартом и убеждённостью доказывали правильность или неправильность их выдумок. Какая-то особая серьёзность и вера в нужность этого дела объединяла всех участников «Комсоглаза». Мне казалось, что многие из нас повзрослели, занимаясь, как мы думали тогда, ответственным политическим делом.
Потом для этого ансамбля наш актёр Любашевский, выступивший под псевдонимом Жуленго, написал оперетту «В трёх соснах», где использовал исполнительские данные Черкасова. Он играл композитора-неудачника Звонарёва, по внешнему облику необычайно похожего на киноактёра Пата. Попадая в смешные, хотя и малоправдоподобные положения, Звонарёв (композитор) оказывался вынужденным выдавать себя за Пата, петь и танцевать.
Коля играл эту роль блестяще, отталкиваясь от эстрадного номера «Пат, Паташон и Чарли Чаплин», исполнителями которого были Черкасов, Чирков и Берёзов. В оперетте были заняты Полицеймако, Денисова, Масельский, Охитина, Пугачёва, Арене, Черкасова, Васильев.
Прошло много лет, и я получила от Черкасова поздравление в день моего сорокалетия на сцене, где он писал:
- «Мой милый друг!
- Передние ноги лошади в «Коньке»,
- Обезьяна в «Похитителе»,
- Шериф в «Томе…»,
- Пат в «Трёх…»,
- Кихот с кочергой в руке.
- Стражник в «Принце…»,
- Старый пень в «Догоним…
Всегда были влюблены в милого задорного Тимошку за его большой талант, товарищеские и человеческие качества. А так как старая любовь не ржавеет, то исполнитель всех перечисленных труднейших ролей и по сей день любит старого друга. Поздравляю тебя, желаю здоровья и счастья.
Твой Н. Черкасов. Ленинград 13/Х.63 г.»
Вот мне и вспомнились первые роли Черкасова в ТЮЗе. А о других его ролях много написано и сказано.
Чирков
Помню, как после утренних занятий по хоровому пению, на которых всегда присутствовала вся труппа Ленинградского ТЮЗа, наш художественный руководитель Брянцев привел молоденького юношу провинциального вида и сказал: «Познакомьтесь, друзья, это наш новый артист Борис Петрович Чирков».
Юноша, неуклюже пожав плечами, смущённо улыбнулся и сказал: «Здрасьте», – а Александр Александрович, подтолкнув его вперёд, продолжал: «Прошу любить и жаловать. Вот, Борис Петрович, ваши новые друзья по искусству. Некоторые из них, как видите, моложе вас и не кончали театрального института, а лишь закончили детскую студию, так что можете их кой-чему поучить».
Борис Петрович совсем смутился, смешно выдвинул вперёд губы, его лицо выразило такую растерянность и удивление, что все разом рассмеялись. «Ну, вот и познакомились, – сказал Леонид Фёдорович Макарьев, наш старший актёр, драматург и режиссер, – вам будет у нас тепло и интересно, взаимоотношения у артистов друг с другом прекрасные, никто никого не кушает».
Внешность у Чиркова была совсем не актёрская – простой, обаятельный парень, и мы сразу стали прикидывать, кого бы он мог играть…
Через несколько дней Брянцев вызвал меня и Чиркова к себе в кабинет и объявил, что нам поручают роли Конька-Горбунка и Ивана-дурака в сказке Ершова, роли, которые в спектакле играли Вера Зандберг и Иван Развеев, и играли с большим успехом.
У Чиркова это была первая роль в профессиональном театре, у меня – соревнование с Зандберг. Волнение нас объединило. С нами репетировал сам Александр Александрович, и мы готовы были работать с утра до ночи. Такая одержимость радовала Брянцева, но он не допустил нас к спектаклю, пока мы точно не знали, что делаем и для чего существуем в каждой сцене.
Ауж как мы плясали с Борисом, и целовали, и гладили друг друга после нашей премьеры, приговаривая: «Ай да молодцы, ай да молодцы!..» Как были счастливы! Мы не могли уйти из театра и долго сидели после всех поздравлений, а главное, после похвалы самого Александра Александровича. Пришли поздравить нас и Зандберг, и Развеев и объявили, что мы достойная им смена. И действительно, этот спектакль вскоре мы стали играть одни, так как Развеев ушёл из театра, а Зандберг была заметно старше Чиркова.
В ТЮЗах зритель особый, чего только не бывало! Помню один смешной случай. Была такая мизансцена, когда по ходу действия мы с Чирковым бегали среди зрителей. И однажды один из ребят подошёл ко мне поднёс фигу к морде Конька, которая была надета у меня на голове, и спросил Чиркова: «Интересно, видит она фигу или нет?» «Кто – она?» – спросил Борис. «Пугачёва», – ответил мальчишка. «А где ты видел Пугачёву? Это же Конёк и может тебя укусить», – сказал Чирков. «Ну да!» – испугался мальчишка и сел на своё место. Мы потом долго смеялись над тем, как убедителен и серьёзен был Чирков.
Вскоре мы с Борисом вновь встретились как партнёры в спектакле «Принц и Нищий», где я играла Тома Кенти, а Чирков – Шута. Он раскрылся в этой работе новыми гранями своего таланта. Перед зрителем был не только весёлый, озорной, хитрый и умный Шут, ловкий во всех своих проделках. Он обладал таким разнообразием интонаций, что мне было интересно следить – что он ещё выдумает и какую штуку выкинет.
На наши спектакли часто приходили не только дети, но и взрослые; однажды пришли артисты цирка (некоторые из них занимались с нами акробатикой). Потом за кулисами, поздравляя нас с большим успехом, они особенно восхищались Чирковым, его умелыми акробатическими трюками.
Борис Петрович сыграл в ТЮЗе много ролей. Лучшие из них: Тиль Уленшпигель, Семён в «Плодах просвещения» Толстого, Антось в пьесе «Так было» Бруштейн, Санчо Панса в «Дон-Кихоте» (инсценировка Бруштейн и Зона), Иван-дурак в «Коньке-Горбунке» Ершова.
Образ Тиля навсегда остался в моей памяти. Молодость, смелость, ум, обаяние, естественность, простота и народность – всё это было в его Тиле, а пластика изумляла даже самых гимнастически тренированных актёров: его прыжки казались полётами… Мне кажется, он и сам очень любил эту роль, играл почти самозабвенно. В его улыбке, светящихся глазах было столько веселья, доброты… Чистосердечный, открытый Тиль был полон любви к человеку. Мне кажется, что эта работа во многом помогла Чиркову впоследствии сыграть роль Максима в знаменитой кинотрилогии Козинцева и Трауберга.
И совсем другим был Чирков в образе Антося из пьесы «Так было». Тупой слуга, малоподвижный, с остановившимся взором, смешно выговаривавший слова, с неизменно открытым от удивления ртом.
Чирков всегда очень серьёзно относился к своей работе. В жизни был хорошим товарищем, любил шутки, прекрасно пел под гитару, собирал старинные народные песни. Однажды мы сделали с ним шуточный номер на одну из этих песен. Он пользовался у актёров большим успехом. Пели и изображали: он – охотника, увидевшего спящую Венеру, а я эту самую Венеру. Номер был смешной, исполняли мы его с большим энтузиазмом. Вот эта песня:
- В островах охотник
- Целый день гуляет —
- Ему неудача,
- Сам себя ругает:
- «Как же мне быть?
- Чем же мне служить?., служить?.
- Нельзя быть весёлому,
- Что зверь не бежит!..».
- Поехал охотник
- На тёплые воды
- Где птицы летают
- При ясной погоде.
- На бережку
- Он прилёг вздохнуть, вздремнуть
- Охота сорвалася,
- Гончих слышно чуть!..
- Охотник не медлил,
- На коня садился.
- Зверю любопытно,
- Как конь за ним стремился!
- Он поскакал
- В лес по тропе, тропе, тропе,
- Где спала красавица
- На мягкой траве…
- Щёчки её алы —
- Прикрыты руками.
- Груди её белы —
- Дарены судьбами!
- Он задрожал,
- Задрожал – с коня упал.
- «Венера, Венерочка!» —
- Тихонько сказал…
- Венера проснулась,
- Охотника видит:
- «Молодой охотник,
- Чем хотишь обидеть?..
- Ах ты, злодей!
- Я в твоих руках-ногах!..»
- Лежала красавица,
- Ах, ах, ах, ах, ах!..
Чирков не жалел времени для того, чтобы доставить радость своим друзьям. Однажды он и ещё несколько артистов нашего театра – Дилин, Шифман, Черкасов, Герман – «организовали» мой день рождения; привлекли они к этому делу Акимова и Женю Шварца.
Днём я пришла в театр и по лицам окружавших меня актёров поняла, что они что-то затеяли: уж больно таинственно переглядывались, поздравляя меня. И действительно, когда я вошла к себе в гримёрную, то не узнала её – моя гримёрная была завешана портретами Емельяна Пугачёва. А над зеркалом висел большой эскиз памятника «Праправнучке Пугачёва», который сделал Акимов. На гримировальном столе лежала гора книг по истории Пугачёвского бунта, цветы, стихи, подарки… Но самой удивительной была бумага, подписанная нашим директором Дальским, – то было «Обращение в Академию наук по поводу юбилея праправнучки Емельяна Пугачёва». Самый большой восторг вызвало то, что директор подписал это «Обращение» не читая. И сделали это Чирков с Шифманом: один заговаривал Дальского, другой с невинным видом подсовывал ему бумагу на подпись. После спектакля меня зашли поздравить Брянцев и Макарьев; они от души смеялись проделке с «Обращением». Вечером все веселились у меня дома, и я вспоминаю, каким уютным человеком был Борис Чирков в домашней обстановке, сколько в нём было очаровательной непосредственности! Он и пел, и читал стихи, и танцевал – и всё это делалось с охотой, с удовольствием.
Мы с Борисом играли и вне ТЮЗа—в живой газете «Комсоглаз», и в театре «Новая оперетта» в спектакле «В трёх соснах» Жуленго. То была оперетта, которую написал для нас наш же актёр Любашевский, а Жуленго – это один из его псевдонимов. Чирков играл Костьку и в конце спектакля вместе с Черкасовым танцевал кусочек из их знаменитого в то время танца «Пат, Паташон и Чарли Чаплин».
Когда наши актёрские судьбы разошлись, мы редко встречались с Борисом Петровичем, но если виделись, то всегда вспоминали наши первые роли, наших чудесных учителей. Недаром Борис в своей книге написал: «После окончания театрального института я работал в Ленинградском театре юного зрителя. В удивительном театре, в самом лучшем и дорогом из всех, где только мне довелось трудиться».
МОСКВА ДО И ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Охлопков
Впервые я услышала об Охлопкове, когда работала в Ленинградском театре юных зрителей, в начале тридцатых годов. Как-то сразу заговорили о Николае Павловиче как о большом художнике – интересном режиссёре и прекрасном актёре. И когда Театр Красной Пресни – бывший Реалистический, где художественным руководителем был Охлопков, приехал на гастроли, все устремились на его спектакли. Мне удалось посмотреть тогда только «Разбег» Ставского. Выдумка режиссёра и художника, игра актёров – всё это увлекало и волновало зрителей. Какая гамма цветов, какая красочность в декорациях и костюмах! На фоне праздника жизни, праздника природы разыгрывались человеческие страсти. Я до сих пор помню огромные подсолнухи, фруктовые деревья, тесовые ворота посередине сцены, по бокам мостики, на которых действовали актёры… Гастроли прошли с огромным успехом, и Николай Павлович получил полное признание ленинградцев.
Во время этих гастролей Охлопков узнал о моём существовании, и первое письмо с приглашением в Театр Красной Пресни я получила от него в середине 1932 года. Художественный руководитель ТЮЗа Брянцев меня не отпустил. Только тогда, когда Николай Павлович написал ему, что ставит пьесу Бертольта Брехта «Жанна д'Арк чикагских скотобоен» (в инсценировке Сергея Третьякова она называлась «Святая дура»), в которой предлагал мне главную роль, Александр Александрович сменил гнев на милость, оговорив при этом, что я буду играть только в новых постановках театра и не участвовать в уже идущих спектаклях. Николай Павлович согласился, и я распрощалась с ТЮЗом.
Я знала Охлопкова только по письмам, и встреча с ним произвела на меня большое впечатление. Николай Павлович поразил меня своим артистизмом. Как вдохновенно он рассказывал о будущей постановке, как интересно говорил о людях, какая галерея типов, характеров проходила передо мной, какая нежность и забота об актёрах, вплоть до сентиментальности, и вместе с тем какая ярость, гнев и упорство в достижении своей цели. Это был настоящий талант.
Помещение театра, в котором работал Охлопков, было очень скромное – сцена маленькая, без глубины и боковых карманов, зал крохотный и мрачный, гримировальные уборные неудобные и тесные; только зрительский вход и небольшое фойе для публики были более или менее приличными. А какие чудеса творил Николай Павлович в этом здании!
Представил он меня труппе вместе с Верико Анджапаридзе (великолепной грузинской актрисой), которая только что поступила к нему в театр. Приняли нас, как мне показалось, холодно, и только в процессе работы отношения стали налаживаться. Репетиции начались сразу же. Будучи прекрасным актёром, Охлопков очень выразительно показывал, что бы он хотел от того или иного исполнителя в данной сцене. В то время «показ» был основным методом его работы. У него интуитивно получалось то, что он не мог объяснить словами. Николай Павлович требовал от актёра только своё решение, а показывал всегда результативные вещи. Но как подойти к этому решению? Он искренне удивлялся, когда актёр не понимал: «Не знаю, какими путями вы должны прийти к тому, что я вам показал, меня это не интересует; меня интересует, чтобы вы в результате сделали то, что мне нужно». Я записала его слова: «Я не люблю кухни». Через много лет он будет репетировать совсем иначе. Уже в 1943 году, под влиянием своей супруги Елены Ивановны Зотовой, он начнёт тщательно изучать систему Станиславского и станет работать по другим правилам.
Во время репетиций «Святой дуры» он каким-то шестым чувством доходил до потрясающего раскрытия того или иного эпизода. Я иногда изумлялась рождению точного и острого рисунка мизансцены, который, собственно, и определял существо данного куска пьесы. Я увидела на репетициях чудеса, когда он изображал разных людей – мужчин и женщин. Он убеждал с такой страстностью, что не верить ему было невозможно.
Иногда ему приходили в голову такие вещи, которые вначале воспринимались как абсурд, а на поверку оказывалось – он прав, ибо решал спектакль в целом и образ будущей постановки хорошо видел и чувствовал.
До сих пор звучит у меня в голове песня из «Святой дуры», которую исполнял Охлопков, показывая, как надо её петь:
- Даруй богатство богатому, осанна,
- Доблесть даруй ему, осанна,
- Дай ему царство и град, осанна,
- Дай победителю знаменье, осанна,
- Сохрани и помилуй богатого, осанна,
- В царстве твоём, Всевышний, осанна.
- Милость даруй ему, осанна,
- И помощь окажи имущему, осанна,
- Милость сытому ниспошли, осанна.
Он пел, как поют кликуши: закатывал глаза, потом возводил их кверху, как бы обращаясь к Богу и веря в то, что Бог услышал его. Он был в полном упоении – это выглядело и страшно и смешно.
А как он прекрасно решал сцену в столовой, когда вдова Лаккернидла видит кепку мужа и его пиджак на другом человеке. Зритель из разговора рабочих знал, что «Лаккернидл свалился в сварочный котел, поскольку мы не могли вовремя затормозить машину, он, как это ни ужасно, попал в приготовлявшуюся грудинку, вот его пиджак и кепка…» и так далее. Охлопков показывал актрисе (играла Верико Анджапаридзе): он брал кепку из рук рабочего как живое кровоточащее сердце и нёс ее на вытянутых руках. Его глаза, его что-то шепчущие губы, его трепетные руки, в которых билось «живое сердце», остались в моей памяти на всю жизнь… Он потряс меня как великолепный актёр, которому подвластно всё – от трагедии до весёлой комедии и водевиля. Он вообще любил гиперболы.
И характер его был неровный: он то загорался, увлекая за собой всё и вся, то совершенно неожиданно гас и мрачнел.
На репетициях Николай Павлович, как правило, бушевал. Иногда срывался, говорил обидные вещи, передразнивал так, что все от души хохотали – хохотал и сам исполнитель, которого он изображал: ему становилась понятной абсурдность его поведения на сцене. Было и так: иногда, опасаясь сделать замечание ведущему актёру, работа которого его не удовлетворяла, он находил «козла отпущения» и вымещал своё недовольство на нём. Если же Охлопков ценил твою работу, то был предельно внимателен, даже нежен, и делал замечания «на ушко». Конечно, очень горько быть «козлом отпущения», и многие обижались, хотя все знали, что за Николаем Павловичем водился такой грех. Но если он это замечал, обязательно заглаживал свою вину, мог при всех поцеловать, извиниться, перевести всё в шутку. Он сам был очень ранимым человеком.
У меня было своё видение роли, и в разговорах Николай Павлович всё принимал, но вдруг по ходу репетиции показывал мне что-то совсем противоположное. Какая глубина мысли, какая смелость, какая пластика, какая неожиданность в решении образа! Как удивительно он предложил мне прочесть первый монолог:
- В тёмную пору кровавого смятения,
- Узаконенного беззакония,
- Планомерного произвола,
- Обесчеловеченного человечества,
- Когда не прекращается волнение в наших городах,
- В такой вот мир, похожий на бойню… —
я произносила как одержимая, верящая в Бога, с закрытыми глазами и уходила победно, под барабан. Вообще Охлопков «раскрыл» мне глаза в «Святой дуре», только когда я впервые услышала о людях, которые проповедовали другую истину. Образ «Святой дуры» получался образом человека, понявшего всю бессмысленность своего существования.
А как интересно он построил эпизод первой встречи героини с Маулером: Иоанна всё время была как бы в сиянии луча и походила, скорее, на видение, чем на живое существо; и говорила она каким-то нереальным голосом, чем и пленила Маулера в этой сцене.
Сколько труда, сколько таланта было вложено в этот спектакль, как необыкновенно раскрылись бы актёры… Какая трагическая неудача постигла Охлопкова, когда Сергей Третьяков был арестован, репетиции остановлены и спектакль не состоялся… И вся работа – в никуда.
Я переживала это очень сильно и собралась возвращаться в Ленинград. Охлопков хотел что-нибудь придумать, лишь бы не отпустить меня из театра. Он решил заново переделать уже давно идущий спектакль «Своя семья» Грибоедова и Шаховского, который публика любила. Я вначале робко возражала. Тогда я еще не знала, что если Николай Павлович чем-нибудь загорался, то остановить его было невозможно. Он изменил состав участников. Актёры, вновь назначенные, репетировали с удовольствием, прежние исполнители вначале сопротивлялись, но под натиском фантазии Охлопкова сдались, и репетиции проходили с большим подъёмом. Было интересно наблюдать переход от публицистической трагедии «Святая дура» к весёлой комедии «Своя семья». Охлопков от души веселился вместе с актёрами, работал легко и увлечённо. Но, поставив заново два акта, он заболел, и нам пришлось играть третий акт в старом варианте, так как премьеру отменить было нельзя. Перед первым спектаклем он приехал в театр с температурой 39° и решил как-то изменить третий акт, но ему стало плохо, и его увезли домой. Так мы играли два акта с условными мизансценами, переделанными характерами персонажей, и последний акт, поставленный почти натуралистически. В двух актах были введены «цанни», обслуживающие действующих лиц. То, стоя на коленях, они держали скатерть, изображая стол, то подавали предметы, нужные по ходу действия… И вдруг в третьем акте они исчезли. Перед премьерой все были смущены и обескуражены. Как же себя вести? Получилось полное смешение, как говорится, «французского с нижегородским».
«Своя семья» с моим участием прошла три раза. Я отказалась играть, считая недопустимым подобное положение, тем более что в старом варианте спектакль имел успех, и актриса, исполнявшая мою роль, мне нравилась.
Я не видела для себя перспективы на ближайший сезон и решила возвратиться домой. Решение моё подкрепилось, когда я увидела вывешенное распределение ролей в новой постановке «Железный поток» Серафимовича, где я и Николай Сергеевич Плотников были назначены на одну роль. Уверенные, что это опечатка, мы с Плотниковым развеселились и, взявшись за руки, пошли развлечь Охлопкова. Но Николай Павлович заявил, что никакая это не опечатка: он ещё для себя не знает, «будет ли это мальчик, мудрый как старик, или старик, наивный как ребёнок». Мы ушли в полном недоумении. И я окончательно решила, что не буду подвергать себя подобным экспериментам.
Когда я пришла проститься, Охлопков был растерян, как мальчик, и всё время говорил: «Но почему же вы уходите? Разве я сделал что-нибудь не так? Может, я вас обидел?» – «Нет, нет, я ухожу потому, что не вижу для себя интересной роли в намеченном вами репертуаре, а жить без дела целый сезон – это большая роскошь для меня. Актриса должна играть всё время, тогда она станет настоящим художником».
Вновь я встретилась с Николаем Павловичем только в 1943 году. Он был назначен главным режиссёром Театра драмы (ныне Театр имени Маяковского), в труппу которого я перешла в годы войны.
Здесь первой постановкой Охлопкова была пьеса Гусева «Сыновья трёх рек». Юноши и девушки трёх матерей – Волги, Сены, Эльбы – «раскрывали, – как говорил Николай Павлович, – три сердца, три мировоззрения, три идеала, три устремления в их столкновении и борьбе». Художник Рындин придумал оригинальную декорацию: на сцене был помещён огромный вращающийся глобус. В зависимости от того, в какой стране происходил тот или иной эпизод, в его отсеке и на авансцене шло действие. Задник изображал небо, по которому в зависимости от «настроения» сцены проносились то перистые, то кучевые облака, или гремел гром и сверкала молния.
Музыка, как всегда в охлопковских постановках, обогащала образ спектакля, характеризовала отдельных персонажей; у каждой сцены был свой лейтмотив.
Помню первую репетицию, когда на роль русской девушки были назначены три актрисы и вдобавок приглашена из вспомогательного состава высокая типично русская красавица. Николай Павлович начал разговор с того, что он ещё не знает, кто из нас будет играть. Мы были совершенно разные, и он, глядя на нас четверых, безо всякого перехода объяснял нам, какая должна быть наша героиня. Если взгляд его падал на студентку, он говорил: «Понимаешь, идёт добрая, с широкой улыбкой, крупная русская девушка, открытая ветру и урагану, не боясь ничего, идёт сильный человек, шагает она широко, походка уверенная», и, переведя взгляд на другую актрису, не делая точки, продолжал: «Вбегает весёлая комсомолка, смелая, задиристая, с шумным характером»… Взглянув ещё на одну, без всякого перехода, говорил: «Сидит маленькая Алёнушка, пугливая, нежная, сидит и грустит…» и тут же, не изменив даже мимику лица: «…Да, она страдает, она вобрала в себя всю печаль родины…» Я сделала из этого объяснения роли пародийный номер. Николай Павлович неоднократно от души смеялся над ним.
После репетиции я подошла к Охлопкову и доказала ему, приведя веские аргументы, что мне не надо играть «русскую девушку». Он тут же назначил меня на роль Матильды, жены немецкого солдата, который приезжает с награбленным добром на побывку домой. У них маленький сын. Когда Фридрих – его великолепно играл Вечеслов – немного приходит в себя от ужасов войны и собирается устраиваться с Матильдой на ночь, раздаётся выстрел, и вбегает русский солдат (его роль исполнял Самойлов), за которым гонятся немцы. Солдаты узнают друг друга. Фридрих и Матильда боятся, что русский убьёт их ребёнка и их самих, но тот исчезает в окно, не причинив никакого зла. Этот эпизод занимал несколько страниц текста, а какую огромную и впечатляющую сцену сделал Охлопков!
Первый выход Вечеслова – Фридриха, утомлённого и не верящего, что он, наконец, добрался до дома. Интересно раскрывал Охлопков слова:
- Двенадцать долгих дней…
- Двенадцать кратких снов, исполненных блаженства.
- Среди родных домов, среди родных огней,
- В чаду любви хмельной, бездумной женской…
Он произносил их не как завоеватель, а как раздавленный человек, вырвавшийся на миг из пламени и грома… А немного погодя он был уже другой – хвастун, циник: «О, я прошёл сквозь шквал, я жёг Смоленск, я штурмовал Воронеж, я столько городов тебе завоевал…»
Главные качества моей роли – алчность и стяжательство. Охлопков придумал эффектную сцену, когда Фридрих из груды вещей выкидывает Матильде чернобурых лис.
- Сибирских лис пушистые хвосты,
- Их русская природа создавала
- Лишь для твоей немецкой красоты…
С какой алчностью и сладострастием Охлопков ловил этих лис, в каком упоении, окутав себя мехом, он катался по полу. А как он в экстазе падал на всё привезённое барахло! Переиграть Охлопкова было невозможно. Мне удалось повторить его замысел в своей интерпретации, он остался доволен, и я была счастлива.
Конечно, в театре выкрасили под чернобурок зайцев, но зритель этого не замечал и верил, что это роскошные сибирские лисы. Однажды на спектакль был приглашён дипкорпус и много знатных гостей. По этому поводу из Союзпушнины привезли настоящих чернобурых лис, чтобы поразить воображение зрителей. Сотрудники Союзпушнины в оба глаза смотрели эту сцену. В конце её, ещё в темноте они стали рвать из-под моих ног меха, я даже чуть не упала; кто-то из них ворчал: «Чтобы стоять на них, это уж слишком!» Спектакль в тот день имел особенный успех, настоящие чернобурки потрясли присутствующих.
В «Сыновьях трёх рек» играли Половикова, Бабанова, Штраух, Самойлов, Лукьянов, Вечеслов, Пирятинская, Гердрих, Карпова, и мне было интересно наблюдать, как Охлопков репетирует с каждым из них.
Много внимания уделил Охлопков работе с ведущими этого спектакля – это три реки: Волга– Половикова, от которой он требовал широты, мудрости, сердечной щедрости, боли за свою родину; Эльба, которую изображала Пирятинская, – от неё он требовал рациональности, жестокости, напора и также боли за свою родину. И, наконец, Сена—Гердрих—она должна была при всей боли и страсти где-то найти проявление «шампанского».
Костюмы подбирались по цветам, чтобы они выявляли сущность характера: стальной, холодный цвет у Эльбы, бирюзовый – у Сены и нежно-голубой у Волги. Читали они свой текст под соответствующее музыкальное оформление. Костюмы были в виде греческого хитона, но с длинными, как крылья, рукавами. Освещение тоже подбиралось, чтобы подчеркнуть сущность изображаемого. Чувствовалась масштабность в ролях, их значимость в спектакле.
Отчётливо запомнилась мне работа с Вечесловым, поскольку сцена наша была парная. Вечеслов был актёром высоким, с хорошей фигурой, красивым умным лицом, с приятной улыбкой, прекрасными манерами и, казалось, совсем не подходил к отрицательной роли немецкого солдата. Как умело подсказывал и показывал Николай Павлович! Как незаметно для Вечеслова «вытаскивал» из него самое неожиданное – то, что зачастую подспудно лежит в человеке! Как он менял его психологию и его отношение к роли! Каким «великолепным» негодяем был Вечеслов, когда произносил:
- Взгляни, с каким уменьем
- Вот этот камень мастер шлифовал,
- В нём русский снег узорный засверкал,
- В нём русских рек горит разлив весенний,
- Разденься и примерь все платья, все каменья,
- Всё, что я для тебя в боях завоевал.
Охлопков поставил этот кусок как садистическое проявление чувств Фридриха. Он охотился за мной, ломал мне руки, запрокидывал голову, измываясь в ласках и получая удовольствие. Этот момент мы тщательно репетировали, чтобы в действительности не повредить друг друга.
А как тщательно было разобрано появление русского солдата. Самойлов играл открытого, смелого, пленительного юношу, играл темпераментно, эмоционально насыщенно. Каким жалким был в этот момент Вечеслов – Фридрих, как омерзительно он трясся именно за свою жизнь, а не за жизнь жены и ребёнка. Да, это была большая удача не только актёра, но прежде всего режиссёра – в одной сцене выявить столько психологических поворотов!
Репетиции шли в полнейшей тишине. Не дай Бог, если где-нибудь раздастся стук или хлопнет дверь – Охлопков сразу же созывал всех, вплоть до рабочих сцены, пожарных, билетёров и сотрудников администрации и начинал читать лекцию. Её смысл сводился к тому, что театр – храм, и совершающееся таинство на сцене может происходить только при абсолютной тишине. Но это всё было до первых прогонов. На прогонах он сам нервничал, кричал, бегал по залу, не разрешал актёрам ничего менять и в то же время исправлял мизансцены, которые, как ему казалось, не вязались с оформлением. Спорил с композитором, сокращал куски музыки, переделывал свет… И тут уж не становись ему поперёк – сметёт, снесёт и не заметит! А каким ласковым и даже нежным становился он после генеральной, если она проходила удачно. Боялся любого спугнуть, боялся, как бы перед премьерой чего не случилось. У каждого спрашивал, кто как себя чувствует, подбадривал, утешал, но не острил – остроты были после премьеры.
В конце первого акта, заканчивающегося моей сценой, должен был произойти взрыв и всё лететь в тартарары. «Только ты не трусь, – говорил мне Николай Павлович, – когда глобус в момент взрыва начнёт со страшной силой крутиться!» Самое пикантное заключалось в том, что взрыв должна была делать я сама, меня этому обучили пиротехники.
Однажды произошёл неожиданный случай. В момент взрыва моя пиротехника сработала «немного чересчур» – получился взрыв какой-то невероятной силы. Мы с Вечесловым в испуге разлетелись в разные стороны, уже не изображая ужас, а испытывая его на самом деле. По всему глобусу пробежала, как змея, огненная лента и загорелся задник. Хорошо, что на этом шёл занавес. В зрительном зале раздались бурные аплодисменты, а за кулисами была страшная паника. Пожарные сумели предотвратить худшее, что могло случиться, и даже после перерыва, который несколько затянулся, они продолжали борьбу с моим «взрывом».
Мне «повезло» – именно на этот спектакль я пригласила Толстого и Михоэлса с супругами. Алексей Николаевич и Соломон Михайлович в антракте зашли ко мне за кулисы. Они были в полном восторге от Охлопкова. «Только он мог устроить так эффектно взрыв, – в зале все ахнули, в том числе и мы! Казалось, что вы с Вечесловым воистину погибаете!»
В ту пору мы дружили с Охлопковым семьями и часто встречались домами. Елена Ивановна была всегда очаровательна и гостеприимна, а влюблённый в неё Николай Павлович проявлял и в личной жизни многие черты характера, присущие ему в театре, – был всегда выдумщиком, организатором и весёлым участником всякого действия…
Театр сатиры. Горчаков
Когда стало известно, что я ушла из Реалистического театра и собираюсь уезжать в Ленинград, мне позвонил режиссёр Сергей Иванович Владимирский и попросил разрешения зайти ко мне вместе со своим другом режиссёром Николаем Михайловичем Горчаковым.
Владимирского я знала по совместной работе с чтецом Владимиром Яхонтовым, с которым мы репетировали «Горе от ума». Я должна была читать все женские роли, а Яхонтов – все мужские и от автора. Яхонтов мечтал о переходе от своего «театра одного актёра» к «театру двух актёров», более многогранному. Работали мы дружно, но, к сожалению, ничего не получилось, потому что Яхонтов играл своё отношение к образу, я же стремилась к органичному перевоплощению. Владимирский старался нас соединить, но был вынужден признать, что наша сценическая природа слишком различна.
А о Горчакове я ничего не знала. Не знала, что он является художественным руководителем Театра сатиры, что он режиссёр МХАТа, что у него солидная репутация не только режиссёра, но и педагога. «Пожалуйста, заходите. Я буду рада вас видеть, Сергей Иванович. Но вы же знаете моё решение, и разговор с вашим знакомым будет напрасным», – ответила я.
В ту пору я снимала квартиру в Пименовском переулке. Не успев толком привести себя в порядок, я услышала звонок и, открыв дверь, увидела Владимирского с его спутником. «Так быстро?» – удивилась я. «А мы же рядом были, в Театре сатиры, – сказал Сергей Иванович. – Знакомьтесь с Николаем Михайловичем, а я вас покину, у меня срочное дело». Поцеловав мне руку, он умчался.
Горчаков предложил мне поучаствовать в спектакле «Меркурий» по пьесе Вернейля. По первым фразам он произвёл на меня впечатление начинающего режиссёра и не очень способного. Разговаривала я с ним свысока, говорила, что Театр сатиры – театр не моего профиля, что мои ленинградские педагоги пришли бы в ужас, узнав, что я поступила в такой театр. Не для того они меня готовили.
Моё поведение – молодой заносчивой актрисы – очевидно, очень смешило Горчакова, и он решил подыграть мне. Он стал уверять меня, что уже конец сезона, что я могу не торопиться с отъездом, что если я сыграю хотя бы в одном спектакле в Театре сатиры, сыграю прекрасную роль, сыграю блестяще (в чём он не сомневается), то может оказаться, что я не зря приезжала в Москву, а отношение моих педагогов ко мне не изменится. Он попросил разрешения оставить мне пьесу и пригласил посмотреть свой спектакль «Чужой ребёнок» по пьесе Шкваркина, премьера которого недавно состоялась.
Прочитав пьесу Вернейля, я поняла, что Горчаков был прав. Роль была прекрасной и в моих данных. Когда позвонил Владимирский, я просила его передать Горчакову, чтобы он зашёл ко мне, так как я хочу знать подробности – кто будет ставить спектакль и что за состав актёров. Николай Михайлович незамедлительно позвонил, ещё раз пригласил посмотреть «Чужого ребёнка» и зайти к нему в кабинет после спектакля.
Я до тех пор никогда в жизни не была в Театре сатиры и была потрясена огромным успехом спектакля, игрой актёров и реакцией зрителей. Когда я зашла к Горчакову поблагодарить его, я увидела его уже в другом качестве. Он лукаво посмотрел на меня, я улыбнулась и дала согласие на исполнение главной роли Анни Элиас в «Меркурии».
Придя на репетиции, я выяснила, что спектакль наполовину был готов, что на роль Анни Элиас у них не было актрисы нужного профиля, и мой приход выводил Горчакова из затруднительного положения. Он назначил мне дополнительные репетиции, и я убедилась, что Николай Михайлович – прекрасный режиссёр и педагог. Мы увлечённо создавали рисунок роли. Моя Анни была непосредственным существом, кокетливой от природы, обвораживающей мужчин с первого взгляда, безумно любящей своего мужа, готовой на что угодно, лишь бы продвинуть его карьеру. Её муж Тонар (которого играл Поль), ловкий, умный авантюрист, охотно допускал свидания своей жены с нужными ему людьми. Вот один из диалогов Анни с Тонаром:
То нар. Все, все нужны. Умело выбранные связи – половина успеха. Так сказать ЛД.
Анни. Личные друзья?
Тонар. Да.
А н н и. Вот меня это всегда поражало, как люди на виду, занимающие высокие посты, так попросту берут деньги за разные услуги. Как можно решиться предложить им это? Ты всё-таки рискуешь, что однажды…
Тонар. Я заранее знаю, с кем имею дело. Вот, например, Воклену я ничего не предлагаю…
Анн и. Кроме меня.
То нар. Я отлично знаю, что ты никогда не будешь ему принадлежать.
Анн и. Разумеется. Но если он будет слишком настойчив, то чтобы не причинить тебе неприятностей…
Тонар. Ну прошу тебя, Анни! Ты законная мадам Тонар. Я обожаю тебя…
И ещё один диалог. Анни узнаёт, что к Тонару приезжала жена банкира Нэмо, но он скрыл это от Анни.
Тонар. Она приезжала за мужем.
Анни. А почему ты не сказал мне, что она была у тебя?
Тонар. Я не знаю.
Анни. Потому, что у тебя была задняя мысль. Тогда я подумала и решила! Он хочет сделать карьеру. Я понимаю его, но не желаю, чтобы он мне изменял. Если кому-нибудь из нас необходимо пожертвовать собой, пусть это буду я.