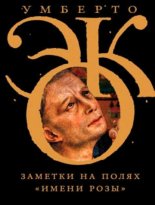Снежная королева Каннингем Майкл

– Тайлер с Бет рассудком двинулись.
Она подходит к кровати и садится рядом с Эндрю, тот сторонится, давая ей место. В результате он придвигается почти вплотную к Баррету, касается его плечом и бедром.
Это сексуально, а как же. Но теперь, по мере того как пиетет в отношении его сходит у Баррета на нет, Эндрю из божества превращается в персонажа порно. Баррету это приносит облегчение, смешанное с грустью. Корабль уплывает. Взгляд Баррета натыкается на абажур с нарисованными парусниками, краска на нем местами облупилась и отваливается.
– Будешь?
– Чей это, интересно, кокс? – спрашивает Лиз.
– Не знаю.
– Тайлера, – говорит Баррет.
– А мне казалось, Тайлер завязал.
– Выходит, ты ошибалась.
– Неважно. Тайлер вам разве сказал, мол, ступайте в мою комнату и там угощайтесь из моих личных запасов?
– Эй, Лиззи, – говорит Эндрю. – Мы гуляем, Новый год, как-никак…
– Верните на место.
– В этой квартире все общее, все принадлежит нам троим, Тайлеру, Бет и мне, – говорит Баррет.
– Все, кроме наркотиков. Ни в коем случае нельзя брать чужие наркотики, если только тебя не угощают. А теперь живо положили кокс туда, откуда взяли.
Эндрю передает пузырек Баррету, тот открывает ящик тумбочки и сует туда пузырек.
– Тебе-то зачем эта дрянь? – спрашивает Лиз Баррета.
– Праздник все-таки. Новый год.
– Баррет тут мне рассказывал про то, как он видел свет. В небе над Центральным парком.
Эндрю и в голову не приходит, что у людей бывают секреты. И что иногда стоит поменьше болтать.
– Свет? – спрашивает Лиз.
Внимательнее. Лиз задала вопрос. Она вообще не очень расположена ко всему таинственному и необъяснимому.
– Не слушай меня, сейчас не стоит, – говорит он. – Я сам не понимаю, что несу.
– Это был такой большой шар. Красивый и могущественный, – говорит Эндрю.
– Баррет рассказывал тебе, что видел свет в небе?
– А еще я видел снежного человека, – говорит Баррет. – Самого настоящего, на Третьей авеню. Он как раз заходил в “Тако Белл”.
Лиз плотно сжимает губы, закатывает глаза к потолку, потом смотрит на Баррета.
– Как он выглядел? – спрашивает она.
Баррет делает глубокий вдох, будто собирается сунуть голову под воду.
– Он был такой… бледно-аквамариновый.
Лиз по-прежнему смотрит на Баррета. В ее лице появляется пытливо-недоверчивое выражение, как будто она детектив и подозревает, что Баррет говорит неправду о том, где он находился в ночь преступления.
– Я тоже однажды видела свет, – говорит она. – Высоко в небе.
– Да брось.
– Это было много лет назад.
– Где? Ну то есть понятно, что в небе…
– Я с крыши своего дома его видела. Дело было летом, я жила тогда в нижнем Ист-Сайде и работала у Джошуа в магазине. Я уже собиралась спать, но перед сном поднялась на крышу выкурить косячок. Если не ошибаюсь, забила я его гашишем с опиумом.
– Какой он был? – спрашивает Баррет.
– Какой? Я бы сказала, круглый. Или шарообразный.
– А цветом бледно-аквамариновый?
Лиз усмехается, почему-то мрачновато.
– Ближе к бирюзовому.
– Поподробней можешь рассказать?
Теперь она смотрит на него терпеливым взглядом женщины, утомленной чрезмерным мужским вниманием и за иронией скрывающей накопившееся раздражение.
– Летел такой забавный светящийся шар, – говорит она. – Было в нем что-то такое трогательное.
– Трогательное?
– Ну да. Вроде как в космическом спутнике из пятидесятых. Как будто этот шарик света залетел из каких-то других времен, тех, когда он считался новейшим чудом.
– Это непохоже на свет, который видел я.
– В таком случае мы видели разные вещи.
– А ты что-нибудь чувствовала? Ну то есть о чем ты думала, когда на свой шар смотрела?
– Я думала: хороший гашик, не забыть бы, у кого брала.
– И больше ни о чем?
– Этого тебе мало?
– А дальше что?
– Я добила косяк, спустилась к себе, почитала недолго и легла спать. Утром встала и пошла на работу. Ты же помнишь, как Джошуа умел развоняться.
– Тебе, что ли, не хотелось понять, что это было?
Что за свет?
– Я решила, что это газ какой-нибудь. Ведь во вселенной же полно газообразных тел?
– Ага, она состоит из газов, нейтрино и непонятной дряни, которую называют темной материей, – говорит Эндрю.
– То есть дальше ты спокойно занялась обычными делами? – спрашивает Баррет.
– По-твоему, надо было звонить в “Нэшнл инкуайрер”? Меня торкнуло от косяка, я увидела свет, потом он исчез. Что тут такого-то?
Баррет склоняется ближе к ней, лицо Эндрю теперь совсем рядом, он чувствует щекой его дыхание.
– И ничего особенного с тобой потом не происходило?
– Я же сказала, что нет, ничего.
– Может, не сразу?
– С тех пор много лет прошло, и куча всего успела произойти.
– Подумай, может, вспомнишь?
– Ты начинаешь меня пугать.
– Ну пожалуйста. Постарайся. Сделай мне приятное.
– Ладно. Например, я нашла в “Ти-Джей Макс” пару туфель от Джимми Чу. Это же настоящее чудо, нет?
– Еще.
– Дорогой мой, ты, по-моему, с коксом перестарался.
– Слегка да.
– Ты же не употребляешь.
– Так Новый год.
– Тогда ладно, – говорит она, – расскажу, как лет десять или даже больше назад… – Она умолкает.
– Что лет десять назад?
– Дурацкая история.
– Так в чем было дело?
– Именно в тот год, если ничего не путаю, вернулась моя сестра.
Она редко упоминала о своей младшей сестре – несмотря на долгое знакомство с Лиз, Баррет почти ничего о ней не знал.
– Дальше, – говорит он.
– Да ерунда.
– Нет, рассказывай.
Лиз молчит.
– Она тогда бросила пить таблетки, – наконец говорит Лиз. – И в один прекрасный день взяла… взяла и исчезла. Почти на год.
– По-моему, ты что-то такое рассказывала.
– Я вообще мало кому о ней говорила.
– Да, я знаю.
– Даже не понимаю почему. Наверно, потому что это семейное и я боюсь, как бы и мне не передалось. Идиотизм, правда? Это как древние греки не называли по имени бога преисподней, чтобы он их не услышал.
– Что семейное? – спрашивает Баррет.
– Шизофрения. До двадцати трех лет все с ней было в порядке. Умная, милая девочка. Все было замечательно, просто отлично. Училась на юридическом, проходила практику в Союзе защиты гражданских свобод, а туда, если вы вдруг не знаете, устроиться очень непросто. А потом она вдруг сломалась. Стала абсолютно другим человеком. Превратилась в настоящего параноика, собственной тени пугалась, несла всякую чушь про заговор корпораций, эскадроны смерти… Короче, перестала быть собой. Ей пришлось бросить университет и вернуться к родителям.
– Ее звали Сара, – говорит Эндрю.
– Да, правильно, Сара. В общем, она начала пить лекарства, и они помогли. Она не поправилась, но стала больше похожа на себя прежнюю. Но все равно не проходило ощущение, что та, настоящая Сара умерла и ее заменили манекеном.
– Вокруг полно таких манекенов, – говорит Эндрю. – Каждый день с ними сталкиваюсь.
– Ей очень не нравилось пить лекарства – а кому нравится? От них толстеешь, вечно полусонная ходишь, про секс можно забыть… И в какой-то момент, никого ни словом не предупредив, она, видимо, перестала принимать таблетки. А потом ушла. Дождалась, когда ни отца, ни мамы не было дома, и ушла.
– Ушла, – повторяет за Лиз Баррет.
– Да, пешком. Мы искали ее, но найти так и не смогли. Сначала сами бегали по всему городу, потом в полицию заявили, объявления о розыске везде расклеивали. Симпатичная двадцатитрехлетняя девушка, она была совершенно не в себе. Мало ли что могли с ней сотворить.
– Вообще девушек, это самое, насилуют, – говорит Эндрю.
– У нее были с собой какие-то деньги. Ей нравилось иметь деньги, она их просто брала у мамы из кошелька. Мы даже не знали, сколько их у нее было – вполне могло хватить на междугородний автобус. Через месяц я думала, что мама ее пропажи не переживет. В буквальном смысле, просто умрет. Сара исчезла в декабре. Даже если ее не изнасиловали и не убили, она наверняка замерзла насмерть или умерла с голоду.
Лиз умолкает, в тишине их троих обступают удлиненные острые тени.
– Я приезжала к родителям, – продолжает Лиз, – и видела, что мама может только сидеть. Молча сидеть в кресле в гостиной. Молча, как будто, не знаю… Как в приемной у врача.
– А отец что?
– Он тоже был до крайности измучен. Но оставался самим собой. Занимался домашними делами. То тут что-нибудь подчинит, то там подправит. Типа, если бы дом был в лучшем состоянии, Сара бы вернулась. Я была уверена, что, если Сара так и не объявится, отец… короче, ничего ужасного с ним не стрясется. Ему будет тяжело с этим жить, но в живых он точно останется. А вот за маму я очень опасалась.
– Боялась, что она покончит с собой?
– Нет, мне казалось, она… уйдет из жизни. Так, постепенно. Что рано или поздно она заболеет, и врачи не смогут понять, что у нее за болезнь.
– Так бывает, ага, люди болеют просто от жизни, – говорит Эндрю.
У Лиз наконец исчерпался запас терпения, она по-учительски строго посмотрела на Эндрю. Не можешь ничего умного сказать, так лучше помолчи и послушай.
– Ну а дальше? – говорит Баррет.
– А дальше… Месяцев через пять или около того она вдруг постучала в дверь. Выглядела ужасно. Весила фунтов девяносто, в голове вши, одежда явно на свалке подобрана. Но главное – вернулась. Явилась буквально из ниоткуда.
– Да, вернулась.
– Казалось, что этого не может быть. Нет, мы, конечно, надеялись, но попутно старались привыкнуть к мысли, что она… что ее больше нет в живых. И тут она вернулась.
– Где она все это время была?
– Неизвестно. Она говорила что-то про Миннеаполис, упоминала Саут-Бич. Но в Миннеаполис она собиралась переводиться незадолго до того, как бросила учебу. А в Саут-Бич ездила летом на каникулах. Толком она нам в итоге так ничего и не рассказала. Скорее всего, она сама не помнила, где была.
– Но главное – она теперь была дома.
Лиз задумчиво кивает головой, словно соглашаясь с приговором, суровым, но именно таким, какого и следовало ожидать.
– Да. Она была дома.
– И это – чудо.
– Я никогда не молилась, – говорит Лиз. – Я не верю в Бога.
– Знаю.
– Но еще несколько недель после ее возвращения я про себя благодарила каждого, кто дал Саре доллар, кто позволил переночевать в холле, кто как-нибудь ей помог. С тех пор я даю доллар всем, кто просит.
– Сара вернулась после того, как ты видела свет.
– Прошло месяца три, если не больше.
– И все же.
– Вот заладил! Да, хорошо, хронологически это случилось после того, как я здорово накурилась очень забористого гашиша и типа решила, что вижу какой-то там свет. Ты и вправду думаешь, что одно с другим связано?
– До конца не уверен. Но тут определенно есть о чем подумать.
– Послушай. Да, конечно, Сара теперь дома, она в безопасности, и это очень, очень хорошо. Но лучше-то ей не стало. Она сидит на таблетках. Она толстая, еле шевелится, почти не выходит из своей комнаты. Сидит там, целыми днями играет на приставке.
– Это лучше, чем трупом лежать в Миннеаполисе.
– И все равно, тебе не кажется, что чудо вышло так себе, паршивенькое?
– Эй, до полуночи осталось три минуты, – говорит Эндрю.
– Я не про сами чудеса думаю. Я думаю скорее про знамения.
– Две минуты пятьдесят секунд, – говорит Эндрю.
– Ступай в гостиную и скажи там всем. Я сейчас приду.
– К обратному отсчету успеешь?
– Конечно. Иди давай.
Эндрю послушно встает и уходит. Лиз с Барретом остаются одни, они сидят рядышком на кровати.
– А оно важно? – спрашивает Лиз.
– Что важно?
– Знамение это твое.
– Правильнее, наверно, сказать, что оно неспроста.
– Правильнее, радость моя, было бы сказать, что ты сам себе здорово мозги засрал.
Тайлер с Бет затаились на кухне, наконец оставшись вдвоем. Они обнялись, сидя у стола.
– Почти наступил следующий год, – говорит Бет.
– Да, почти.
Тайлер прижимается носом к ямке у нее над ключицей, втягивает воздух – глубоко, как когда нюхает кокаин.
В глаз ему попала соринка. Он пытается ее сморгнуть – потереть глаз он не может, ему сейчас нельзя выпускать из объятий Бет.
– А конец света так и не наступает, – говорит она.
– Для кого-то наступает.
Она крепче обнимает Тайлера.
– Не начинай, – шепчет она. – Сегодня не надо.
Тайлер кивает. Он не начнет. Не станет заводить обычной скорбной песни о секретных тюрьмах ЦРУ в Польше и Румынии, о незаконном прослушивании телефонных разговоров или о том, что даже Буш был вынужден признать, что с начала войны в Ираке погибло тридцать тысяч мирных жителей. И вообще, Соединенные Штаты воюют со страной, которая на них не нападала.
– В Англии получили ДНК мамонта, – говорит он нежно Бет на ухо.
– Значит, теперь можно вырастить живого мамонта?
– Об этом, наверно, еще рано говорить. Но что точно – это что вырастить мамонта, не имея его ДНК, было невозможно.
– Нет, ты только представь себе, живой мамонт!
– Он же страшно огромный.
– Его же, наверно, можно будет в зоопарке держать?
– Мамонта лучше изучать в естественной среде обитания. Надо будет создать для него специальный заповедник. Где-нибудь в Норвегии, например.
– Ему там будет хорошо, – говорит она.
– А знаешь что еще?
– Что?
– Фиджи отменили законы против гомосексуалов. Теперь на Фиджи разрешается быть геем.
– Это хорошо.
– А еще…
– А-а?
– Японская принцесса Нори вышла за простолюдина и отреклась от престола.
– Он красивый?
– Да не очень. Но у него прекрасная душа, и он любит принцессу больше всего на свете.
– Это даже лучше.
– Разумеется.
Из гостиной доносится голос Пинга: – Полночь через минуту!
– Давай здесь останемся, – говорит Бет.
– Нас найдут.
– А мы их прогоним.
– Конечно.
Внезапно Тайлер начинает рыдать. Тихо, судорожно, словно давясь слезами.
– Все хорошо, мой мальчик. Все хорошо, – утешает его Бет.
Тайлер позволяет ей себя обнять. Говорить он не может. Приступ плача застиг его врасплох. Ему страшно, разумеется, ему страшно за Бет – ремиссия, такая неожиданная, такая необъяснимая, запросто может пройти таким же непостижимым образом, каким настала. Им обоим это известно. Однажды они даже поговорили на эту тему и больше решили к ней не возвращаться.
А еще он оплакивает свадебную песню, которую спел Бет больше года назад. И почему только у него не получается забыть (не говоря уж о том, чтобы простить себе), что песня была плоха, хотя все вокруг уверяли, что это лучшее из всего им написанного? Да-да, конечно. Песня достаточно прочувствованная и искренняя, чтобы выжать у слушателей слезы, но ведь сам Тайлер понимает, что она скорее сентиментальна, а не пронзительна. Он сам виноват, что потерпел поражение. Сейчас он с содроганием вспоминает, что оставил осколок в сердце, выкинув упоминание, что тот ледяной; что чуть было (он старался забыть, как и почему такое могло случиться) не срифмовал с тобою наш торжественный зарок и обитый красным бархатом возок. Ему не хватило времени, не хватило таланта, и получилась баллада, подходящая к случаю, всех присутствовавших устроившая, – симпатичная вещица, а не выкованное из бронзы произведение искусства, в котором сплавились бы воедино темы любви и смерти, которое стали бы петь и после того, как воспетые им возлюбленные превратятся в прах. Получилась песня на случай. Слушатели, конечно, были в восторге, но даже тогда, когда он ее пел, а Бет стояла, вся дрожа (она была совсем слабой в те дни, кожа – того же водянисто-белого оттенка, что и шелк ее платья), сгорая от любви к нему, – даже тогда ему было понятно, что он всего лишь менестрель, что на голове у него не золотой венец и не лавровый венок, а шляпа с пером и что в песнях о любви он поднаторел потому, что исполнял их за деньги по всей стране, они звучат у него убедительно благодаря большой практике, он так привык симулировать любовь на потребу посторонним, что не способен теперь ни на что, кроме симуляции, даже когда поет о собственных чувствах. Единственным доступным ему музыкальным языком сделался язык убедительного притворства.
Песня удостоилась положенных похвал, но испонителя-то не обмануть.
У Тайлера много причин для слез, в том числе понесенное им поражение, худшее из возможных поражений, худшее, поскольку тайное, ведь все вокруг убеждают его, будто песня о любви к Бет – это удача, победа, сокровище, которое он так долго искал.
– Все хорошо, – повторяет Бет.
Тайлер так и не избавился от той соринки, залетевшей в глаз, от этого мелкого соблазна плоти…
– Двадцать, девятнадцать, восемнадцать… – доносится из гостиной.
В гостиной царит мечтательная нервозность. Где все? На месте только Пинг, Нина и Фостер.
– Семнадцать, шестнадцать… – считает Фостер, глядя на карманные часы.
А сам тем временем пытается понять, куда запропастился Тайлер.
Пинг спрашивает про себя: Фостер, сегодня ночью это наконец произойдет?
Нина мысленно говорит: прости, Стивен, сама не знаю, что у меня было в голове, сразу после полуночи я тебе позвоню.
– Пятнадцать, четырнадцать, тринадцать…
Появляется Эндрю, он ссутулился и свесил руки, изображая обезьяну. Почему он до сих пор здесь? Как Лиз его терпит?
Красавец знойный, не поспоришь. Совершенно беспомощный, а ей нравится верховодить. А потом, ей много лет, и это ее напрягает. Трахается он наверняка гениально. И материнская привязанность, надо было ей в свое время ребенка родить. Она решила, что ли, что разницы между этими парнями никакой и нет смысла от одного к другому метаться? А он красив, чертовски красив. Тоскливо ей с ним, поди, до смерти. Она что, не понимает, как смешно рядом с ним выглядит? Устает, должно быть, от него. А может, он совсем другой, когда они вдвоем, без посторонних?
– Двенадцать, одиннадцать, десять…
– Где Лиз? – спрашивает Пинг.
– Уже идет, – отвечает Эндрю.
Фостер готов, ведь не молод уже, а я так давно в него влюблен. Ну зачем я все это на Стивена вывалила, надо научиться держать себя в руках. Тайлер, где ты? Зачем я все это вывалила, не молод уже, где ты?
– Девять, восемь, семь…
В спальне Лиз говорит Баррету:
– Мы ведь оба считаем, что это плохо, что у Тайлера в тумбочке хранятся наркотики?
– Да. Оба считаем.
– Ты с ним поговоришь?
– Ага, наверно. В смысле, придется, да?