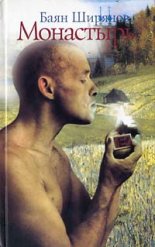Это невыносимо светлое будущее Терехов Александр
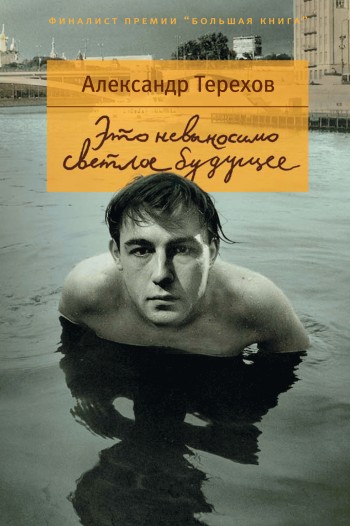
Шнурки сдержанно, но поголовно выполнили пожелание товарища – синяк Ланга сиял всей роте.
– Рота, равняйсь! Смирно! Слушай список вечерней поверки!
Козлов с ревностным ужасом не сводил глаз с Петренко, слыша, как за спиной развлекается Баринцов:
– Попов, как только скажут «Вашакидзе» – ты скажи: «Повесился».
Попов пытался улыбнуться, но пара весомых тычков в спину доказала, что улыбаться тут нечему.
– А ты, Козел, когда Мальцева вызовут, ответишь: «На очке!» Ты понял, Козел?
Козлов похолодел, он даже оглох и не слышал голоса Петренко.
– Ты чё, Козлов, опух? Ты тока попробуй не скажи. И чтобы громко!
Козлов не мог себе представить двух вещей: как он это скажет и как он этого не скажет. Что с ним будет и в первом, и во втором случае, он представлял очень хорошо – у него защипало глаза от пота и покрылись испариной ладони.
Но Петренко осточертело читать папку, и он швырнул ее на кровать, не дойдя до своего взвода:
– Рота, разойдись, готовимся для отхода ко сну!
Деды и шнурки отправились в туалет, а салабоны, которым до этого права осталось семьдесят три дня, ломанулись к кроватям – надо успеть быстро лечь и стать незаметным, надо нырнуть в эту белую прорубь, и тогда, даже если понадобится, будет жалко, быть может, будить, и тогда удастся вырваться в сон – день кончался, он умирал.
Козлов даже ремня снять не успел.
– Козлик! – ему счастливо заулыбался Коровин.
Козлов покорно пошел за ним в бытовку.
– Вишь, туалет ты сегодня вечером не мыл, – даже как-то торжественно объявил ему Коровин. – Хоть и пошился, а не мыл, да?
Козлов тупо посмотрел на красный коврик на полу бытовки, на редкие белые нитки на нем, серые мысли стояли внутри – подмести, что ли?
– Ты вот неглаженый, – погладил его по плечу Коровин. – Давай-ка, погладься. Сейчас все спят, народу никого. У меня во взводе завтра строевой смотр – я как раз твое «хэбэ» и надену, да? Ты понял? Как погладишься, будешь раздеваться: свое «хэбэ» мне на табурет, а мое – тебе, хорошо? Ну, давай тут. Если кто из шнурков скажет, что делать, – посылай, скажи: Коровин припахал, нельзя отлучаться.
И Коровин ушел, посвистывая и развлекая себя этим.
Козлов долго, старательно, как привык, выглаживал «хэбэ», даже примерил его перед зеркалом – вышло здорово. У него стала тяжелой голова, он встал к окну, он боялся идти к кровати, он ждал, пока уснут даже самые мучимые бессонницей деды, за окном ничего не было видно, он просто опирался ладонью на фотографии сына, которые он вынул из своего «хэбэ», чтобы Коровин не носил их на себе, и смотрел в свое отражение, пощипывая пальцами щетину – вот и побриться бы сейчас, да за станком не выйдешь, он стоял в одной нательной рубахе между своим и коровинским «хэбэ» – он глаженое аккуратно держал в руках, чтобы не сбить стрелочки, ему было холодно, он ежился и сам того не заметил, как на его лице очутились слезы.
В бытовку, гуляя, зашел Мальцев – внимательно потрогал свое лицо перед зеркалом, мельком глянул на Козлова и сказал:
– Ты, Козлов, главное, не стучи, понял? Все пройдет. И ты будешь шнурком. Думаешь, мы не получали? Ого-о… А Петрян, ты думаешь, он не получал? Ты же солидный мужик!
Козлов даже не обернулся на него – у него уже не было сил бояться и что-то изображать.
Постояв еще, он решился, положил «хэбэ» на табурет Коровина, но дальше дошел только до кубрика второго взвода – хватился фотографий, они остались в бытовке на подоконнике. Козлов втянул голову в плечи и пошагал назад меж кроватей согнутой, костлявой тенью, тяжело покачивая руками: вперед – назад.
В бытовке света уже не было – бытовку уже поглотила ночь. Он шарил рукой по подоконнику, нагибался к полу, а сам думал о чем-то другом: что зимой как-то холодно, но потом будет, наверное, тепло.
Бытовка была пуста.
Он вышел в коридор, не в состоянии понять: куда теперь идти, вот куда ему теперь?
Тихо и ночь, Господи…
– Козлов.
В желтой рамке открытой двери туалета курил дух Швырин – еще не пуганный, не избитый, бледный, одинокий дух.
– Ты не спишь?
– Да. – Козлов медленно подошел к нему. – Знаешь, вот вспомнил, фильм такой дубовый был, хрен поймешь, там еще деревья как-то называются не по-нашему, хотя… Я просто за фотографиями вернулся в бытовку, оставил. Куда-то делись, две…
– Две?
– Две.
– Мальчик?
– Сын мой.
– На одной написано: «Дорогому папе. Мне три года. Я очень тебя жду».
Козлов просто кивнул и отвернулся.
– Я не знал, Козлов. Я их с мусором сжег только что. Коровин сказал: уберись там, в бытовке. А они валялись, старые… Там еще угол оторван.
Козлов кивнул.
– Только что. Я просто не знал. Напиши, пусть еще пришлют. Сфотографируют.
Козлов стоял в ночи, как черная свеча, едва поблескивая смоляной печалью глаз. Ветер ударялся в гладкую щеку окна со смутным стоном.
– Я пойду, – просто сказал Швырин и кинул куда-то бычок. – Первый день, – и выдавил измученный вздох. Он сделал два шага, и вдруг Козлов чужим тонким голосом произнес:
– Стой, дух!
Швырин сунул руки в карманы и повернулся.
Козлов подошел к нему в упор и, подрагивая плечами, заикаясь, выдавил:
– Ты что, опух? Ты что это при мне куришь, а? Постарел? Зубы лишние, а?
Он не мог даже посмотреть Швырину в глаза, лицо не поднималось, залитое страхом и тоской.
– Ты придурок, Козлов, – твердо сказал ему Швырин.
Он очень понуро ушел, и где-то в третьем кубрике скрипнула кровать – всё.
Надо было бриться, без этого завтра – смерть.
Козлов поторопился за станком, почти ничего уже не видя, пытаясь вспомнить, отчего же так паскудно внутри, ведь все прошло, все ведь кончилось, но его тормознул веселый голос Вани Цветкова, который отоспался днем и теперь развлекал неспящих дедов анекдотами:
– Козлов, шагом марш сюда! – скомандовал Ваня.
– Мужики, давайте из него деда сделаем!
– Давайте!
– Мужики!
Все полезли с кроватей, расталкивая соседей, будя всех на свете, – это было редкое удовольствие и всеобщая радость – Козлова обряжали в сержантский китель Петренко, и сам Петренко поправлял у него значки на груди, опоясали его кожаным дембельским ремнем с искусно обточенной бляхой, он еле влез в ушитые сапоги Баринцова, ему щедро расстегнули воротничок, а потом и китель на груди – так ходят деды, ходи, Козлов, – спустили ремень чуть ли не до колен, нацепили на затылок шапку, долго засовывали руки в карманы и учили ходить, цокая подковками, руки сами вылезали из карманов, Козлов никак не мог на это пойти – в карманах! Уж больно непривычно, все толпились вокруг него, вся рота, его водили по казарме, вот наш дед! Деды хохотали до слез, шнурки прыскали, салабоны тоже не спали, хихикали из-под одеял, Козлов шагал по проходу, бессмысленно улыбаясь всем, готовый немедленно вырвать руки из карманов, они даже дрожали, его вертели и рассматривали, ему кланялись в пояс, обнимали деды и заискивали шнуры, хлопали по плечу – «Сашка!», и он ходил так дальше, потихоньку привыкая, ходил так без устали, пока роту не стало клонить в сон, и рота уснула – уснул дневальный Коровин на тумбочке, засопел носом дежурный по части, а он так все ходил туда-сюда по проходу, уже что-то блаженно говорил сам себе, уже не вынимая рук из карманов, он улыбался всем вокруг, он так любил эту пьянящую тишину и свободу, он так ходил, видя кругом одни белые простыни и спящие детские счастливые лица, так похожие на лицо спящего где-то далеко его сына, он улыбался этим лицам, ему хотелось целовать каждого и петь, он старался громко не шаркать, ему совсем не хотелось спать, ему хотелось взмахнуть большими руками и засмеяться на весь нестерпимо белый свет, побегать по проходу, крича что-то дикое и несуразное, он даже ускорил чуть шаг и чуть ли не прыснул, его будто звал чей-то голос – его сына, и он повторял одно и то же: «Я иду, я приду. Я иду», и так он ходил, и остановился посредине казармы, и тихо сказал себе под нос, улыбнувшись: – Спят чего-то все.
В вагоне
Перекур
Сколько там?
– Полвторого. Скоро Ростов…
Там – двенадцать минут.
– Ну тогда там покурим и уж тогда – на боковую, топить на массу. Я сразу и оденусь, чтоб не мотаться тогда, так?
– А тельняшка у тебя откуда? Ты десант, что ль?
– А как же, ты как думал?
– У меня братан тоже десант, хых, рассказывал, как ихний комбат молодых прыгать учил. Приехал на аэродром – для него пособирали тех, кто с первого и второго раза не прыгнул. Он им сказал: «Хрен с вами. Сегодня прыгать не будем, чего вас мучить без толку? Парашюты просто уложите, полетаете хоть, к самолету привыкните». И мигнул бортинженеру. Те пособирались, парашюты нацепили, полетели. Минут двадцать или сколько там прошло, бортинженер втихаря дымовую шашку запалил, в салон подбросил и завопил: «Пожар!» Так те чуть выпускающего не смели – так бросились к выходу!
– И такое бывало, бывало. Наш, правда, комбат так не делал. Он у нас дубовый был. Все хитрил. Будто самый умный. На лагерных сборах инженеры сопли жевнули – двести литров спирта спионерили, как и не бывало, – что делать? Никто и не видел: кто, куда и с кем. Комбат меня притянул. Я был комсомольский бог средних размеров. «Ну, чего творить будем по факту хищения?» Я говорю: «Не знаю». Мне чего – я того спирта не пил… Хорошо, говорит, я тебе объясню, как надо народ колоть. Выступи завтра на построении и скажи: по трагической случайности спирт поступил отработанный, от летчиков. Спустя двое суток после потребления начинаются необратимые изменения в организме. В восьмидесяти процентах врач части гарантирует смертельный исход. Сразу после построения в медсанчасти начинает действовать анонимный чрезвычайный прием – каждому употребившему надо до пяти вечера получить укол. Ввиду необычности ситуации командование репрессий производить не будет – вот так скажешь, – и никому ни слова о нашем разговоре. Я никому ничего не сказал – какое мое дело, я того спирта и не пробовал. На построении выступил. И что ты думаешь – хоть бы один! Ни одного человека! Никто не пришел!
– Это у нас такой старшина был – искатель. Перед Новым годом мужики пронесли с берега две бутылки водяры. Кинулись – куда прятать? Слили все в бачок с питьевой водой: чин чинарем. Заявился старшина прямо тридцатого – стал рыскать. Все перерыл, плюнул. Пошел по второму разу: «Ну не может быть, – говорит, – чтобы вторая батарея в Новый год и без водки. Быть такого не может». Искал, искал, все кругом столбами стоят – шевельнуться нельзя. Весь аж взмок и – где тут у вас водички попить? Все разом носы повесили – все! Он нацедил из бачка кружку, хлебнул, на всех дико посмотрел, быстренько допил, кружку грохнул и пулей из кубрика. Думаем, ну все, сейчас с замполитом вернется драконить, ан нет, ни хрена. Так и не вернулся.
– Так, а это что у нас там такое? Ростов уже, что ли?
– Похоже. Ну что, идем покурим?
Судьба ефрейтора Раскольникова
Житие, составленное мл. сержантом Мальцевым
Я не мучаюсь.
Я очень хорошо и спокойно живу. Имею крепкий сон, не жалуюсь на аппетит, и во всем другом – у меня все нормально. Для меня все просто. При всем своем равнодушии я хочу жить лучше, тише, что ли… А иногда перед сном, когда все тело тает, становясь невесомым, незначительным, – тогда вот растет душа, расползается внутри, набухает – я чувствую ее, как широкую, жаркую ладонь на солнце, чувствую отчетливо, до последнего сгиба на пальце, до крохотной занозы…
Я даже слабо помню уже эти старые заборы, на которые опирались мои руки, переваливая тело куда-то, – ну, например, в сад, на траву, да не смогу я уже сейчас забраться в чужой сад – мне этого не надо. Остались только занозы, а с ними – голоса, лица и что-то еще, похожее на ветер, что ли, на его неясные, смутные дуновения, и все это не течет и поэтому – не кончается, а просто – мешает чуть-чуть: лица, голоса, ветер…
Вот тогда, по вечерам, я приваливаюсь к столу и рука моя бездумно рождает слова, цепляет их в строки – я отгораживаюсь этим частоколом, я не люблю сплошной белый цвет, я выжимаю себя, и меня меньше всего волнует все остальное – это мое, после этого легче мне, без этого я легче постарею и спокойно буду замечать морщины и неотвратимые перемены лица моего; только для этого – вот моя правда.
И судьба ефрейтора Раскольникова – это не любопытная история и не события, интересные для всех, – это то, от чего я хочу быть свободным.
Я вспомнил все это после нашей дурацкой встречи в начале июля в этом году. Это было в Москве, я целый день бегал по магазинам – искал жене сапоги, а когда до поезда остался час, встал в очередь за колбасой в небольшом магазинчике недалеко от Павелецкого вокзала. Очередь донимали мухи и жара – вентиляторы, вяло машущие своими лопастями на потолке, не спасали, поэтому окна открыли настежь.
Я торопился: хотел купить еще масла и поглядывал на часы на столбе, которые были видны прямо из окна.
Под часами, недалеко от трамвайной остановки, стоял худой длинный парень в очках и вертел в руках букетик каких-то цветов, три тюльпана, кажется. Я думал о жене, мы ждали тогда второго ребенка, поэтому я думал еще о цветах и о том, а что вот за девушка, интересно, у этого парня. И тут он увидел свою девчонку. Я понял это потому, что он схватил свои очки и сунул их в карман. И я тотчас узнал его – это был Раскольников. Раньше он ходил без очков, и раньше я не знал, что у него красивые каштановые волосы.
Я обернулся и сказал старушке, упиравшейся мне в спину животом: «Я отойду», – и медленно вышел на улицу. Через дорогу Раскольников дарил своей девчонке цветы – я совсем ее не запомнил, она тогда его чмокнула в щеку. Я не хотел к нему подходить, но мне было важно, чтобы он увидел меня, и я громко свистнул, сложив ладони на затылке.
Раскольников покрутил головой, пропустил трамвай, разделявший нас, и только тогда прищурился и отпустил руку своей подруги – теперь он узнал меня, и пусть он не видел все до капельки выражение моего лица и глаз из-за своей близорукости, но он узнал меня и понимал, что я его вижу отлично, поэтому он смотрел в мою сторону спокойно и открыто, не шевелясь; вот мы и встретились с тобой, Раскольников.
Он что-то скомканно сказал своей спутнице – хотел бы я знать, что он ей сказал! Вышло странно: я хотел увидеть его лицо именно в тот момент, когда он поймет, что я – это я, когда он разом вспомнит все, а теперь я увидел это и не знал, доволен я или нет его спокойствием.
Он думал, что я сейчас подойду. Он уже думал, наверное, что он скажет мне в ответ и что скажу я. Он бы стоял, наверное, так целый час, да я вот только торопился и поэтому повернулся и пошел покупать свою колбасу с пустой головой. Когда глянул из окна – они уже уходили за угол. Спина у Раскольникова была прямая. Ничего ведь не произошло.
В армию меня призвали осенью 1983 года с третьего курса Политехнического института, я тогда еще мечтал делать ракеты, мне казалось, что я взрослей и серьезней желторотых пэтэушников с крашеными лохмами и дешевыми цепочками на груди, – поэтому на пересыльном пункте я держался от всех в стороне, а от этого было еще тоскливей. Вокруг военкомата гудела пьяная толпа, люди карабкались на деревья, тащили за собой каких-то отчаянных баб, пытались преодолеть забор, толстый прапорщик гулял взад-вперед у забора и угощал пучком крапивы самых отчаянных – те визжали и матерились, с деревьев кричали: «Кусок!»
Через двое суток привезли команду свердловчан – на соседних нарах расположился улыбающийся Серега Баринцов. Быстро выяснилось, что он тоже был студентом политеха, только его отчислили со второго курса за пьянку, и до призыва он полгода работал таксистом. Его, как и меня, никто провожать не приехал, и мы скучали вдвоем, слонялись по углам пересыльного пункта, жгли мусор и ветхую листву, на ночь рассказывали друг другу анекдоты – так засыпать было веселей, не тянуло на слезы.
На место службы поезд шел двое суток – это была очень неприятная поездка, тошно вспомнить. Все напились, в тамбурах было не продохнуть от кислого запаха рвоты, белья у проводниц не было, зато была водка за двадцать рублей. Я в ту пору пил умеренно, и Баринцов особенно не налегал, если наливали – пил, но сам не покупал: деньги берег.
На вторую ночь я проснулся от пинка в бок – три еле живых от выпитого пэтэушника хотели получить от меня деньги, очень нужные им сейчас. Вагон был мертвый – спали все, я вяло отшучивался, тогда один из просителей показал мне из кармана нож. Я, честно говоря, собрался уже плюнуть и полезть за деньгами, но тут сверху спрыгнул Серега и заорал матом на весь вагон, чтобы все убирались отсюда скорей и не мешали ему спать. Парни как-то быстро убрались и легли спать, даже проводница пронеслась по вагону сонной крысой, я на всякий случай не спал, боясь ножа, а наутро все вместе очень смеялись, вспоминая ночную сценку. И пэтэушники тоже смеялись.
Баринцов был, что называется, дошлый. Он первым четко узнал, куда нас везут, на кого будут учить. Он единственный сохранил неприкосновенно свои съестные припасы, и первые три дня в учебке мы пировали с ним по ночам, пока все остальные чутко прислушивались к соседнему жеванию, с мукой вспоминая каждый недоеденный кусок, выброшенный в вагоне, а солдатская солянка и водянистая картошка с черными комками в горло еще не лезли.
Кроме того, Баринцов не трепался про своих баб, как все остальные, не умел рассказывать матерных анекдотов, а больше всего любил с наслаждением поспать и поесть – и его все сразу очень полюбили. И я им даже чуть гордился, как старшим братом. Может, он чувствовал это и опекал меня.
Нас определили в первый взвод, где старшим через неделю назначили основательного шахтера Петренко. Примерно недели через три, когда стало уже холодать, старшина повел нас на склады – выбирать шинели. Взвод стоял по росту, дышал в затылок друг другу, все уже в шинелях, а старшина, прикусив губу, вымерял специальной палкой расстояние от земли до шинели, чтобы было по уставу. Для легкости старшина называл всех «Вася». Только ребят из Средней Азии по-другому – «аксакалы».
Он скомандовал мне:
– Ну-ка, Вася, поменяйся-ка шинелью с этим вот Васей.
И мы отошли в сторону с лысым пареньком с испуганными большими глазами. У паренька было такое нежное лицо. Ему моя шинель пришлась впору, мне его оказалась длинновата.
– Ну, ладно, тебе еще подыщем, – махнул рукой старшина. – А ты поди запишись, фамилию…
– Раскольников, – сказал парень, дотронувшись рукой до лба.
– Убийца, что ли? – хмыкнул Петренко, писавший фамилии и размеры. – Топором старушку по балде?
Вот так мы встретились.
Первое время в учебке постоянно хотелось есть. Баринцов часто мечтал перед сном, как бы он съел, обязательно один, буханку хлеба, батон колбасы и два литра смородинового варенья, – он это переносил весело.
У меня было хуже.
Я начал ненавидеть людей. Сколько буду жив, я буду ненавидеть солдатскую столовую первых дней: торопливое расталкивание людей на пути к столу, пугливый подсчет: сколько народу на лавке – не лишний ли, команда: «к раздаче пищи приступить!» и – мгновенный выброс руки: кто вперед, кто первым выдерет из буханки серединный, самый толстый кусок, тревожное нытье с протянутой тарелкой: «Клади больше! Мало!» и сразу потом – быстрее-быстрее есть первое, чтобы раньше схватить черпак, чтобы успеть наложить себе второго еще с мясом, а не с салом, и потом захватить добавку с первого, которую сразу брать было нельзя, могут не оставить второго, потом дочистить без остатка бачок, соскрести кашу с половника, схватить сахар, два куска – мигом в карман, локтем придержать хлеб, не слушая, кому там хватило, кому нет, и глотать скорее чай, косясь, не оставил ли кто чего, может, кто-то не ест масла, или сержант не стал грызть черный хлеб и оставил его на общую, мгновенно раздирающую хлеб на куски, радость. И каждый вечер слюнявый шепот: кто сколько ухватил, что мы будем есть потом и как мы ужирались когда-то…
Я с отвращением замечал, что меняюсь, что я, курсант второго взвода Мальцев, уже не Мальцев Олег Николаевич, а что-то другое, более животное, что ли. У меня мучительно развилась память. Я стал запоминать: кто меня чем угощал, делился, а кто ел, когда я стоял рядом, и – не подумал даже. Как только удавалось вырваться в чайную, я страшно обжирался, набивал карманы конфетами, но делился лишь с тем, кто когда-то угощал меня. Впрочем, научился спокойно отказывать.
– Мальцев, дай печенья.
– А зачем?
Это заметили многие, за моей спиной недоуменно смеялись, но только Баринцов понимал, что я физически не могу хватать руками быстрее всех за столом, и то, что я всегда брал последним, это был не протест, это слабость моя была – я просто не мог по-другому, не мог открыть рот, чтобы попросить добавки, не мог прятать сахар в карман и доедать за кем-то; я стал ненавидеть людей и, что теперь скрывать, – себя. И моя странная жадность была местью этому озверевшему миру, местью за себя, попыткой обнажить до конца его начинку.
К Новому, 1984 году в моей жизни случилось два события. На собрании взвода Баринцов предложил избрать меня комсоргом, и взвод проголосовал «за» единогласно – я обрадовался. Мне казалось, что это не только поддержит меня на плаву, но и поднимет.
И второе событие – в первую ночь после выдачи денежного довольствия за два первых месяца службы – в нашем взводе украли больше ста рублей. Из них пятнадцать – моих. Не спасло меня и то, что хранил я деньги не как все – в военном билете, а аккуратно затолкал их в пустую пачку от лезвий «Жиллетт» – эта пачка и исчезла. У запасливого Сергея пропала сразу тридцатка, у шахтера Петренко – тоже пятнадцать. Настроение у всех испортилось крепко. Новый год на носу, а денег нету. Во взводе узбеки косились на нас, мы – на узбеков, а пострадали и те, и другие. Кроме того, наш взвод мрачно косился на остальную роту, среди бесконечных версий выдвигалась и такая, что в родном взводе вор красть не будет, это чужой. Но, с другой стороны, как же этот вор полезет ночью через освещенный проход в чужой кубрик – ведь дневальный, несмотря на позывы ко сну, это дело увидит…
Старшина вызвал с утра в каптерку актив взвода: меня, Петренко и Баринцова.
– Кто будет больше всех в чайной хавать – тот и вор, – сказал Петренко, уже получивший ефрейторскую лычку.
– Так он сразу в чайник и попрется, – усомнился Серега и предложил, коварно блеснув глазами: – Лучше давайте попозже распустим слух, что Мальцеву пришел большой перевод – стольник, он при всех деньги – и военный билет, а мы по ночам по очереди…
– Вот что, мужики, – устало сказал старшина. – Все, что вы тут говорите, – это детский лепет на лужайке. Кафе-мороженое «Буратино». Я вам так скажу: вы думать – думайте, а делать ничего не беритесь. Вор сам себя выдаст. Обязательно. Рано или поздно все откроется. Это ж не настоящий вор. Это ж – просто оголодавший дурак.
А перед строем он сказал коротко:
– Найду – не обижайтесь.
И я тогда подумал: ну кто вот у нас мучился с голоду сильнее меня? Даже не с голоду… Кто мучился от изменившихся условий, от неизобилия? Все, по-моему, меньше меня и одинаково. Вообще-то я больше думал на узбеков – у них многие по-русски почти не говорили: поди разбери, что на душе. Серега тоже к этому склонялся. «Ну кто из наших? – говорил он. – Раскольников – трус, не осмелится. Коровин вообще в ту ночь в карауле был. На Петренко – не похоже. Правильный он мужик. И так кого ни возьми. Аксакалы небось». Потом, после присяги, начались занятия по специальности, меньше стало строевой, тупых построений – больше тишины в радиоклассах, озабоченного писка морзянки, потянулись письма из дома – стало легче, короче. По субботам рота тащила в спортгородок матрасы и одеяла и била из них пыль ремнями и палками; было еще совсем темно, за забором дребезжали автобусы, гудели фонари, нагнувшись над снежным хороводом, светили звезды, и лишь самый краешек неба был разжижен нездоровой бледностью.
В субботу к моему турнику, на котором я истязал свой матрас, Баринцов подвел Коровина, тогда еще осторожного, хитрого малого, который потом уже стал крупным зашивоном от своей чрезмерной веселости и спокойного отношения к службе, – на вопрос старшины, почему Коровина, дневального по автопарку, обнаружили спящим в ковше экскаватора, он ответил знаменитой фразой: «Луна в голову напекла» – за что и получил трое суток «губы».
Но тогда Коровин был еще тихим. А в ту субботу вообще – хмурым.
– Ну, давай, сынок, расскажи комсоргу, – потребовал от него Баринцов.
– Чё рассказывать-то?.. Ну, проснулся я ночью на парашу сходить. Сходил. Полежал-полежал – не могу уснуть. Хасанов, падла, во сне зубами скрипит, все ждал – сломает или нет. Я тока голову поднял, чтоб его разбудить, смотрю – кто-то в моем «хэбэ» копается. Я слез, сразу свой военный билет стал смотреть…
– Чудак, – тихо процедил Баринцов.
– Полистал билет – четвертной на месте. Не успел он. Стал смотреть, куда побежал, – уже нет. Кровать где-то скрипнула недалеко, а где – черт его… Впотьмах. В туалет пошел – там никого тоже нету. У дневального спросил – никто через проход вроде не лазил. Наш, наверное…
– Ну а кто? Кто? На кого хоть похож? Ты что, взвод, что ль, не знаешь? – разгорячился я, понимая, что раз я комсорг, то как-то реагировать обязан, не сидеть сложа руки.
– Ну, – ответил Коровин.
– Думай, Корова, думай, – настойчиво просил Баринцов. – Кто?
– Похож на Жусипбекова, – задумчиво проговорил Коровин.
– Жусипбеков? Точно он? – быстро переспросил я.
– Темно было, но вроде он.
– Вроде, вроде… В огороде! – разозлился я. – Что мне с твоим «вроде» делать?!
К концу первого часа занятий у меня уже голова разболелась от сомнений. Ну а что вот делать?
– Олежа, не майся дурью, – успокаивал меня Серега. – Никто ведь не говорит, что Жусипбеков вор. Но разобраться надо. Слухи ведь все равно теперь пойдут. Так лучше – без слухов, чтобы аксакалы не нервничали. Собраться всем, честно поговорить лицом к лицу. Комсомольское такое собрание.
Серегу эта история сильно донимала – я даже удивился, как он разозлился за пропажу своего тридцатника, хотя и мне, конечно, денег было жалко – два месяца все ждали, я хотел себе рубашку офицерскую под парадку купить, пока были в «Военторге».
Собрание мы хорошо придумали провести, тихо остались в классе после самоподготовки, только Серега зачем-то старшину позвал. Старшина мне здорово мешал, но Серега думал, может, он «дожмет» Жусипбекова, если что – мужик он крутой.
– У нас сегодня собрание, – просто начал я. – Иди, Коровин, сюда. Расскажи, что видел ночью.
Коровин вышел и рассказал. Адик Хасанов переводил для своих. Там сразу по-своему залопотали – обсуждают. Жусипбеков спокойно что-то ответил пару раз, плечом пожал – а может, и не спокойно – я по их лицам не понимаю.
– Нет. Не он, говорит, – перевел Хасанов. – Спал он.
Вот так и пошло это собрание – мне было скучно до смерти.
Коровин одно и то же повторяет. Хасанов – другое переводит. Когда хоть на одном языке говоришь, можно что-то понять, по-человечески, что ли, почувствовать, а здесь что разберешь? Но я-то поступил правильно, все равно надо было разобраться.
Старшина не вытерпел и встал. Говорит:
– Коровин, ты точно видел?
– Вроде точно… – промычал Коровин.
Я кулаками лицо закрыл: черт с ними, пусть разбираются.
– Никто больше не видел?
Молчат.
– Никто?
Кто-то сказал тихо:
– Я.
Я глянул: Раскольников из-за стола вылазит и, не моргая, смотрит на старшину. Повторяет:
– Я тоже видел. Жусипбеков по кубрику ходил ночью. Баринцов быстро мне улыбнулся и головой качнул: видал? Узбеки по-своему лопочут, наши заволновались, слова уже нецензурные поползли, но старшина руку поднял и – тишина.
– Все равно, – говорит. – Это ничего еще не значит. Люди могут ошибаться. Не должен человек невинный за другого страдать. И не волнуйтесь – вор сыщется, рано или поздно. Это точно. А то, что разобрались, – хорошо, но ошибаться в таком деле нельзя. Ждите.
Так и покончили.
Я Раскольникова практически не знал – он во взводе только числился, а так целыми днями в художке сидел. Рисовал он сам плохо, но устроился холсты художникам готовить. На занятия по специальности еще ходил, а как физподготовка – сразу в художку. Я не знаю отчего, но считали его стукачом. Так бывает – всегда нужно крайнего найти. Вот увидят человека с замполитом раз или просто не понравился он чем-то, и решат: вот он – стукач. Это прилипчивая штука. Я ее всю службу боялся ужасно. Почему-то мне казалось, что и про меня могут такое подумать – я всегда в сторонке от массы был, на таких чаще всего и думают. Но, слава богу, крепко дружил я с Серегой – он все недоумения против меня быстро развеивал.
А вот Раскольникову было хуже. Он тоже все время один был или с художниками – в художке они не только рисовали, но и в карты поигрывали на компоты или на «гражданскую» пайку из чайной, книжки читали, даже баб к себе через окно затаскивали – ну, не знаю, может, и не затаскивали, но во взводе так говорили. Да, вот еще почему решили про стукача: Раскольникову под конец лычку кинули – ефрейтора. Вот это тоже насторожило – ну за что ему-то? Службу ведь не тянет. Хотя что там в учебке стучать? Все вместе, и залетов особенных не было. Но ефрейторов вообще не любили всех. Говорили: лучше дочь проститутка, чем сын ефрейтор.
Вот так обстояли дела с Раскольниковым.
Собрание мы провели, пару недель прошло, и нужно было отправить в далекий сибирский Арединск двух солдат для несения службы в нарядах, без специальности. Этим Арединском пугали всех зашивонов и тех, кто слабо специальность тянул. Нравы там, говорят, были тяжелые. И среди этих двух отправленных оказался Жусипбеков, не знаю, случайно это, нет. Он тоже не особо успешно занимался. Я сразу подумал, что ему там невесело будет. Мы же связисты – за ним по проводам и по воздуху полетело, кто такой из себя Жусипбеков и что там за история с ним была в учебке. Я тогда только понаслышке знал о жизни в «боевых» частях, но все равно подумал, что несладко ему там будет, – прямо не знаю, надо было это собрание проводить или нет? Но тогда подумал – ладно. Да и все наши были довольны.
Учебка прошла быстро. Все яростно обменивались адресами и клятвами, что через полтора года по дембелю, через пять лет, десять все как один соберемся, как штык, там-то и там-то, а старшина считал под нос платки и носки, ботинки, аттестаты…
Нас вывели на плац, и командир батальона кричал громко, что мы должны оказаться достойными высокой чести нашего подразделения, которое воспитало немало настоящих героев. Мы даже ростом становились выше от этих слов.
Петренко присвоили младшего сержанта, мы с Баринцовым были довольны чистыми погонами и «чистой совестью», как прибавил Серега. Народ стали партиями развозить по частям. В бане зашумели новые призывники – тоскливо мне было. Петренко с Серегой увезли раньше меня. Меня оставили разобраться с комсомольской документацией, характеристиками. Я знал, что скоро встретимся, что мы попали в одну часть, но все равно тоскливо, как-то время шагает так быстро, и вообще…
А за день до моего отъезда мне ефрейтор, что дежурил на радиоконтроле, сказал с улыбкой интересную новость: в Арединске повесился рядовой Жусипбеков. Вот тогда мне стало не очень весело – сам не знаю почему. Ну что я в этой истории? Да ничего! Как комсорг – отреагировал, ну как по-другому я был должен сделать? На то ведь и комсорг, верно? И никто не знает, с чего он там повесился. Может, псих ненормальный. Ведь так? Бывает же такое?
Я вот ходил по пустой роте, все его лицо вспоминал – да они все похожи, только он почему-то самый жалкий, что ли, был, с гор откуда-то – мать, наверное, есть, ждет. Я еще подумал: а что думает мать его про такое место, как Арединск? Вот странно: погиб человек – жалко мне его или нет? Наверное, нет – да я его и не знал вообще-то, он же по-русски – ни слова. Рота вообще вся разъехалась – никто о Жусипбекове и не вспомнит, и не узнает, что все, нет человека. А вот, значит, и я умру – всем тоже плевать? Да? Да. А ты как думал? Вот так живешь, живешь…
Закруглил я свою работу с документами, и в последний день старшина нас засадил чинить все, что можно чинить, и красить все, что не крашено. Нас человек семь со всей роты только и осталось. Мне красить не хотелось – я запах тяжело переношу, тошнит сразу, я пошел зашивать. Хожу по роте, гляжу, где матрас дырявый, светомаскировка истрепалась или в одеяле дырка. Стал перед обедом наволочку зашивать, перо кулаком подбил, чую: какой-то комок среди перьев, твердый. Достал – это пачка от лезвий «Жиллетт». Разодрал ее – внутри пятерка. Вот такие дела.
Мои это деньги. Ни у кого таких лезвий не было. Мой бедный взвод все «Невой» да «Восходом» перебивался. Так-так, а чья же это коечка? Раз, два, третья, у окошечка вверху – нет, уж не помню. А… Петренко?! Подонок!.. Да нет. Он же все время снизу выпрыгивал по тревоге – или я путаю? Да нет – точно, снизу, они же постоянно с Валиахметовым про шахты базарили – да и не мог он вверху спать, он же во взводе – старший… Так, а кто же здесь спал? Кого еще дневальный постоянно тряс за плечо до подъема – он же постоянно под утро сюда лазил, все еще говорил: «Вставай, вставай, художник». Художник? Это Раскольников, это его кровать… Так, та-ак, вот та-а-ак вот… Жусипбеков, значит, ночью по кубрику ходил… И он это видел, подтверждает, видел…
Я за свою жизнь к тому времени человека ни разу не ударил. Я – человек. Но однажды в пустой, залитой январским жестоким солнцем роте мне захотелось бить кулаками лицо, видеть кровь, синие кровоподтеки, раскрошенные зубы, бить ногами в мягкое, сквозь хрипы и стон, и говорить разные слова: мразь, падаль, тварь и другие, каких я отроду не произносил. Господи, да что тогда со мной творилось?
Я пошел вечером в комитет комсомола – подержал в руках учетную карточку Жусипбекова, посмотрел на его лицо. Я его совсем не таким вспоминал, другим. И мне почему-то уже не хотелось читать про него: откуда, что – мне это неприятно стало. Я отыскал карточку Раскольникова, его анкету. Раскольников Игорь Петрович, год рождения 1964-й, в школе поручение было: ответственный за стенгазету. Мать – учительница. Отец на пенсии по инвалидности. Есть еще сестра, младшая. Ну и что дальше-то? Куда его отправили? Поехал туда же, где буду и я служить. Так-так, та-ак… Ну и что? Я искал в себе лютую злобу, вот ту, которая была всего лишь два часа назад, но никого нет из роты, никого уже не осталось, все разъехались, уже новые люди здесь будут спать на этих кроватях, уже завтра начнется новая жизнь, старшина покажет, как заправлять кровати и мотать портянки, и поперек этой жизни я стою, как дурак, – всем уже плевать на это, да и на что «на это»? На что? Где гарантия, что подушки не обменяли. Могли просто подкинуть – не такой ведь Раскольников дурак, чтобы забыть деньги, если они ему были так нужны, что красть пошел. Никто не подтвердит, никто никогда не докажет. Никому это не надо! Остаюсь только я – проклятый комсорг первого взвода.
На следующий день я уже не думал об этом.
Меня привезли в боевую часть. У казармы чистил снег Серега Баринцов, я радостно подошел к нему, обнял и спросил: «Ну как ты тут, братан?» У Сереги задрожали губы, и глаза вдруг сделались большими и дрожащими влагой. «Как… Увидишь…» – и он резко наклонился к лопате, и я видел только его спину – и больше ничего. Подошел будто постаревший Петренко, оглянулся по сторонам и прошептал: «Все делай, но носки не стирай никому. Даже если будут сильно бить». «Бить? – повторил я, как иностранное слово. – Как бить?» «Бить будут каждый день, – вздохнув, устало пояснил мне Петренко. – Но сильно – не часто. Говорят, сильно – только раза три за все время…»
Так началось салабонство – самая тяжелая, грязная, постыдная пора моей жизни.
Жизнь перевернулась за один день. В один день я узнал, чего я уже не могу, а что должен, – это было страшно.
В половине второго ночи я мыл туалет. Мыл третий раз – до этого мне два раза объяснили, что делаю я это плохо, и помогли это понять кулаками. И я не сопротивлялся. Вам сейчас этого не понять. И не надо стараться, если вы не знаете, мы – звери, мы – не люди. Натирая тряпкой пол, я раз за разом обходил чьи-то ноги, не поднимая головы, самое главное – не встречаться ни с кем взглядом лишний раз, это раздражает. А когда поднял украдкой глаза, уже выходя из туалета, увидел: это Раскольников.
Раскольников стирал носки, отвернувшись от меня.
– Раскольников, здравствуй, – сказал я ему.
Он испуганно глянул на меня и еле качнул головой.
– Как жизнь? – Я никак не мог заставить себя улыбнуться, ближайшее время улыбок не предполагало. Но я не мог уйти из туалета, который стал уже надежней, чем чужая, жестокая казарма с новым запахом.
– Как жизнь твоя, Раскольников? Хорошо? Не рисуешь тут, нет? А что тут будешь делать? Носки стираешь, да?
Он не оборачивался и все молчал, и это бесило меня.
– А сам ты откуда? – спросил я. Ну хоть что-то скажет же он.
– Я из Москвы.
– А-а… Это – столица. Москва – столица Родины… – бормотал и вдруг вспомнил: – А ты знаешь, Раскольников, друг мой, что Жусипбеков там вот повесился? А?
Он перестал стирать, сдвинув руки, но не повернулся. Я качнулся с места и пошел к нему, на ходу набирая голос:
– Да-да, вот так вот – повесился подонок и вор, вор рядовой Жусипбеков. Наш с тобой боевой товарищ, сослуживец. И я теперь очень хорошо понимаю, почему он повесился там, и ты теперь это тоже понимаешь… Осталось только понять, как поймет это его мать. А для этого надо просто представить, что это повесился ты и твоя мать – есть же у тебя мать, да? – об этом узнает… – Я схватил его за плечи и повернул к себе – он плакал беззвучно, открыв рот, у него дергалось лицо.
– А ты ничего не хочешь мне сказать, друг мой, про рядового Жусипбекова, а? Который греб там и за салабонство, и за то, что товарищей своих же обкрадывал… Ты ничего мне сказать теперь не хочешь? Ты подумай… Думаешь, нет? А я вот теперь об этом часто думаю… Хоть я… Мне ведь…
Больше я ничего не сказал – пошел спать.
Мне не очень радостно вспоминать про салабонство, если честно. Если коротко, то больше всех били Петренко – он был сержант и сильный. Поэтому, когда через полгода мы стали шнурками, я не обижался на него за зверства – я понимал Петренко. На что уж я получал меньше от шнурков, да и то иногда рука прямо сама размахивалась для удара.
Ведь это огромнейшая сладость – видеть перед собой существо, которое, если б было человеком, было бы сильнее тебя, старше или умнее; существо, которое дрожит, примечая каждый твой жест и выражение глаз, и оно замирает в немой мольбе и уже ждет в томительном предчувствии, что ты решишь сделать с ним, – ему все равно уже, лишь бы скорее, хоть внутри все же надежда – а вдруг отпустит, а ты видишь эту душонку всю, все ее наивные хитрости, попытки задобрить, отвлечь, жалкие надежды на проходящего офицера или близкий ужин, а ты держишь ее в своих руках с пьянящим чувством упоения собственной властью: ты можешь сейчас ударить, сильно или слабо, отправить мыть туалет, покупать себе свежие газеты или выпить, потребовать спеть для себя песню – это сладость тем более острая, что ты сам великолепно помнишь себя в этой же шкуре, и ты презираешь ее за это и тем самым отвергаешь прошлое свое, себя от себя – это удивительно сладкое и горькое, тошнотворное чувство.
И поэтому я не осуждал и не осуждаю сейчас Петренко за то, что он зверствовал в шнурках, – это понятно.
Меня били меньше. Но меня очень не любили. Наверное, потому, что не понимали. Деды и шнуры чувствовали, что я даже среди салабонов держусь отдельно и что постоянно о чем-то думаю, кроме того, что говорю. В моем постоянном желании простить их, и забыть, и не понять своего унижения они видели лицемерие, и, верно, высчитывали, что на самом-то дне, конечно же, – ненависть, что может быть еще внутри салабона в первые три-четыре месяца, когда он глупый и службы не понял. Для них интерес был не в том, чтобы избить меня, а в том, чтобы унизить, заставить сказать что-то очень глупое, что-то сделать смешное – чтобы все стояли вокруг и презрительно усмехались. Все вместе они очень неглупые и всё понимают четко.
Серега Баринцов очень переменился по салабонству – как-то сжался весь, сник, – хотя его трогали меньше всех, он всеми силами старался этого избежать и делал это как-то судорожно, нервно. Он почему-то больше всех боялся. Я ни разу не видел его улыбающимся. Он даже говорил редко и стал скрывать нашу дружбу. На третий день, когда во мне еще играла последняя дурь, я увидел, что Баринцова ведут на разбор в туалет. Я спрыгнул с кровати, оделся, как полагается на разбор: нижняя рубашка, брюки «хэбэ», заправленные в сапоги, – и пошел тоже в туалет. Деды стояли ленивым кружком, а в центре торчал бледный Баринцов с воспаленным взором.
Я прошел и встал рядом с ним.
«А ты чего?» – спросили меня. «А так. Постою с вами», – вежливо ответил я. Дали нам по морде двоим. На следующую ночь на разбор потащили меня. Баринцов остался в кровати. Умный дедушка вернулся из туалета и спросил в тишине спящего кубрика: «Баринцов, а ты не хочешь сделать так, как твой друг вчера?» Баринцов спал.
На следующий день его подняли одного. И я не встал за ним.
Я очень жалел Серегу и помогал, чем мог, делился маслом, если его обсасывали. Давал иголки, подшивочный материал, немного денег. Все осталось с ним: практичность, расчет, хватка, хитрость, куда только ушла улыбка? И все остальное, но это кто знает…
А Раскольникова просто сломали. Начали с ефрейторской лычки. Ему ее спарывали с погон каждую ночь, а на следующий день били уже за то, что ему сделали замечание на разводе за отсутствие лычки. А когда его повели на первый серьезный разбор, он, эта худая, несчастная цапля, сделал то, что не прощают, – он отмахнулся: шмякнул неловко по лицу первого же, кто его ударил. Его поднимали после этого каждую ночь – уже на пятый день он стирал носки всем дедушкам и откликался на похабное слово. Даже салабонам запрещали называть его по имени. Он ходил по роте, как больной, он озирался и прятался на чердаке, и я понять не могу, неужели это не было видно офицерам, мы-то ладно, мы тоже еле таскались и вздрагивали, если кто окликал, но Раскольников был явно растерт и втоптан. С ним никто не садился в клубе рядом смотреть кино или в кубрике вечером, с ним рядом была беда. Специальность нашу он усвоил плохо, места художника здесь не нашлось. Некоторое время он слонялся по нарядам: в кухню и автопарк, а потом вдруг попал на самое теплое место в роте – на телефонку.
В нашем гарнизоне был военный институт, в нем был небольшой коммутатор – там ночью должен дежурить один солдат, чтобы не привлекать гражданских. Ночью звонков почти нет, и можно было заниматься чем хочешь: письма пиши, спи, кури, живи, как дома, а днем в роте еще спи: это был рай на всю службу. Сюда Раскольников и попал.
Однако с ним была еще одна штука: может, кто привез это с учебки, может, решили именно после такого странного решения командования о переводе его на телефонку, что вдобавок ко всему Раскольников – стукач. Доказательств особых не было, кроме двух-трех крохотных встреч с замполитом, но доказательства никому и не были нужны.
Выбравшись на телефонку, Раскольников чуть распрямился, стал спокойней ходить – он мог слушать у себя на телефонке музыку, ходить в нормальный туалет, спокойно умываться и бриться. Ему институтские служащие говорили «вы» и подкармливали. Наверное, он там и отсыпался, потому что в роте спать было трудно. Каждый старался, проходя мимо его кровати, задеть ее, что-то громко сказать прямо над ухом или просто ударить в бок спящего – я не могу понять, как он выдерживал: лежать в кровати неподвижно по восемь часов с закрытыми глазами и каждую секунду вслушиваться в любой шорох, ожидать удара, ловить слова проходящих людей и в них постоянно видеть угрозу, и еще делать вид, что спишь, чтобы не бесить народ мыслями, что он может поспать и на телефонке. Я хотел даже у него спросить, как он выдерживает, но не мог – меня он боялся и избегал, хотя я никому не рассказывал про мысли свои, про те, которые в связи со смертью Жусипбекова. Некому было рассказывать. Та жизнь закончилась. В этой никому ничего не было надо, кроме спокойной ночи и неизбитой морды.
Уязвимым местом Раскольникова была столовая. Хоть иногда, но человеку все-таки хочется есть. Он был вынужден туда приходить. На глаза всему гарнизону – весь гарнизон знал его как стукача. При нем сразу барабанили ложками по столам, гоняли его без конца за кружками, тарелками, ложками, заставляли разливать чай и бегать за хлебом даже салабонам. Салабоны тоже переставали его уважать. Ему ведь неплохо жилось на телефонке, а этого не прощают.
А я жалел Раскольникова – мне все время казалось, что я тоже мог пойти по его пути, если бы что-то слепое раздавило бы меня, а не его. Будто мы не шинелями поменялись, а судьбами. Будто я вижу в нем себя, и он меня избавил.
Окончательно погубило его расслабление.
У каждого салабона поближе к приказу, к концу года службы, появляется расслабление. Не как протест – от этого и следа не остается, а как первая ласточка конца салабонства. Кто-то начинает втихаря копить стишки и фотографии для будущего дембельского альбома, кто-то качает мышцы на брусьях и турнике втайне от дедов, готовя свой авторитет для встречи будущих салабонов, а Раскольников вздумал звонить каждую ночь домой по служебному проводу.
Отец его – инвалид, днем имел возможность поспать, а по ночам чуть ли не по часу беседовал с сыном за государственный счет. Это дело открылось через бухгалтерию, уставшую платить, недели за две до приказа – ефрейтора Раскольникова вышвырнули с телефонки, а наша часть насовсем лишилась теплого места как не оправдавшая доверия.
Я подумал про себя: ничего страшного, самое страшное время Раскольников все равно отсидел на телефонке. Но я чуть ошибся.
За день до приказа роту подняли среди ночи на поверку – четыре шнурка из второго взвода отдыхали в этот момент в общежитии медучилища. Еще через двое суток эти счастливые ребята продолжили выполнять свой воинский долг в сибирском городе Арединске, где снег тает в мае. Этот факт все связали с возвращением в роту Раскольникова, решили – стуканул он. На следующий день после приказа новые деды собрали самых авторитетных из новых шнурков, в том числе и Петренко, и объявили – для Раскольникова приказа не будет. Он продолжит жить как салабон.