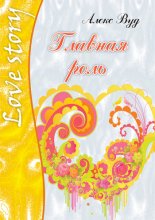Бабочка и василиск Буркин Юлий

Тролли не умели, как Хозяин, превращать людей в камни, но мелкими, необходимыми в быту приемами владели отменно. Сейчас они как бы переключили Федю на «автопилот», забрались в машину, а он сомнамбулически повел ее к городу. Одновременно тролли заставили своего пленника интенсивно пробежаться памятью по всей прожитой жизни и с интересом разглядывали то, что встречалось ей на пути.
А именно:
1. Мать отправила гулять с Федей старшего брата, а тот увлекся хоккеем и про Федю забыл. Федя уковылял за каток и, продавив ледок, провалился по колено в яму с водой. Морозное мокро пропитало пимы и одежду, Федя плачет и кричит: «Сиега, Сиега!..» Но Серега, естественно, не слышит его. Кто и как вытащил его из ямы, Федя не помнит.
2. Федя сидит дома один и от скуки рисует картинки. Вот он начал рисовать кошку. Но в контуры кошачьей морды зачем-то врисовывает человеческие черты. Выходит вот что:
Федя до смерти пугается собственного рисунка, и мать, вернувшись с работы, находит его забившимся под кровать. Его испуг совпадает с простудой (или как раз под кроватью-то его и прохватил сквозняк), и он бредит два дня подряд, повторяя: «Не хочу ушастого мальчишку. Убейте ушастого мальчишку…»
3. Федя в начальной школе. Он каждый день выпрашивает у матери по пятьдесят копеек, якобы на обед, на самом же деле для того, чтобы откупиться — отдать их по дороге в школу «взрослым мальчишкам», иначе они его побьют; так они, во всяком случае, говорят.
4. Федя с другом Семой сидят за первой партой и манипулируют под ней зеркальцем, пытаясь разглядеть, какого цвета у учительницы трусы и надеясь до одури, что оные и вовсе отсутствуют. На переменке он и Сема, запершись в кабинке туалета, занимаются онанизмом набрудершафт.
5. Старшеклассник Федя влюбился в свою одноклассницу Веру. Он не может без дрожи в коленках смотреть на ее белые колготки. Он и Вера одни в ее квартире (родители на работе) выпивают две бутылки портвейна. Она отключается, а он в невразумительном состоянии стягивает с нее вожделенные колготки, но ничего у него так и не получается, кроме скандала устроенного ее родителями, которые, придя вечером домой, застают их спящими в таком виде.
6. Федя нуждается в деньгах.
7. Федя сделал «белый билет» и учится на фотографа. И активно пожинает ранние плоды половой распущенности своих сокурсниц.
8. Федя лечится от триппера, уверенный, правда, что болезнь неизлечима, и скорая мучительная смерть неминуема. Однако триппер легко излечивается.
9. Появляется отчим с машиной, и Федя, сдав на права, занялся бизнесом: каждую неделю привозит из соседнего города по три-пять ящиков паленой водки, пятнашка за бутылку, и торгует ею на вокзале по двадцать три рубля…
Он вздрогнул, очнулся, и, ошарашено озираясь на своих непрошеных спутников, еще крепче вцепился в баранку. На миг свет в глазах померк от медведем навалившегося страха, и автомобиль завилял по дороге, угрожая аварией. Но вот он выровнялся, миновал пост ГАИ и въехал в город.
Переглянувшись, тролли улыбнулись и кивнули друг другу, а затем Федя услышал хрипловатый голос одного из них (хотя плотно сжатые губы не дрогнули ни у того, ни у другого, по жесткому тембру Федя интуитивно определил, что это — голос бородатого):
— Бояться или не бояться — несущественно. Ты подходишь.
Другой голос ласково, успокаивающе вторил:
— Станешь проводником нашим. Не бойся. Один вечер.
— Угу, — торопливо согласился Федя и склонился к баранке еще ниже.
VI
Это было довольно унизительно: я пришел к Грибову, а он не принял меня. Точнее, принял, но не он, а его старшая медсестра. Только через два дня, когда я уже сдал все необходимые анализы, когда с моей сердечной мышцы уже сняли графический портрет и в фас, и в профиль, он впервые переступил порог моей палаты.
Наверное, таков обычный порядок, но ведь я — это я, а Колька Грибов, он же Гриб, — мой когда-то самый большой школьный товарищ. И самый главный соперник. Во всем. И вечный победитель. Тоже во всем.
В начальных классах его превосходство я принимал как должное, только гордился, что у меня есть ТАКОЙ друг. Но чем старше я становился, тем труднее было переносить его снисходительно-покровительственную любовь ко мне. Все чаще возникало желание избавиться от его влияния, чтобы не убеждаться раз за разом в собственном ничтожестве.
Он превосходил меня во всем — в учебе, в спорте, в отношениях с девочками, в способности держаться в компании, в умении зарабатывать деньги, в одежде, в остроумии, да во всем! После десятого я собирался в медицинский, я с самого детства мечтал быть врачом. Но, узнав, что туда же идет и Колька (раньше он никогда мне об этом не говорил), я забрал документы из приемной комиссии. Ну какой смысл там учиться, если все равно нет никакой надежды добиться большего, чем он?
Это воспоминание, казалось бы такое далекое для его сегодняшнего состояния, мигнуло-таки болезненным всполохом в душе. Василиск издал утробный рык, перевернулся на другой бок, дотянулся до амфоры и жадно опорожнил ее, влив в утробу порцию душистой банановой водки.
Новая кожа приятно ныла и слегка чесалась. Она была еще неестественно яркой, а разводы под прозрачной чешуей, которым должно быть болотно-зеленого цвета, сейчас легкомысленно отливали светлой бирюзой. Цвет установится только дня через три. Но болеть и чесаться кожа перестанет уже к завтрашнему утру. Тогда-то лишь и вернутся все его слуги и рабы; пока же не позавидуешь тому, кто попадется на глаза Повелителю. Никто не должен видеть его в слабости, даже если та и кратка, и случается лишь один раз в году. В одиночестве, в минуты оправданной, законной болезненности, он может позволить себе углубиться в воспоминания и не прерывать себя без нужды.
… Третий день в кардиоцентре. Вот он, Гриб. Николай Степанович. Вошел, улыбается. Вид — цветущий. Улыбка — доброжелательная. Интонации в голосе — снисходительные(!):
— Свалился, Зяблик? Встанешь. У меня встанешь.
И вышел.
Этого-то я и боялся с самого начала. Боялся, что некогда зарубцевавшиеся раны невыносимой зависти начнут кровоточить сызнова. И эта дурацкая школьная кличка — «Зяблик»… Ну почему же он такой самодовольный? Или все ему в жизни дается? Или все у него — и работа, и жена, и друзья — всё ЛЮБИМОЕ?!!
Хотя зря я, наверное, прибедняюсь. Есть, наверное, что-то и у меня. Есть: волосатое сердце. Да, оно покрыто тоненькими-тоненькими волосками, которые тянутся к старым, как будто бы давно забытым друзьям, к дому моих родителей, к Витальке и Ирине. Ими опутан мой город, моя улица, дорогие мне книги — Достоевский и Сэлинджер, Стругацкие и Гарсия Маркес, дорогая мне музыка — «Щелкунчик» и «Битлз», Армстронг и «Аквариум»… Часто эти волоски рвались, иногда — выдергивались вместе с клочьями ткани. Не оттого-то ли тебе и понадобилась сегодня эта операция, о мое бедное больное волосатое сердце?
А вот и новая ниточка — к Майе — самая робкая, самая тонкая, почти призрачная, но она же и самая дорогая…
И он стал думать о НЕЙ. Каким ласковым словом назвать ее? Он постарался представить ее, словно она тут, рядом. И почувствовал ее легкость и нежность, ее свежесть и хрупкость… и слово само пришло: «бабочка».
— Бабочка, — тихо сказал он вслух, и ему дико захотелось немедленно произнести это слово ей…
В этот-то миг и заглянул снова, возвращаясь с обхода, Грибов:
— Ну что, Зяблик, послезавтра на стол. А я уж побаивался, что не явишься. Спасибо Майечке Дашевской. Через месяц отсюда выйдешь, как огурчик. — Он говорил о ней пренебрежительно и с хозяйским знанием предмета. — Ее благодари. Она у меня мастер. Она не то, что в больницу, в гроб кого хочешь затащит.
— Она что же, выходит, по твоему приказу… — он хотел сказать дальше «ко мне приходила», но запнулся от накатившей ярости, а после короткой паузы, с остервенением раздирая паутину сердца, продолжил: — … трахалась со мной? — он почти не видел собеседника, золотистая предобморочная пелена застилала глаза.
— Ну, ей и приказывать не надо, она это дело любит. Просто сказал, чтобы привела, и все. — Грибов словно не понимал (да он и в действительности не понимал), какие жуткие наносит раны тому самому сердцу, которое собрался лечить.
— А зачем я тебе сдался?!
— Как это, «зачем»? Мы же люди не чужие. Не могу же я спокойно глядеть, как Зяблик загибается. Ну, ладно, пока. У меня еще дел масса. До послезавтра.
Он не услышал, выходя, как благодарный пациент сказал сквозь зубы: «Благодетель…»
Благодетель. А она — благодетельница. Ничего не пожалела, лишь бы привести его сюда. Спасибо тебе, «Бабочка»!.. Да только лучше б я сдох, честное слово. Лучше б сдох.
VII
Она выглянула из дупла. Солнышко ярко светило в прозрачной голубизне. Она улыбнулась, расправила крылышки и — впервые в своей жизни — полетела. Она сразу, только появившись на свет, поняла, что рождена для счастья. Для счастья и любви. Все, что касалось труда, добывания пищи, прочей рутины, все это выпало на долю гусеницы. А ее, бабочки, задача — порхать, любить и продолжать род.
Радуясь каждому вздоху, каждому мигу бытия, она направилась туда, где, как ей подсказывало чутье, чище воздух, слаще благоухание цветов, гуще трава — за город.
А в городе в это время происходило черт знает что. События, которые совершились там в этот день, уж очень не вписывались в его (города) официальную историю, а потому, отраженные в тех или иных разрозненных свидетельствах, так и не были никем собраны воедино, не были трактованы, как явления одного порядка. Да и то, трудно было заметить связь между всеми нижеследующими фактами, если не знать главного: инициаторами их всех явились одни и те же персонажи.
Началось с окраины. Сразу на въезде в город располагается местный зверинец. Там-то и случилась первая нелепость дня: прямо на глазах оторопевших зрителей из обезьяны произошел человек. Далее странные явления наблюдались все ближе и ближе к центру. Как то:
— из районного отделения вывалило человек тридцать работников милиции и принялось приставать к перепуганным прохожим с просьбами их поберечь;
— с близлежащего завода металлоконструкций высыпали все имевшие там место пролетарии, обмотанные изготовлявшимися на этом предприятии цепями, и принялись усердно эти цепи терять;
— все триста работников облсовпрофа, находясь в данный момент на обеде в столовой, одновременно поперхнулись и прекратили есть, вспомнив, что они сегодня, да и вообще давно уже, не работали…
— К обкому! — скомандовал карлик.
В тот момент, когда федина семерка добралась до центральной площади и подъехала к самому солидному в городе зданию из бетона и стекла, почти все его обитатели уже выстроились в очередь перед дверьми отдела кадров, зажав в руках бумажки примерно одинакового содержания: «Прошу уволить меня по собственному желанию в связи с полной ненадобностью и желанием начать перестройку с себя».
А в следующий момент, когда Марксик, Гомик и досмерти перетрусивший Федя, поднявшись по массивным ступеням, миновали стеклянные врата сего важного учреждения, памятник вождя пролетариата в его борьбе с человечеством, возвышающийся в центре площади, сделал шаг — от великого до смешного — и, рухнув с постамента, разлетелся на мельчайшие кусочки.
Человек в толстых роговых очках, не тронутый всеобщим психозом и не имеющий даже понятия о нем, вздрогнул, встал из-за стола и приблизился к окну. Но в полной мере осознать значимость происшедшего не успел, так как звук открываемой двери кабинета заставил его обернуться. На пороге стояла странная, если не сказать, невероятная троица.
— Вы — главный секретарь? — пискляво просипел Марксик.
— Первый, — поправил Первый.
— Прима, — нараспев присовокупил гномик.
— Вы кто такие? — опомнился Первый, — выйдите из кабинета немедленно.
Троица не шелохнулась.
— Я сейчас милиционера вызову, — перешел он на фальцет и потянулся к телефону. Но тут Гномик, прищурившись, внимательно посмотрел на аппарат, и тот, вспыхнув голубым огнем, превратился в черный комок оплавившейся пластмассы. Первый отпрянул от стола и, схватив с него папку с золотым тиснением «на подпись», побежал-было к двери, но тут случилось невероятное: его шкаф с полными собраниями сочинений классиков, такой, казалось бы, родной, качнувшись, высунул из-под себя ножку, выросшую до полуметра, и подставил ее Первому.
Первый, запнувшись, упал, но ухитрился резво вскочить и, не выпуская из рук папку, попытался бежать снова. Внезапно, вспыхнув тем же голубым и холодным, что и телефон, огнем, с его белоснежной рубашки, оставив только угольный след, исчезли подтяжки, и сгорели пуговицы на брюках. Последние, естественно, спали, и Первый, запутавшись в материи, снова, но на этот раз грузно, рухнул на пол. Бумаги из папки веером рассыпались по паркету.
Карлик спокойно сказал:
— Запишите. Не забыть чтоб. Наказ. Приказ.
Первый, стоя на четвереньках, поспешно дотянулся до стола, схватил «Паркер» и приготовился писать на обороте какого-то документа, бормоча: «Если народ требует, то завсегда, завсегда. Народ, он завсегда требует…»
— Пиши. Кардиоцентр. Майя Дашевская. Квартира в течении месяца. Не будет, пеняй на себя.
— Если народу квартира нужна, — бормотал Первый, вновь и вновь с ужасом поглядывая на высовывающуюся из под шкафа нелепую ножку, — так мы ее завсегда…
Но его уже не слушали. Троица вышла. Первый выждал с полминуты, потом осторожно высунул голову в коридор. Никого. Придерживая штаны, он кинулся в соседний кабинет, схватил телефон и, набирая номер милиции, глянул в окно. Вокруг обломков памятника собралась толпа. Его ужасные посетители садились в ноль-седьмые жигули серого цвета. Он успел прочесть номер машины и тут же продиктовал его дежурному отделения.
… Чего Федя не ожидал, так это столь безудержного веселья, которое разразилось в его машине. Тролли, обнявшись, смотрели друг другу в глаза и смеялись, смеялись на разные голоса. Федя ведь не знал, что его поработители-лилипуты телепатически обмениваются впечатлениями от удачного денька.
Вечерело. Уже вблизи окраины на хвост Фединой семерке сели ГАИшники (якобы).
— Поднажми. — Хором сказали Марксик и Гомик. И Федя поднажал. А когда они сказали, — «Стоп», — он остановился. Они вышли в том самом месте обочины дороги, где и были Федей подобраны.
— Спасибо, — сказали они ему и, похожие на двух пингвинов, двинулись вперед.
Но не пингвинов, а двух, бегущих вдоль дороги здоровенных черепах, увидели милиционеры, выскочив из своей машины. Как же так, ведь только что на этом самом месте они видели две приземистые человеческие фигуры?!
Федя Пчелкин страшно боялся, что его заберут, но машина ГАИшников (якобы) почему-то промчалась мимо него, как бы его и не заметив. Федя достал из бардачка «L&M», сунул сигарету в рот, полез в карман за спичками и обнаружил там стандартно заклеенную пачку сотенных банкнот. Это была скромная плата за работу проводником.
Денег было много, но не очень — десять тысяч. Зато позже Федя обнаружил, что деньги эти имеют магические свойства. Они были неразменными, если Федя покупал на них что-то необходимое — еду, одежду, или делал на эти деньги подарок кому-то; то есть в этом случае деньги возвращались обратно в его карман. Но если он решал купить на них что-либо «с целью наживы», деньги уже не возвращались.
Так навсегда исчез фарцовщик-Федя, а на его месте появился известный вскоре на всю страну Федя-меценат и Федя-благотворитель. Сколько художников, музыкантов, да просто красивых девушек поддержал Федя материально, без всякой к тому корысти! Бывало, Федя страдал, его тянуло к прошлому. Но сперва побеждала жадность (жалко же терять волшебные банкноты навсегда), и Федя продолжал жить честно, делая красивые подарки, а вскоре это железно вошло у него в привычку.
Но вернемся к нашим черепахам. Капитан милиции Селевич и лейтенант Кривоногов выпрыгнули из машины и, высвобождая из кобур пистолеты, кинулись к древним панцирным. Однако те оказались неожиданно резвы. Далеко высунув из роговых футляров свои змеиные головы, они галопом помчались от преследователей, изредка оглядываясь и хихикая.
Блюстители порядка бежали за черепахами, не задумываясь над абсурдностью происходящего. Селевич остановился, присел на колено, прицелился и трижды нажал на спусковой крючок. Пистолет трижды дал осечку. Селевич в сердцах сплюнул и побежал дальше.
В этот момент голенастые черепахи, обменявшись короткими взглядами, свернули в лес. Добежав до явно заранее приготовленного места между двух сосен, они принялись всеми восемью лапами рыть землю.
Кривоногов первый подскочил к образовавшейся норе и бессильно ругнулся. Из норы вылетали новые и новые комья земли. По тому, какая куча грунта уже была раскидана вокруг отверстия диаметром в 25–30 сантиметров, можно было судить, что нора уже имела не менее пяти метров глубины.
Кривоногов выхватил пистолет, направил его ствол вниз в нору и нажал на курок.
Подбежавший Селевич не стал останавливать его, хотя бы потому, что предчувствовал: и у его напарника пистолет даст осечку. Но ничего подобного. Грохнуло. Потом из ямы раздалось чье-то глумливое, — «ой-ой-ой», — и мелкое хихиканье. После чего комья земли стали вылетать еще обильнее.
И вот тут до двух доблестных милиционеров дошла, наконец, жуть происходящего. И только было они собрались броситься наутек от этого проклятого места, как из норы сверкнула магниево-белая вспышка и одновременно с этим вновь раздался звук похожий на крик «Ой!». И все замерло.
Совершенно потеряв головы, не разбирая дороги, милиционеры бросились в сторону шоссе…
Через пару часов группа курсантов школы милиции разрыла «шанцевым инструментом» черепашью нору. Глубиной она оказалась девять метров. А на хорошо утрамбованном земляном дне курсантами-ментами были обнаружены две одинаковые пирамидки пепла.
VIII
Хозяин слегка пожурил своих коротышек-слуг за излишнюю трату магической энергии, но только слегка, ведь они с блеском выполнили его поручения. Благодарности он не испытывал, можно ли быть благодарным рабу? И все же, чувство его было сродни благодарности. Особенно за квартиру. Именно из-за нее часто терзал его ночами один и тот же кошмар: ему снилось чисто человеческое чувство вины.
… Когда она вошла в его палату, он смотрел на нее молча, словно заледенев не только внутри, но и лицом.
— Здравствуй, — сказала она.
Он только кивнул, и молчание продолжилось, становясь все тягостней, набухало, болезненно пульсируя, и лопнуло, наконец, фразой, произнесенной им неестественно безразлично:
— Так значит тебя послали?
Она испуганно смотрела на него и молчала.
— Грибов тебя послал. И ты все врала мне. И ты докладывала ему каждый день, как продвигается дело. — Он чувствовал, как обида кровавой пеленой застилает ему глаза. Он чувствовал, что еще немного, и он сделает что-нибудь совсем уж дикое; ударит ее, например.
Упади она перед ним на колени, зарыдай, попроси прощения, скажи: «Я никогда не лгала тебе. Да, это он послал меня, но я полюбила тебя. И я ничего ему не докладывала», — только скажи она так, и он бы остыл, он бы плакал вместе с ней, а после — простил бы… Да только она уверена была, что прощать ее не за что, упрекать ее не в чем, и не будь она такой гордой, он бы, наверное, и не полюбил бы ее никогда. И ей был невыносим этот его тон, в котором не было и грамма сомнения в ее низости.
И все же она хотела объяснить ему все, хотела погасить его обиду. Но виниться и каяться она не умела, и она, после долгой-долгой паузы, сознательно начала с жестокой прозы:
— Мне было негде жить. Месяц назад я пришла к Грибову, в сотый раз спросила про квартиру. А он дал твой адрес и сказал: «Обещаю, квартира будет, приведи только на операцию этого человека»…
Дальше она хотела сказать ему о том, что увидев его, узнав его, поверив ему, она уже не думала ни о квартире, ни о Грибове, она просто любила. И потом, молчанием уговаривая его пойти на операцию, она не выполняла ничьего приказа, она думала только о том, что и она умрет, если не будет его… Но ничего этого она сказать не успела.
— Квартира?! — закричал он. — Тебя купили квартирой!.. Ты спала со мной за квартиру? Я ненавижу тебя! — У него сорвался голос, он как-то некстати жалобно всхлипнул, и отвернулся к стене. И снова она сумела удержать обиду в себе, и снова, перешагнув через себя, коснулась его плеча. Но он, не оборачиваясь, зло, больно сдернул ее руку своей рукой и брезгливо отер пальцы о больничную пижаму.
Она поднялась. Хотела что-то сказать, но только тряхнула головой и тихо, очень тихо, произнесла одно только короткое слово: «ВСЁ». И вышла из палаты.
Он лежал без движения около часа. Он хотел только одного — мести. Не ей, а тому, кто приказывал, снова, как в детстве, унижая своим пренебрежительным покровительством. Отомстить или умереть. Одно из двух. Принцип дуэли. И странная уродливая идея стала прорастать сквозь его ненависть. И вот уже через час весь механизм последующих действий четко стоял перед его мысленным взором. Механизм мести. Именно такой, какая и была ему нужна: если он умрет, вопрос исчерпан, если же он выживет, Грибов будет низложен, опозорен, оплеван.
Он встал, прошлепал в больничных тапочках по коридору этажа к тумбочке с телефоном, набрал номер и дождался, когда на том конце провода прекратились гудки, и хриплый пропитый голос Геннадия произнес: «Да?..»
Гендос — как раз тот человек, который ему нужен. Человек, способный на любую подлость (он понимал, что затевает именно подлость). Когда-то они с Гендосом были связаны увлечением литературой о покорителях Арктики. Потом Гендос запил. Потом — сел.
… Кстати, об Арктике. Пора начинать очередное письмо Витальке. Но сколько же можно врать? А зачем, собственно, врать? Он ведь хоть сейчас может побывать там.
— Раав, — рявкнул василиск, и услужливая молнийка-убийца моментально взлетела по его хвосту и спине к уху и пропела влюбленным шепотом:
— Слушаю, Хозяин.
— В мир желаю, — молвил он ритуальную фразу.
Раав исчезла, а через минуту перед ним стояли, дрожа от счастливого возбуждения (Повелитель выбрал их!) очередные жертвы его прихоти — аспиды Стахий и Савл, на свет рожденные многие веки назад. И вот уж уходят в аспидово царствие небесное души Стахия и Савла, а василиск, заглотив карбункулы, волевым толчком вывел себя в астрал, вверг дух свой в желанную эпоху, отыскал загаданное тело, ощутил «родное» этому телу сознание и помчался по темпорально-эмоциональной развертке этого сознания в сторону взросления, старения и биологической смерти.
Путь был довольно ровен, видно, владелец сознания был человеком сдержанных чувств и неярких эмоций. Но вот, сильный всплеск болезненно деформировал блуждающий дух, он остановился, вернулся к основанию этого всплеска и включился в реальность. Огромный, в несколько десятков метров высотой ледяной вал неумолимо приближался к трещавшему по швам кораблю, на палубе которого стоял он — Отто Юльевич Шмидт.
IX
С остекленевшими от ужаса глазами подбежал гидрограф Павел Хмызников:
— Все! Конец «Челюскинцу»! Нужно скорее сходить на лед, иначе всем каюк.
Шмидт знал, что это правда. Но уж очень не хотелось поступать так, как сказал именно Хмызников, которого Отто Юльевич подозревал в стукачестве.
— Не паникуйте, товарищ, — ответил он, — подождем еще пять-шесть минут, быть может, вал до корабля и не дотянет. — Отто Юльевич понимал, что слова эти звучат глупо, как женский каприз, что поступает он сейчас не самым разумным образом, восьмиметровый вал дотянет обязательно, и сейчас каждая минута на вес золота. Но уж очень не любил он энкаведешников.
Хмызников бросился вниз, наверное, в каюту, собрать все самое ценное. В это время раздался оглушительный треск, это из обшивки вылетели заклепки. Сзади возник штурман Борис Виноградов и сдавленно сообщил:
— Разорван левый борт у носового трюма.
Нет, в такой ситуации терять время — не просто глупый каприз, а преступление. И Шмидт дал команду:
— Тревога! Все ценное, все, что можно спасти — на лед!
Штурман кинулся выполнять приказание. Шмидт подумал: «Ему только и нужно было, чтобы я скомандовал, — душу его наполнили страх и отчаяние. — Какого черта?! С какой стати он считает, что я лучше его знаю, что сейчас нужно делать? Сейчас, когда на моих глазах рушится дело всей моей жизни, рушится жизнь. Могу ли я рассчитывать на то, чтобы меня в этот миг оставили в покое?… Нет, проклятие, не могу!»
Корабль тряхнуло, палуба накренилась, и тут с диким свистом наружу из недр корабля вырвался пар… Прорвало один из котлов. Шмидт бросился на корму. Выгрузка шла полным ходом. Капитан Воронин следил за состоянием льда: то тут, то там появлялись новые и новые трещины, они увеличивались, но, слава богу, пока не настолько, чтобы всерьез опасаться отделения льдины.
Люди распались на две группы: одни сбрасывали ящики с галетами и консервами, бочки с нефтью и керосином за борт, другие оттаскивали все это подальше от агонизирующего судна. Природа словно почувствовала, что власть, наконец, в ее руках и решила поизгаляться вдосталь. Всё — мороз, сумерки, пурга — всё одновременно с аварией навалилось на людей.
Шмидт заметил, что работа вроде бы вошла в определенный ритм и, выбрав момент, спешно спустился в свою каюту. Схватил портфель и, поочередно открывая ящики стола, набил его документами. «Тьфу ты, — пронеслось в голове, — на кой черт мне все эти бумажки? Разве я верю в то, что мы спасемся?» Он бросил портфель на пол, во все стороны полетели брызги, и Отто Юльевич тут только заметил, что стоит по щиколотку в воде. Тогда он забрался, не снимая сапог, на постель и, сорвав со стены портрет жены и сына Сигурда, сунул его запазуху под шубу.
Ругая себя за бездарно потраченное время, он выскочил из каюты, чтобы немедленно вернуться на палубу, и вдруг услышал детский плач. Сначала он не поверил своим ушам, потом кинулся заглядывать в каюты и в одной из них обнаружил Дору Васильеву, кормящую грудью маленькую Карину.
— Вон! — закричал Шмидт и, выхватив ребенка из рук матери, побежал по лестнице. Но Васильева быстро догнала его и, молча отобрав дочку, полезла наверх.
На корме матрос Гриша Дурасов огромным кухонным ножом колет плачущих свиней и тушки бросает на лед. Шмидт почувствовал, что ощущение реальности покидает его. Но вновь раздается душераздирающий скрежет. Кажется, пробит и правый борт. Погружение стало таким быстрым, что заметно стало, как за бортом поднимается лед.
Шмидт стряхнул с себя оцепенение и хриплым от волнения голосом скомандовал:
— Всем — покинуть судно!
Люди стали прыгать за борт. Шмидт отвернулся и, стараясь делать это незаметно (старый коммунист), трижды перекрестился.
Но вот на корабле, кажется, не осталось никого. Шмидт и Воронин последними спустились на лед. Именно тут корабль резко пошел ко дну, все сильнее накреняясь вперед. Кусок доски, оторвавшийся от трапа, сбил Воронина с ног, он рухнул в полынью, но был тут же вытащен товарищами. Шмидт без приключений обрел твердую почву под ногами и в этот миг увидел на корме невесть откуда взявшегося Бориса Могилевича с его извечной пижонской трубкой во рту. Фраер!
— Прыгай! — закричал ему Шмидт и закашлялся, сорвав голос.
Борис, не торопясь, приблизился к борту, картинно занес ногу… В этот момент корабль сильно тряхнуло, и Борис, поскользнувшись, упал. И в миг он был завален покатившимися по палубе бочками. Из-за треска и скрежета крика его слышно не было. Отто Юльевич сжал виски руками. Слезы, не успев выкатиться из глаз, превращались в сосульки. Хорошо, что никто сейчас не смотрит на него.
Грохот. Треск. Это ломаются металл и дерево. Корма обволакивается дымом и погружается в воду за три-четыре секунды.
— Дальше от судна! — кричит Воронин, — сейчас будет водоворот!
Действительно, вода вскипает белыми обломками льда, они кружатся и перевертываются с той же неопределенностью, какая царит в душе Шмидта.
— Отто Юльевич, — тихо сказал ему возникший сзади Хмызников, — думаю, первое, что в этой обстановке нужно сделать — собрать партийное собрание.
— Пошел-ка ты в задницу, товарищ гидрограф, — так же тихо ответил Шмидт, ощущая огромное наслаждение от того, что теперь-то ему не придется пресмыкаться перед этим сталинским выродком. Но ощущение триумфа вмиг покидает его, уступив место тяжелым мыслям о предстоящей борьбе за жизнь. Не отрывая взгляда от круговерти обломков там, где только что было судно, он шепчет одними губами, без звука: «Проклятая Арктика. Гадина. Как же я тебя ненавижу».
В этот-то момент его мозг и покинуло чужое сознание и через время и пространство помчалось к Хозяину.
X
… Запечатав очередное письмо Витальке, василиск возжелал наведаться в сокровищницу.
Чего тут только нет! Племя шелестящих кобр охраняет эти груды жемчугов и алмазов, изумрудов и сапфиров, эти прекрасные золотые статуи, выполненные мастерами древнего Перу и византийскую утварь из слоновой кости, инкрустированную самоцветами…
Хозяин, сопровождаемый рабами-лилипутами, проследовал через янтарную и малахитовую комнаты и вступил в радужный, бензиново переливающийся стенами, перламутровый зал.
Здесь по приказу сметливого сциталлиса-церемониймейстера под музыку цикад и гипнотическое пение дуэта двухголовой амфисбены сотня светлячков исполнила перед василиском бенгальский танец. Хозяин был растроган и отблагодарил артистов благосклонным кивком, чем привел их в неописуемый восторг. Но в монетном зале василиск вновь лишился приобретенной только что веселости: вид разнообразных денег снова воскресил в нем мучительные воспоминания.
… Гендос дежурил неподалеку от двери операционной. В другом конце коридора сидели на скамеечках три сотрудника милиции в белых халатах поверх штатской одежды. Гендоса в лицо они не знали, только слышали его голос по телефону. Но они, естественно, не знали, что это был голос именно этого человека, то ли родственника оперируемого, то ли его друга, расхаживавшего сейчас в тупичке больничного коридора.
Надпись «не входить, идет операция» светилась больше трех часов. Гендос хотел-было уже плюнуть на все и уйти, в конце концов, не так уж щедро ему заплачено, когда дверь отворилась и в сумрак коридора из залитой стерильным светом операционной вышел Грибов. Он остановился на пороге, снял белую шапочку и вытер лоснящийся лоб тыльной стороной ладони. Гендос торопливо приблизился к нему:
— Ну, что там, доктор?
По условиям договора, если бы Грибов ответил, что пациент умер (а вероятность такого исхода была много большая), Гендос изобразил бы на лице неуемную скорбь и ушел бы восвояси (в этом случае вся тысяча баксов досталась бы ему).
Но Грибов ответил:
— Все в порядке. Выкарабкался.
И далее Гендос действовал по сценарию.
— Спасибо, доктор, спасибо, — тряс он руку Грибова, наблюдая, как трое в конце коридора встают со скамейки и с нарочито отсутствующим видом направляются в их сторону. — Спасибо, доктор, — еще раз повторил Гендос и добавил, — а это — вам, — вкладывая в руку Грибова пухлый конверт.
Дальнейшее было предсказуемо, а потому легко рассчитано. Пока Грибов тупо рассматривал конверт, а затем открывал его, машинально, не успев еще отойти от мыслей об операции, разглядывал деньги (на глазах у уже поравнявшихся с ним и окруживших его милиционеров), Гендос успел сбежать по лестнице на первый этаж, промчаться через больничную столовую, кухню и выскочить из раскрытой настежь двери посудомойки на задний двор клиники. Десять шагов до забора, подтянуться, прыгнуть… И никто никогда не узнает, как заработал он свой гонорар.
А вторая половина скромных сбережений того, кто лежал сейчас в операционной тщательно пересчитывались одним из блюстителей порядка. (Да здравствует бесплатная советская медицина!) И сумма эта была занесена в протокол. И подписи свои в нем поставили понятые. В их числе и ошарашенная, отказывающаяся верить своим глазам ассистентка хирурга Майя Дашевская.
… Порхая с цветка на цветок, она приблизилась к сводчатому углублению в скале. Что ее дернуло влететь в пещеру? Любопытство? Кокетливое желание всюду сунуть усики, наперекор своему страху? Как бы там ни было, она влетела в пещеру и, само собой, вскоре заблудилась в мрачном каменном лабиринте.
Через два дня, выбиваясь из сил, чудом уйдя от стаи летучих мышей, она вылетела из темноты в ярко освещенную красочную залу. Огромный чешуйчатый ящер спал посередине ее. Бабочка, не долго думая, подлетела к нему и села ему на нос.
Василиск, потревоженный прикосновением, открыл глаза и обомлел. Бабочка. Словно послание из того мира, который он потерял навсегда. Он осторожно пересадил ее с носа на палец.
— Как тебя зовут? — спросил он, стараясь говорить как можно мягче.
— А что такое «зовут»?
— Как твое имя?
— У меня нет имени. Мне оно ни к чему. Помоги мне выбраться отсюда. Мне нужно любить, а кого я буду любить здесь? Помоги мне.
— Знаешь, это довольно сложно. Я не могу приказать сделать это своим слугам, потому что они обязаны будут убить тебя: находиться здесь могут только имеющие змеиные души. Закон этот выше даже моей великой власти.
— Тогда вынеси меня отсюда сам.
— Ладно. Но тебе придется потерпеть. Я нечасто выхожу на поверхность. Если я сделаю это до положенного срока, вассалы мои и слуги заподозрят неладное и выследят тебя. Я думаю, нам придется поступить так. До положенного срока, несколько недель, ты поживешь здесь. Я спрячу тебя. А потом, когда придет срок, я тайно вынесу тебя.
— Я вижу, несладко тебе тут живется, — взглянула она внимательно в его глаза.
— Власть обязывает, — уклончиво ответил василиск и, вытряхнув из янтарной шкатулки несколько ниток жемчуга, поставил ее перед бабочкой. — Пока ты будешь жить здесь.
— Здесь? — удивилась та, вспорхнула, села на дно шкатулки. Потом, примериваясь, сложила крылья и прилегла. — Ладно, — согласилась она. — А кого я пока буду любить? Я должна.
— Люби пока меня, — предложил василиск, и ему вдруг показалось, что его каменное сердце забилось в груди чуть сильнее.
— Тебя? — бабочка с сомнением оглядела гигантского ящера. Слезинки досады навернулись ей на глаза. Но, вздохнув, она мужественно согласилась. — Ладно. Буду любить тебя.
— Вот только, что ты будешь есть? — нахмурился василиск.
— Вообще-то, я могу совсем не есть. Я люблю попить нектар, полакомиться пыльцой, но это только для удовольствия. Добывала пищу и ела ее моя гусеница, мое дело — петь, танцевать и любить, а не думать о пище… Хотя, мне так нравится нектар… — снова вздохнула она.
— Знаешь что, — сделал вид василиск, что не слышал ее последних слов, — давай, я все же буду как-нибудь звать тебя. — (Идея уже пришла ему в голову).
— Как?
— Когда-то давно я любил одну женщину, и я хотел назвать ее бабочкой. Но не успел. Так давай же теперь я тебя, мою любимую бабочку, буду звать Майей, так, как звали ту женщину.
Бабочка призадумалась. Потом ответила:
— Хорошо. В этом имени есть что-то весеннее: май — Майя.
— Ну что ж, — сказал он, берясь за крышку шкатулки, — мне придется проститься с тобой. До завтра, Майя.
— До свидания, — покорно склонила голову бабочка, — возвращайся поскорее… любимый.
— Они оба не заметили, как тоненькая змейка, таившаяся доселе в расщелине между камней, поспешно юркнула прочь.
XI
Один в комнате общежития. В той самой комнате. Один. Он уже знал, что враг его повержен и сейчас, лишенный всего, даже свободы, находится в следственном изоляторе. Но вместо торжества или хотя бы облегчения он чувствовал что-то напоминающее скорее угрызения совести. И еще: он был один.
«Какая тоска. Какая скука. Боже ж ты мой, ну случилось бы хоть что-нибудь…» — так думал он засыпая, стараясь не обращать внимания на послеоперационную ноющую боль в груди. И судьба сжалилась над ним. Когда он проснулся, НЕЧТО случилось: всего его, с ног до головы, покрыли грибы. Такие, какие можно встретить в лесу на стволах деревьев.
Они были везде — на ногах, на руках, на животе, на груди, а один несимметрично торчал чуть левее середины лба. Он встал и босиком прошлепал к зеркалу. Вот это да!.. Он попробовал отломить один, слева подмышкой (он не давал ему опустить руку вдоль тела). Ощущение было такое, словно пытаешься отодрать от пальца ноготь. Из образовавшейся между телом и грибом щелки выступила капля розоватой полупрозрачной жидкости. Он потянул сильнее, и боль стала нестерпимой, а из щелки засочилась кровь. Пришлось отказаться от этой затеи, но подмышкой саднило до вечера.
До самого душного, самого невыносимо душного вечера в его жизни, во время которого он метался по комнате, не зная, что предпринять: выйти он в таком виде не мог, телефоны в общежитские кельи пока что не проводят… Оставалось одно — ждать неизвестно чего. А духота сгущалась и сгущалась.
И вот, за несколько минут до полуночи, грянул гром, и ливень застучал в подоконник. Ему стало немного полегче. И он почувствовал, что чертовски проголодался. Но все, что могло быть съедено, было съедено им еще в обед, в дверце маленького и пустого холодильника одиноко стояла бутылка коньяка. А, вобщем-то, это как раз то, что ему нужно.
Он сел на мокрый подоконник, так, чтобы ни один гриб ни за что не цеплялся, налил себе полстакана коньяку и залпом выпил его… И в этот миг грянул яростный раскат грома, такой, что, казалось, небо, не выдержав натяжения на пяльцах горизонта, лопается посередине. А еще через несколько секунд, когда стрелки часов окончательно сошлись на цифре 12, на темной противоположной окну стене вдруг вспыхнула, дрожа, яркая алая точка размером с копейку.
Она светилась сильнее и сильнее, подрагивая при этом все с большей и большей амплитудой. Она вроде бы как пыталась сорваться с места, а некая магнетическая сила удерживала ее. Но, в конце концов, она сорвалась-таки и побежала по стене, оставляя за собой алую пылающую надпись:
«Сказано так в книге Владыки сущего: и один раз лишь в тысячу лун явится тот скверный, кто употребит сердце свое на пагубу спасителя своего, и быть тому василиском мерзостным, и быть ему сожранным преемником своим».
Я почувствовал дикий животный ужас: значит, эти грибы не странная, страшная, но временная болезнь, а нечто длительное, что закончится вовсе не выздоровлением, а полным перерождением черт знает в кого.
«Действительно, — поздно осознал я, — что может быть подлее? Ведь я засадил в тюрьму того, кто спас мне жизнь! Ради чего? Из ревности? От ощущения униженного честолюбия. Но ведь и Майя хотела мне только добра. Да, я достоин лютого наказания. Я — чудовище».
И я крикнул в ночь:
— Я — чудовище!
Но мне ничуть не полегчало. Вспыхнула и мгновенно перегорела спираль небесной электролампочки, чуть озарив подмоченный мир. Тут я подумал: «Я — главный виновник. Я был ослеплен яростью. И я наказан. А Гендос? Он все понимал, но не остановил меня; куда там, напротив, он с радостью помог мне совершить подлость. Собака».
— Гендос — собака! — крикнул я, и мне согласно подмигнула очередная зарница. Знал ли я, что означают эти вспышки после моих слов? Что это — знак подтверждения и согласия некоего Владыки сущего. И в то утро, когда я обнаружил, что мои «грибы» становятся все тоньше и жестче, превращаясь в твердые, как сталь и блестящие, словно слюда, чешуйки, Гендос проснулся уже немножко собакой: по всему телу миллиметра на два высунулась щетина и показался кончик хвостика.
Обнаружив все это, Гендос хотел было вскрикнуть, но вместо того, скорее, слегка взвыл. И проснулся окончательно. Вскочил с постели и грохнулся на четвереньки: спина не желала принимать вертикальное положение. Держась за мебель, он заставил-таки себя выпрямиться. Его неудержимо влекло вниз, но он встал и даже попытался сделать шаг. И тут с грохотом рухнула полка, в которую он упирался. Он взвизгнул, испуганно отскочил от нее, упав снова на четвереньки и испытывая огромное облегчение от того, что больше не надо вставать. Поскуливая и теперь буквально на глазах (если бы было кому смотреть) обрастая густой черной шерстью, он кругами забегал по комнате, пока не нашел, наконец, дверь.
… Я — василиск. С шеи и до кончика хвоста я закован в доспехи из алмазных пластин, а голова моя покоится в футляре из платины. Я знаю, что я — властелин змеиного княжества, хозяин подземных богатств и носитель множества магических свойств. Я знаю, как мне попасть в свой дворец и взойти на блистательный трон мой. Я знаю свое единственное предназначение — повелевать. Эти знания возникли в моем мозгу так же неожиданно, самостоятельно и полно, как изменился я внешне. Я знаю, также, что, прибыв на место, я некоторое время буду увеличиваться в размерах, поедая останки своего предшественника, пока не достигну длины в тринадцать метров, после чего лишь мое перерождение закончится.
Я выскользнул за дверь на площадку, быстро сполз по лестнице вниз, вышел на мокрую ночную улицу и, с шелестом прижимаясь к холодному камню стен, изгибаясь под прямым углом на поворотах, двинулся по пустынным шоссе в заданном только что родившимся инстинктом направлении. Прохожая, пожилая женщина, вскрикнула и отшатнулась, увидев меня. Я скользнул по ней взглядом, и она превратилась в статую из хрупкого минерала. Статуя, потеряв равновесие, упала и разбилась на тысячу кусочков. Возле кучки щебня на тротуаре остался лежать раскрытый зонт.
… Подземный источник. Несколько суток вплавь в кромешной тьме. Бег по пещерным лабиринтам недр. Бой с огромным, но неповоротливым ящером. Победа. Восхождение на престол и пышная феерическая коронация. Все это заняло верхний слой его памяти. Но не смогло напрочь вытеснить память человека. Однако, с каждым днем все труднее ему становилось вспомнить, что уж такого привлекательного он находил раньше в том, чтобы быть мягким и теплым, как гейзерная жижа.
XII
Все стремительно менялось в жизни Майи Дашевской. Сначала — внезапная сумасшедшая любовь. Потом — отвратительная сцена обвинения ее в предательстве. Еще через день ее любимый (а сейчас, в то же время и ненавидимый) человек лежал на операционном столе со вскрытой, как консервная банка, грудной клеткой. А после операции — арест человека, которого она боготворила.
Чтобы не травмировать больного своим видом в послеоперационный период (да и самой ей было больно видеть его), чтобы осмыслить все происшедшее, Майя взяла отпуск и поехала домой, к маме. Поела «своих» овощей с огорода, позагорала на берегу речки. Буря в душе ее мало-помалу улеглась, и она все чаще корила себя за черствость и эгоизм, и решила, что, вернувшись, каких бы унижений ей это не стоило, заставит его понять и поверить, что она не предавала, не отрекалась, что она любит его. А уж потом пусть ОН вымаливает прощение у нее.
И, когда отпуск закончился, она дважды приходила в общежитие к его двери. И дважды дверь оставалась мертвой. И когда во второй раз участливая старушка-вахтер ехидно спросила: «Неужто и записки не оставил?» и добавила: «Его уж недели три как тута нету», она окончательно уверилась: он вернулся к семье. А значит, она, Майя, никогда больше, как бы ни было ей больно, не станет искать с ним встреч, пытаться что-то ему объяснить.
А сегодня ее по селекторной связи вызвали в кабинет шефа. В кабинете зам, округлив глаза, объявил, что звонили прямо ОТТУДА (он потыкал пальцем в потолок) и велели передать, чтобы она немедленно шла в горисполком получать ключ и ордер на квартиру.
Первое, что она почувствовала — горечь: та самая дурацкая квартира, из-за которой он возненавидел ее. Но горечь уступила любопытству, и она отправилась, куда было сказано.
В горисполкоме разговаривали с ней не просто вежливо, а с каким-то неприличным подобострастием. А уже через полтора часа она стояла на пороге своего нового жилища. Она не верила своим глазам: огромный коридор, три комнаты с высоченными потолками, балкон, лоджия, паркетный пол… На миг в голове мелькнуло, что здесь они, наверное, были бы еще счастливее, чем в его комнатушке, но она поспешила загнать эту мысль поглубже.