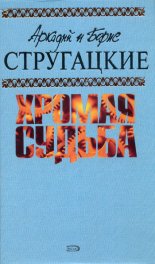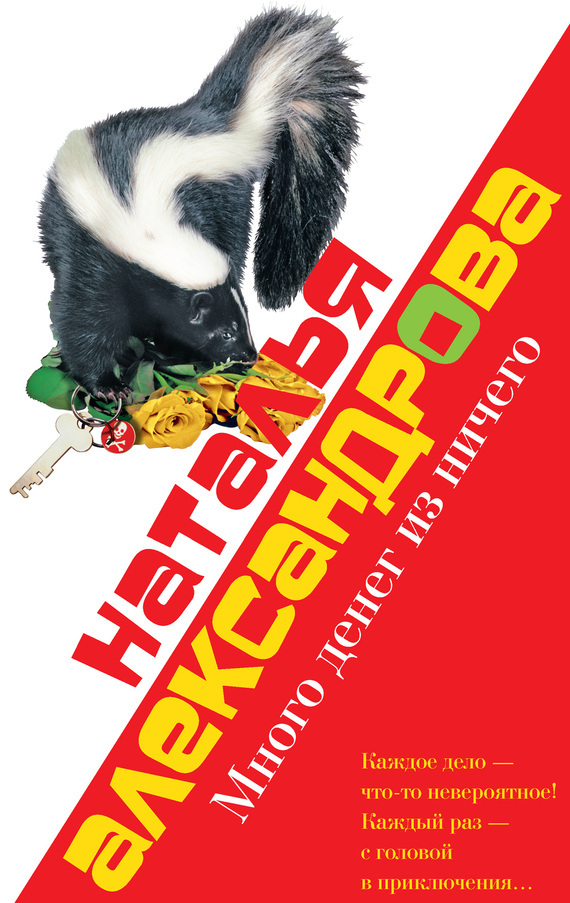А. С. Секретная миссия Бушков Александр
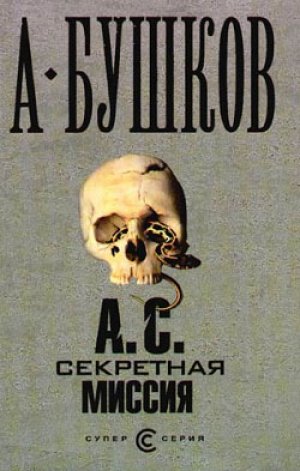
Читать бесплатно другие книги:
«Машина желаний» киноповесть (киносценарий), один из вариантов «Пикника на обочине»....
Перед Вами – сценарий художественного фильма «Сталкер» Андрея Тарковского. Общеизвестно, что сценари...
Бывшие мошенники, а ныне преуспевающие детективы красавица и умница Лола и ее верный друг, хитроумны...
Оставшись в Нимриане, Дэвид Брендом нанимается в охрану каравана, курсирующего между Темными и Светл...