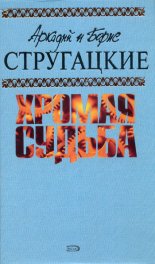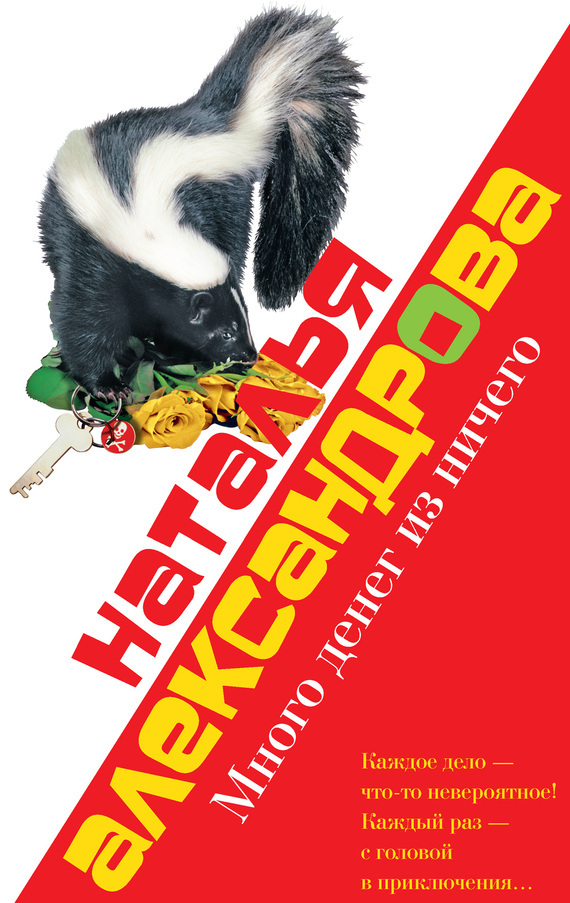А. С. Секретная миссия Бушков Александр
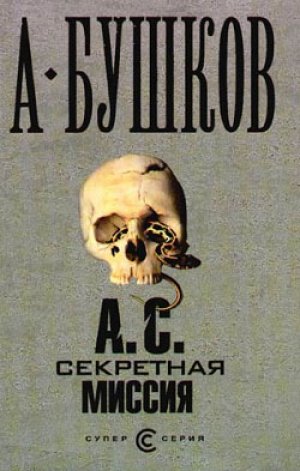
– Вам известны лица, в ней состоящие? Вы имеете возможность с ними снестись и попросить помощи? То-то. И уж совсем нелепо выглядели бы действия против мадьярской дворянки госпожи Палоттаи… Вы хотите что-то сказать?
– Они зачем-то слетелись сюда, в Петербург, – сказал Пушкин. – Я никогда не поверю, что ими движет лишь желание увидеть наши достопримечательности. Что-то они замышляют… А эти господа не из тех, кто балуется мелочами.
– Что именно?
– Не знаю. Не могу сказать… точнее, никак не могу свести всё в единую картину. Смысл ускользает, не переходит в слова. Иногда кажется, что вот-вот удастся понять… Нет. Я не могу сложить мозаику.
– Вот видите, – сказал Бенкендорф. – Нам не остается ничего другого, кроме как держать этих… субъектов под самым пристальным наблюдением и надеяться, что мы сможем что-то наконец понять. – Его осунувшееся лицо на миг показалось совсем старым. – Ничего больше мы не в состоянии сделать, господа. Либо ожидание, либо подозрения в нашей умалишенности… Нет у нас другого выбора. Лежите уж, Александр Сергеевич, набирайтесь сил. Авось…
Когда за выходящими мягко затворилась дверь, Пушкин еще долго сидел, уставясь в одну точку, с зажатым в руке погасшим чубуком. Никого из ушедших он ни в чем не винил, они не могли прыгнуть выше себя и взять препятствия, которые взять для человека невозможно. Винить следовало в первую очередь себя – свою полнейшую неспособность соединить в одно непонятно куда и откуда ведущие ниточки. Собственные тупость и бессилие сводили с ума.
Он перевел взгляд на перстень Ибн Маджида – сердоликовое кольцо сохранилось в неприкосновенности. О разговоре с Мирзой Фирузом он ничего не сказал только что ушедшим – потому что возникло ощущение, что с какого-то момента началась его собственная война, на которой он уже потерял двух друзей, а потому жаждал мести. В конце концов, никто ничем не мог ему помочь, а следовательно, не стоило и отягощать лишними заботами начальство…
Через три четверти часа на улицу вышел известный поэт Александр Сергеевич Пушкин – в однобортном сюртуке синего цвета с бархатным воротником (того же цвета, как и предписывает светская мода), безукоризненных палевых панталонах, глазетовом жилете и белоснежной рубашке из английской шелковой материи в узенькую полоску. Шейный платок, светлее фрака, был повязан опять-таки безукоризненно, а сапоги начищены до блеска. Он небрежно помахивал своей всегдашней тяжелой тростью, но на сей раз пистолетов при нем не было – поскольку оказались бы совершенно бесполезны.
Все встретившиеся ему по дороге знакомые, раскланявшись, делали вывод, что Александр Сергеевич, судя по всему, пребывает в самом беспечном, даже веселом настроении, поскольку именно такое впечатление он производил даже издали. Должно быть, дела его, следовал отсюда вывод, идут успешно, и для огорчений нет ни малейшего повода.
Мнения эти не так уж и расходились с истиной. Он чувствовал разлившийся по всем жилочкам злой и веселый, пьянящий азарт боя. Не было ни страха, ни сомнений. Слишком хорошо помнил, что даже у себя дома, во Флоренции, эти существа не смогли причинить ему настоящего вреда – тем более не стоило опасаться всерьез едва шагнувшего в первую половину дня Санкт-Петербурга.
Он прекрасно знал этот особняк, сто раз проходил мимо – хотя внутри бывать не доводилось, хозяева постоянно сдавали его внаем, и среди наемщиков ни разу не оказалось знакомых Пушкина, знакомых его знакомых, словом, никого из тех, к кому он мог бы прийти в гости или по делам.
Сейчас ему пришло в голову, что это, пожалуй, неспроста. Добрый десяток лет дом сдавался людям, жившим словно бы отдельно от светской жизни Петербурга, людям, которых, если вдуматься, никто не знал: нелюдимый помещик из какой-то далекой губернии, ни у кого не бывавший и у себя не принимавший, отставной полковник (опять-таки из забытого Богом гарнизона, черт побери!), столь же мизантропически настроенный. Чудаковатая старая барыня, спавшая днем и бодрствовавшая ночью – с теми же свойствами характера. Непонятный иностранец, тихий, как мышка. И вот теперь, в полном соответствии с традицией…
Нет, на сей раз традиция вроде бы нарушилась: очаровательная мадьярская графиня вовсе не вела жизнь затворницы. Но, учитывая все предыдущее, начинаешь всерьез подозревать, что все эти годы в самом центре Петербурга благоденствовало гнездо – надежно защищенное писаными и неписаными законами цивилизованного общества…
Взбежав по ступенькам, он решительно позвонил в колокольчик. Дверь отворилась практически мгновенно, будто кто-то стоял при ней неотлучно. Перед Пушкиным оказался картинный, прямо скажем, субъект – красавец гвардейских статей, облаченный в венгерский кафтан из зеленого бархата, расшитый на груди на манер гусарского ментика золотыми шнурами. Черные усы были длиной чуть ли не с локоть, кудри и бачки тщательно завиты, а на поясе красуется самая настоящая сабля, обложенная золотом и украшенная самоцветами. Удивительное дело, но этот молодец вовсе не производил впечатления ряженого, как это случается сплошь и рядом с гайдуками и лакеями, по прихоти хозяев вынужденными наряжаться гусарами Фридриха Великого, эфиопскими принцами или польскими шляхтичами времен турецких войн Речи Посполитой. Красавец выглядел так, словно носил это платье с раннего детства, непринужденно и даже гордо…
– Месье? – вежливо, выжидательно спросил субъект в венгерском кафтане.
Это обращение оказалось в столь вопиющем противоречии с его старинным обликом, что Пушкин едва сдержал улыбку. И сказал с непринужденностью светского петербуржца:
– Я хотел бы засвидетельствовать свое почтение графине Паллоттаи. Это возможно?
– Позвольте узнать ваше имя…
– Александр Пушкин.
Не изменившись в лице, нисколечко не медля, красавец ответил с белозубой улыбкой:
– Вас, Александр Сергеевич, графиня готова принять в любое время. Прошу.
И посторонился, плавным жестом предлагая пройти вперед. При этом сабля на его боку колыхнулась так степенно, что не осталось никаких сомнений: она настоящая, тяжелая, боевая. Придется следить, чтобы не получить этой саблей по темечку – в доме, подобном этому, такие предосторожности вовсе не выглядят пустыми страхами… Иные магические предметы, как выяснилось на собственном опыте, способны надежно защитить даже от серьезной нечисти, но падающая на затылок сабля – предмет насквозь материальный, если можно так выразиться, житейский, и от него не спасешься ни молитвами, ни оберегами…
Памятуя свои прошлые приключения в Новороссии, он улучил момент, чтобы посмотреть на провожавшего его по анфиладе великолепно обставленных комнат человека краешком глаза – что порой позволяет увидеть скрытую за маской истинную личину…
Не отшатнулся, ничем не выдал своих чувств. Скорее уж ощутил нечто вроде удовлетворения: ну да, надо было предполагать…
Остались и кафтан, и сабля – но вместо человеческого профиля он увидел нечто, не имеющее с таковым ничего общего: низкий скошенный лоб, вытянутое вперед рыло, полное отсутствие подбородка, красноватый отблеск выпученного глаза, вроде бы белый кривой клык. Не из простых свиней эта свинья, господа мои, стоит остеречься. Зря, пожалуй, оставил дома пистолеты, ну да сделанного не воротишь…
Наглость, конечно, неописуемая: прикинувшиеся людьми непонятные твари средь бела дня, в центре Санкт-Петербурга… а впрочем, как неопровержимо явствует из пережитого недавно, то же самое происходит не в одной европейской столице, притом – которую сотню лет.
На миг в душе ворохнулся гаденький, неправильный, липкий страх: можем ли мы в этих условиях победить? Или, по крайней мере, поставить дело так, чтобы эти создания снова, как обстояло в незапамятные времена, прятались по диким, необитаемым местам? Ногой не ступая в человеческие города? Не обернется ли цивилизация, материализм, вольномыслие против человечества?
Он вздрогнул и пошел дальше, решительно ставя ногу, – нельзя было даже и в мыслях поддаваться слабости, кто знает, как и что они способны чуять. Рассказывал же Мирза Фируз про одного из двенадцати витязей Сулеймана, который в решительный момент на один-единственный миг дрогнул – и поплатился жизнью, несмотря на кольцо…
Анфилада закончилась высокой дубовой дверью, покрытой великолепной резьбой, показавшейся Пушкину совсем непохожей на обычную петербургскую, пусть и искусную работу – было в этих узорах нечто, вовсе не отвратительное, не пугающее, но настолько иное привычному людям искусству… Да и позолоченная ручка казалась сделанной не для человеческой руки, а для чего-то совершенно иного…
«Мадьярец» распахнул дверь, склонился в поклоне – не почтительном лакейском, не учтивом дворянском: низко-низко, на тот манер, что принят был в царствование, скажем, Иоанна Грозного свет Васильевича, коснулся ковра кончиками пальцев. Остались подозрения, что сделано это было исключительно в целях насмешки. Или они настолько уверены в собственных силах, что деликатничать не видят смысла? Не стоит ломать над всем этим голову. Нужно помнить о главном, что рассказал Мирза Фируз: при всех своих сверхъестественных способностях джинны начисто лишены возможности предвидеть будущее, даже самое близкое, в чем, несомненно, кроется их ахиллесова пята…
За дверью, надо же, обнаружилась ничем не выдающаяся гостиная, роскошно обставленная, но смахивавшая на десятки своих товарок в богатых, со вкусом устроенных домах.
– Прошу вас, дражайший Александр Сергеевич, – проговорил «мадьярец» уже с несомненной насмешкой в голосе, видя, что Пушкин задержался на пороге. – Вы у друзей, вам совершенно нечего опасаться, наоборот, окажись я, недостойный, на вашем месте, почитал бы себя счастливцем…
Пушкину пришла в голову неожиданная идея. Запустив руку в жилетный карман, извлек в целях научного эксперимента серебряный рубль и протянул его провожатому, сказав небрежно, тем тоном, каким и обращаются к людям:
– За труды, голубчик…
И ощутил разочарование: «мадьярец» от серебра не шарахнулся, не отдернул лапу. Преспокойно взял серебряный кругляк с двуглавым орлом, подбросил его на ладони и опустил в карман черных панталон, заправленных в высокие сапоги. Сказал почтительнейше:
– Премного благодарны, ваша светлость-с, в кабаке пропьем непременно и нынче же, а как же… Ну как, идете?
И осклабился, в человеческом облике, конечно – но ухмылка все равно была самая гадостная. Пушкин переступил порог, сделал пару шагов по великолепному ковру, покрытому теми же странными узорами, лежащими где-то вдалеке от человеческого искусства…
Яркое солнце ударило ему в лицо, а под ногами вместо ковра оказалась высокая трава неправдоподобной зелени и яркости, будто светящаяся изнутри… Да нет, не под ногами, она достигала щиколоток, а в некоторых местах поднималась еще выше. Вокруг вздымались столь же неправдоподобно зеленые и яркие деревья, ничуть не похожие на все, что ему доводилось видеть в жизни, словно бы и не деревья вовсе, а папоротниковые кусты, только исполинские, вздымавшиеся на невероятную высоту, если сравнивать с домами, то этажей выйдет не менее двадцати, пожалуй что, и крест Исаакия окажется пониже разлапистых вершин…
Солнце стояло слева – явственно отливавшее лазурью, голубизной, казалось больше и ярче обычного, сиявшего над тем миром, где он родился и прожил всю сознательную жизнь. Что-то летучее стремительно проносилось в вышине – ничуть не похожее на птиц, с длинными прозрачными крыльями, вспыхивавшими мириадами радужных вспышек. Пушкин, присмотревшись, стал подозревать в этих существах самых обычных стрекоз – но размеры, размеры! Этакая, не особенно и утруждаясь, слету подхватит и унесет барана…
Он почувствовал влажную, жаркую духоту – и это были не его собственные ощущения, вокруг и в самом деле сгустилась влажная жара, словно в натопленной бане, где уже щедро выплеснуто несколько ковшей кваса на раскаленные камни.
Это был другой мир, совершенно чужой – и даже окружающая тишина казалась не то чтобы зловещей, а иной…
Протяжный звук, нечто среднее меж ревом и мычанием, пронесся справа, заставив вздрогнуть. Исполинские папоротники, росшие не особенно густо, едва заметно покачивали под ветерком изящными листьями, под каждым из которых, пожалуй, мог без тесноты и толкучки разместиться конный эскадрон.
Страха не было – только безмерное удивление перед этим загадочным местом.
Потом впереди, меж двумя изящно-великанскими деревьями показалось что-то белое, стало приближаться.
Очень быстро он узнал Катарину, она шла в высокой траве неторопливой, спокойной походкой, поступью хозяйки, на ней было непривычное платье – короткое, едва прикрывавшее ноги, открывавшее плечи и грудь, но не похожее на наряд древнегреческих вакханок, каким его представляют художники и скульпторы: простенькое и вместе с тем таившее непонятную вычурность, словно белоснежное облако каким-то чудом превратилось в трепетавшую вокруг стройной фигуры материю из сказок. Она уже не была темноволосой – вновь на плечи падали золотистые кудри, и солнечные лучи играли в них золотисто-синими искрами. Голубые глаза… У него не было слов. Она была сейчас столь пленительной, словно соединила в себе красоту всех женщин мира, глядя на нее, хотелось плакать и смеяться одновременно, она была, как музыка, как волшебная песня…
Она была уже совсем близко – и, увидев его, улыбнулась с такой искренней радостью, какой и не должно было существовать на земле…
То, что он намеревался сделать, ради чего пришел, показалось вдруг настолько подлым, грязным, позорным, что Пушкин буквально сотрясся в корчах от презрения к самому себе…
И взял себя в руки величайшим усилием воли. Заставил себя вспомнить, что все, от чего расплывается в умиленной улыбке лицо и поет сердце – наваждение, морок, коварство, что перед ним не пленительная женщина из плоти и крови, а невероятно древнее существо, не имеющее никакого отношения к роду человеческому, наоборот, пылающее к людям злобой и ненавистью, которые они не в состоянии осознать…
И стал все же чуточку трезвее, холоднее, исполнился прежней решимости – но некая часть сознания оставалась во власти наваждения. Не настолько, впрочем, чтобы перебороть прежнего господина Пушкина, прилежного сотрудника известной экспедиции…
Катарина остановилась перед ним, подала руку – и, как ты себя ни настраивай на трезвомыслящий лад, невозможно отделаться от впечатления, что держишь в ладони теплые, тонкие, изящные девичьи пальчики, и хочется приложить их к щеке, к губам, а далее поднять руку несмело, как мальчик, одними кончиками пальцев коснуться золотистой пряди, шеи, плеча…
Перед глазами у него встало лицо графа Тарловски, насквозь пронзенного острием, – удивленное, без гримасы боли. И взгляд Алоизиуса – остановившийся, мертвый, но все равно упрямый…
И наваждение, охватившее его сладкими волнами, рассеялось едва ли не вовсе. Вернулась яростная злость.
– Я так рада, что вы пришли, милый Саша… – сказала она, открыто и улыбчиво глядя в глаза.
Шагнув назад, Пушкин вырвал руку из ее пальцев и спросил неприязненно:
– Что это за место?
– О, это прекрасное место… – отозвалась она, полузакрыв глаза. – Это место из тех времен, когда на Земле еще не было никого из в а с, да и времен не было – а вот мы уже владели всем миром…
– Ностальгия? – насмешливо поинтересовался он.
– А что в этом преступного? – Катарина пожала плечами. – Я рада, что ты пришел. И рада, что у тебя все хорошо. До меня доходили слухи, что ты угодил в неприятности…
– Которыми ты же и руководила?
– Милый, что за беспочвенные подозрения! Во-первых, у меня нет времени руководить проказами и будничными хлопотами моих мелких… а во-вторых, что гораздо важнее, я подобными убогими проказами не занимаюсь, для меня это чересчур низко. Ты же не чистишь сам себе сапоги? Вот видишь… И наконец, самое важное: я ни за что не стала бы причинять тебе вред. Потому что все еще надеюсь увидеть тебя здесь. – Она грациозным жестом обнаженной руки обвела окружающую местность. – Ты понимаешь, о чем я?
– Понимаю, – сказал он угрюмо. – И есть у меня сильные подозрения, что все истории о рыцарях, влюблявшихся в наяд, дриад и прочих русалок с феями берут основание не на пустом месте…
– Ну разумеется, – кивнула она с обворожительной улыбкой. – И что в том плохого, если речь идет о самой пылкой и романтической любви?
– Все эти истории плохо кончались.
– Признай, что далеко не все… Ведь правда?
– Не отрицаю, – сказал Пушкин. – Дела это не меняет ни в малейшей степени…
Катарина заглянула ему в глаза:
– Ты держишься так, словно я в чем-то перед тобой виновата…
– Ну разумеется, – сказал он твердо. – Ты убила моих друзей. Там, в Праге, я тебя ни разу не видел, вообще не знал еще, что ты существуешь, но без тебя, конечно, не обошлось…
– Тебе не кажется, что называть их друзьями было бы чересчур поспешно?
– У нас был общий враг. А это уже кое-что…
– Брось, – сказала Катарина, казавшаяся сейчас олицетворением задушевности и простоты. – Тебе вовсе не обязательно продолжать эту глупую войну, потому что лично к тебе я…
Он ощущал в себе достаточно сил, но все же не на шутку боялся, что может дрогнуть, поддаться наваждению. И потому, старательнейшим образом повторив в памяти все, полученное от Мирзы Фируза, поднял сжатую в кулак руку с кольцом на пальце, обратив вырезанные на перстне знаки прямехонько в ее сторону. Воскликнул:
– Агузу би-ллахи мин аш-шайтан ар-раджим!
Не только лицо Катарины, но и вся окружающая местность исказились гримасой, взвыл необычно могучий, тугой ветер, раскачавший исполинские папоротники так, что вершины иных гулко хлестнули по земле.
Теперь главное было – не сбиться, иначе живым отсюда уже не выйдешь… И Пушкин старательно, громко повторял, уже из Корана, как полагалось:
– И есть среди нас предавшие себя Аллаху, и среди нас есть отступившие; а кто предал себя, те пошли прямым путем, а отступившие – дрова для геенны…
Ветер выл, свистел, ревел, с оглушительным треском рушились папоротники, Пушкина едва не накрыла огромная ветвь, шлепнувшая по земле совсем рядом, но он стоял, расставив ноги, покрепче упершись ими в землю, продолжал:
– А если бы они устояли прямо на пути, мы напоили бы их водой обильной, чтобы испытать их об этом; а кто отвращается от поминания Господа своего, того введет Он в наказание тягостное… Места поклонения – для Аллаха, поэтому не призывайте с Аллахом никого!
Вокруг происходило что-то странное – равнина, покрытая поваленными папоротниками и высокой травой, стала словно бы таять, как дым или туман, сквозь нее просвечивала обстановка той самой роскошной гостиной, с коврами и золоченой мебелью, с высокими малахитовыми вазами в углах. И вскоре равнина стала отдельными обрывками, плававшими в воздухе, как куски кисеи, их становилось все меньше и меньше, они таяли, таяли, таяли…
Невероятно стройная женская фигурка в невесомом белом платье, стоявшая перед Пушкиным, менялась на глазах. Кожа ее становилась все более белой, а там и прозрачной, словно эта самая красивая на свете женщина была отлитой из стекла и наполнена чем-то темным, колышущимся – а потом стало ясно, что это пламя, жарко заблиставшее в глазницах, в ноздрях, во рту, рвавшееся наружу…
Невероятно тонкие световые фигуры, повторявшие рисунки знаков, метнулись из кольца, ослепительным пучком вонзились в невыразимо прекрасную стеклянную маску, освещенную изнутри переливами ало-желтого огня. И тогда он закричал последнее, главное:
– Ты, существо, сотворенное не из глины звучащей, а из огня знойного! Умри, во имя Сулеймана Ибн Дауда, исчезни во имя Аллаха!
Нечеловеческий визг, от которого, казалось, рассекается череп, наполнил комнату. На месте Катарины, на месте налитой огнем стеклянной фигуры взметнулись языки пламени – сначала ослепительно белые, потом алые, желтые и, наконец, черные. Пушкин в жизни не подумал бы, что огонь может быть черным – но именно черные языки, неописуемо прекрасные, метались перед ним, играя тысячами оттенков, всеми цветами, какие только есть на свете…
И все кончилось. Что-то белое упало перед ним на ковер, сминаясь, превращаясь в комок – легкое, невесомое на вид. Он наклонился, без малейшей брезгливости ухватил, поднял.
Это было что-то вроде легчайшей, будто пух, оболочки, в точности повторявшей человеческое тело – и черты лица тоже. Оно ничуть не походило на куклу, содранную кожу – из продолговатого кома вдруг проглянулось совершенно живое, казалось бы, лицо Катарины, разве что застывшее без выражения, с провалами вместо глаз…
Пушкин, вскрикнув, отбросил это – и оно стало рваться, обратившись словно бы в стайку белоснежных мотыльков или вихорек поднятых порывом ветра клочков легчайшей белой бумаги, а потом растаяло, как снег на шубе вошедшего в жарко натопленную переднюю человека.
Вокруг тоже что-то происходило. Тихие шорохи превратились в громкое неприятное хлюпанье, клокотанье, раздавались там и сям звонкие шлепки, словно с потолка падали огромные капли чего-то жидкого, но липкого и тяжелого, тяжелее воды.
Гостиная обращалась во что-то омерзительное. Прекрасные малахитовые вазы превратились в оплывшие комья ядовито-зеленого цвета, на глазах оседавшие, растекавшиеся, золоченая мебель приобрела уродливые формы, таяла, будто брошенный на раскаленную плиту кусок воска, пушистые ковры под ногами покрылись ширившимися дырами, словно их с невероятной быстротой пожирали стаи невидимой моли… Все вокруг распадалось, таяло, оплывало, растекалось, воняло гнилью и падалью, хлюпало и булькало, со стен ползли серые потоки чего-то совершенно уже непонятного – исчезали обои и картины в золоченых рамах.
Дубовые двери ходили волнами, вспучиваясь и содрогаясь, испугавшись, что стихия разрушения, распада увлечет за собой и его неведомо в какие грязные пропасти, Пушкин кинулся прочь. Ручка, за которую он ухватился, уже не была золоченой бронзой – она скорее напоминала корчившееся змеиное тело. Но открыть дверь все же удалось, он выскочил и кинулся сломя голову бежать по анфиладе… по анфиладе, напоминавшей бесконечный темный тоннель, где по стенам сползали бурлящие серые потоки. Ноги по щиколотку увязли в жидкой грязи. С потолка уже лились струи, пахнущие затхло и незнакомо.
Звонко зашлепали шаги. Два мохнатых, скрюченных тела, с невероятной быстротой передвигавшиеся на четвереньках, обогнали его, шумно расплескивая грязь, – а потом с налету врезались мордами в стену, даже не попытавшись выскочить в дверной проем, упали, корчась, шипя, жалобно визжа…
Не обращая на них внимания, Пушкин пробежал мимо. Темнота сгущалась, он буквально проламывался сквозь льющиеся с потолка толстенные струи густой грязи и бившие из-под ног фонтаны чего-то тяжелого, липкого. Нога, задевшая твердое препятствие, выворотила из грязи человеческий череп, Пушкин запнулся о него, удержал равновесие…
Сбоку сквозь грязевой ливень проломилась непонятная и несуразная, но, несомненно, человеческая фигура, кинулась к нему, уцепилась за рукав. Пушкин едва не отшвырнул ее ударом кулака, но каким-то наитием опознал в этой перепачканной грязью физиономии лицо человека, которого менее всего ожидал здесь увидеть – незадачливого кукольника Руджиери, бездарного продолжателя династии алхимиков и чернокнижников. Итальянец что-то подвывал, совершенно не владея собой, – и Пушкин поволок его к дверям, пожалуй, не из человеколюбия, а чисто машинально.
Вокруг окончательно разладилось, как будто с гибелью хозяйки дом был не способен существовать самостоятельно – широкая лестница, по которой они бегом спускались в вестибюль, сохранила форму и твердость – поскольку принадлежала все же нашему миру – но оказалась покрыта скопищем чего-то напоминавшего мокрые мелкие косточки, россыпью то ли больших ракушек, то ли крохотных черепов неведомых тварей, ноги скользили и вязли в этом месиве. То, что прежде было огромной вычурной люстрой, обратилось в громадный, порхавший под потолком скелет непонятно кого: торчат десятки костяков птичьих крыльев, переплетаются ажурные шары, опять-таки сплетенные из непонятных костей, высовываются повсюду длинные зубчатые черепа наподобие рыбьих, и эта фантасмагория в человеческий рост плавает под потолком, с которого льет дождь огромных, звонких капель серого цвета…
Растопыренной ладонью Пушкин с размаху ударил в высокую входную дверь, почувствовал под рукой живое, подавшееся, мохнатое и омерзительно холодное – но в глаза ему ударил солнечный свет, он сбежал по ступенькам, таща за собой кукольника, остановился на нижней, прислонясь к знакомому мраморному льву, не потерпевшему, конечно же, никаких метаморфоз. Огляделся в совершеннейшей растрепанности чувств.
Мир вокруг был самым обычным – петербургская улица, сколько-то часов пополудни. Прохожих немного, как обычно здесь в это время дня, так что никто не обращал на них внимания.
Оглядев себя, Пушкин с изумлением обнаружил, что его платье, лицо и руки совершенно чисты, как будто и не было долгого бега чуть ли не по пояс в грязи, как будто и не было студнеподобного ливня. Оглянулся. Дом выглядел как всегда – не особенно и роскошный трехэтажный особняк, невысокие колонны, поддерживавшие фронтон, два мраморных льва по сторонам парадной лестницы – не особенно и большие, изваянные уж явно не Микеланджело. Тишина. То, что происходило внутри, вроде бы не собиралось выплеснуться наружу. Трудно сейчас гадать, но, вероятнее всего, те, кто войдут вскоре в дом, обнаружат там не скопище непонятной грязи и уж безусловно не заросшие диковинными растениями равнины – спорить можно, увидят всего-навсего невероятно захламленные покои, в которых несколько десятков лет люди не жили вовсе…
Он разделался с гнездом, никаких сомнений. Вот только радости от победы не чувствовалось совершенно – еще и оттого, что смутно подозревал: это еще не победа…
Спохватившись, посмотрел себе под ноги. Руджиери – на котором тоже не усматривалось ни малейших следов грязи и мусора – полусидел-полулежал у низкого постамента, на котором помещался лев. Лицо кукольника Пушкину крайне не понравилось – оно на глазах заливалось нездоровой синюшной бледностью, Руджиери тяжко дышал, пытаясь правой рукой расслабить галстук, устремленные в небо глаза казались лишенными всякого выражения.
Не было времени на сочувствие, жалость, простое человеческое участие. Склонившись, Пушкин бесцеремонно ухватил итальянца за лацканы темно-красного сюртука, потряс и закричал ему в лицо:
– Что вы тут опять замышляли, скотина этакая?!
Лицо итальянца было отрешенным, как у глухого.
– И посыплются короны, как осенние листья… – пробормотал он, заводя глаза под лоб. – И посыплются короны… Вы их все равно не остановите, Алессандро… – И он разразился тоненьким, противным смехом сумасшедшего. – Вы, слабые людишки, бессильны перед древностью…
– Что ты здесь делал, мерзавец? – закричал Пушкин ему в лицо. – Ты ведь не мог сюда попасть случайно? Они тебя зачем-то привезли, ты им был нужен…
– Освобождение, – внятно выговорил Руджиери.
– Что? – недоумевающе спросил Пушкин.
Хихикая, итальянец отпустил галстук, поднял правую руку, суя ее чуть ли не под нос Пушкину. Присмотревшись, тот увидел на пальце кукольника перстень – вот только красный камень в оправе, державшийся, оказалось, на тонком золотом шпенечке, был сдвинут в сторону, и под камнем открылось крохотное углубление. Классическая, овеянная веками итальянская традиция – тайник в перстне, как правило, предназначенный для…
Вновь опустившись на корточки, Пушкин пригляделся. В правом углу рта итальянца, по-прежнему ухмылявшегося конвульсивно и зло, вздувались ярко-зеленые пузыри – и тут же лопались.
– Освобождение, – повторил Руджиери, изображая цепенеющим лицом подобие улыбки. – И провалитесь вы все в преисподнюю, дайте несчастному человеку покоя… черт бы побрал ваши сложности и хитросплетения… я всего-то-навсего хотел жить покойно и в достатке, и не более того… не нужны мне были никакие грандиозности… и джинны… и ты тоже, щенок… я хотел жить спокойно и богато, а вы все мне мешали, чума на ваши…
Его губы дрогнули и застыли, лицо оцепенело окончательно. Изо рта с шумом вырвался последний вздох, голова упала на плечо, и Руджиери уставился остекленевшими глазами куда-то сквозь Пушкина. Все было бесполезно, ускользнул, поганец…
Что-то потянуло правую руку к земле нешуточной тяжестью. В первый миг Пушкин дернулся, как от удара, показалось, что отзвуки только что завершившейся битвы достали его и на улице. Но очень быстро отыскал причину.
Сердоликовое кольцо Ибн-Маджида изменилось. Исчезла полупрозрачная теплота камня, перстень стал и на вид и на вес отлитым из чугуна – неприглядный темный обруч, неприятно давивший на палец, так что и в самом деле не мудрено было подумать в первый миг, что руку словно гирей отяготили. На месте искусно вырезанной надписи – щербинки и ямки, не имевшие ничего общего с письменами.
Он почувствовал грусть и нешуточную обиду, словно кто-то его жестоко обманул. Так не должно было быть – но случилось. Почему? Оттого, что кольцо исполнило свое назначение? Оттого, что Пушкин был другой веры, не той, что витязи Сулеймана? Кто бы мог объяснить…
Пора было уходить, пока не появились первые любопытные, не столпились зеваки, не получилась излишняя огласка и прочие хлопоты. Делать здесь более совершенно нечего.
Оглядев себя и приведя в порядок сбившийся шейный платок, Пушкин пошел прочь походкой никуда не торопившегося человека, чувствуя томительную тоску, от которой никак не мог отделаться: перед глазами с невероятной четкостью стояло лицо Катарины. Он понимал, что это существо не имело человеческого имени, что у него вообще не было ничего общего с человеческим родом, что красота была не более чем иллюзией из огня знойного – все он понимал, но поделать с собой ничего не мог, тоска не проходила, и он боялся, что придется жить с ней все оставшиеся дни. Разум оказался на одной стороне, а сердце – на другой. Он твердо знал, что никогда в жизни не увидит ничего более прекрасного, чем очаровательная женщина в белом платье, идущая по диковинной равнине, по зеленой траве несуществующих теперь времен. В голове стало что-то складываться. Иллюзии угодны сердцу… Нет. Иллюзии душе угодны, хоть отвратительны уму. А вот это уже было гораздо лучше. Итак… Иллюзии душе угодны, хоть отвратительны уму, а далее… Поневоле напрашивается рифма «благородны», но это чересчур банально, скорее уж «черты несходны»… и побуждения несходны…
Нет, он не мог сейчас думать о стихах. Терзался загадкой: он кого он уже слышал в свое время эти слова – касаемо королевских корон… или просто корон, уподобившихся осенним листьям? А ведь это было совсем недавно…
Глава седьмая
Бронзовый кондотьер
Сам по себе Илларион Дмитриевич Ласунов-Ласунский был личностью бесцветнейшей – ни злодей, ни добряк, ни острослов, ни зануда, одним словом, субъект, прямо-таки блиставший совершеннейшим отсутствием как грехов, так и добродетелей. Страстей в его размеренной жизни не было никаких, кроме одного-единственного пунктика. Во времена оны совсем тогда молодому поручику Ласунову-Ласунскому выпало три года прослужить одним из адъютантов светлейшего князя Потемкина незадолго до его кончины – и с тех пор он полагал, что его долгая, не лишенная приключений и наград, опасностей и приятностей жизнь была всего-навсего обрамлением этого самого трехлетнего адъютантства при человеке, коего отставной полковник полагал великим…
Портретов светлейшего в доме Ласунова-Ласунского было – не перечесть. Бюстов – аналогично. По стенам кое-где висели положенные под стекло и вставленные в золоченые рамки непритязательные бумажки с парой строк, собственноручно начертанных кумиром, – правда, общеизвестно, что с красотою почерка у Потемкина обстояло далеко не лучшим образом, как и с грамотностью, так что это не на всякого производило впечатление.
Не перечесть, сколько денег выманили у старика многочисленные проходимцы, выдававшие себя за впавших в бедность побочных внуков светлейшего, а то и троюродных племянников. Равно как несказанно обогатились и иные беззастенчивые антикварии, приносившие Иллариону Дмитриевичу те или иные вещицы, принадлежавшие якобы Потемкину (подлинность подавляющего большинства из них истинные знатоки держали под крепким сомнением, но в доме Ласунова-Ласунского о том и заикнуться не смели, чтобы не быть изгнанными за порог). Свои обширные воспоминания о службе при светлейшем бывший адъютант давненько уж грозился явить миру, но бесконечно их переписывал, расширяя и обогащая очередными скучнейшими подробностями, неинтересными никому, кроме него самого – а потому книгоиздатели доселе могли спать спокойно. Бывать у Ласунова-Ласунского оказывалось, как легко догадаться, сущим мучением: приходилось выслушивать нескончаемые монологи о былых временах, знакомые уже, как «Отче наш», от сих и до сих – и добро бы интересные, но касавшиеся опять-таки скучнейших, ничем не примечательных будней (так уж сложилось, что в свое время адъютант занимался при светлейшем делами третьестепенными, не способными привлечь даже честолюбивых молодых историков, по недостатку свершений и неопытности кидавшихся на всякие исторические пустяки).
Ну кому, скажите на милость, интересна сейчас фамилия интендантского майора, ведавшего доставкой в Новороссию соли, уксуса и табака? При том, что интендант этот – ворюга, конечно, как испокон веков за этим племенем водилось – жил удивительно скучно и казнокрадствовал так же, без малейшей фантазии, да вот поди ж ты, частенько бывал в канцелярии у Ласунова-Ласунского, являлся за распоряжениями светлейшего, курил с адъютантом чубуки, играл в шахматы, благодаря чему и стал неотъемлемой частью неизданных мемуаров.
Кому интересны ныне подробности и детали отправки в Аккерман бревен для строительства, а в Одессу – тесаного камня? Опять-таки лишенные интересных подробностей и примечательных исторических анекдотов. Но в свое время именно Ласунов-Ласунский по поручению светлейшего занимался этим предприятием – а потому любил его живописать подробнейшим образом.
Но одно примиряло со всеми неудобствами – знаменитые обеды Ласунова-Ласунского – как легко догадаться, построенные на вкусах светлейшего. Воспроизводить их в точности бывшему адъютанту было, конечно, не по силам и средствам: и поваров таких уже не сыщешь, и серебряного сервиза весом в пуды уже не заведешь, и рецепты иные утрачены. И все же в Петербурге только у Ласунова-Ласунского можно было отведать иные любимые Потемкиным блюда вроде ухи из аршинных стерлядей и кронштадтских ершей (хотя и готовилась она уже не в чане на двадцать ведер жидкости, как когда-то у светлейшего). Или увидеть подаваемую на стол свинью, одна половина которой была зажарена, а другая, благодаря искусству повара – сварена. Или поесть гусиной печенки, которую на манер Потемкина размачивали в меду и молоке, после чего размеры она приобретала невероятные. А была еще похлебка из рябчиков с пармезаном и каштанами, и телячьи хвосты по-татарски, и голуби по-станиславски, и телячьи уши крошеные, и бекасы с устрицами. Правда, далеко не всем приходились по вкусу говяжьи глаза в соусе, во времена Потемкина именовавшемся «поутру проснувшись». Злые языки передавали, что и сам гастроном-хозяин кушал последнее яство с глубокой внутренней неохотой – но чего не сделаешь ради поклонения кумиру, господа мои… Зато говяжья небная часть в золе, гарнированная трюфелями, а также горлицы а-ля Ноялев и гато из зеленого винограда были, безусловно, хороши.
Пушкин был завсегдатаем этих обедов – не только из-за хорошего стола, но еще из-за того, что там всегда можно было встретить Наталью Кирилловну Загремскую, дочь последнего гетмана Малороссии Разумовского, свидетельницу шести царствований, начиная от Елизаветы Петровны и включая нынешнее. Истинная барыня давно ушедшего времени, дама своеобразнейшая, пребывавшая, несмотря на годы, в здравом рассудке и твердой памяти, она была источником бесценных исторических сведений.
А также – единственной, кто мог сейчас за столом перечить Ласунову-Ласунскому и поправлять во всем, что касалось до светлейшего князя Потемкина – потому что была старше хозяина на четверть века, а в обществе вращалась в несравнимо более высших кругах, нежели когда-то скромный поручик, пусть и адъютант князя. Его еще и на свете-то не было, а Натали Разумовская уже блистала при дворе…
Князь Вяземский именовал ее «обольстительною владычицей» и сравнивал с пышным старинным портретом. Пушкин любил часами ее слушать – но не сейчас. Сейчас он сидел, полностью погруженный в собственные мысли, вяло ковырялся в поданных блюдах, частенько совершенно не слышал разговоров. Забота была прежняя: кусочки мозаики вертелись и плясали, не желая укладываться в целостное изображение, ну, а поскольку речь шла не о детской головоломке, которую в любой момент можно забросить навсегда…
Он встрепенулся, поднял голову, услышав имя Брюса.
За столом ему досталось место справа от Загремской (как бы он за такой случай благодарил Фортуну в другой раз!), а слева от нее помещался Грановский, ровесник Пушкина, делавший быструю карьеру по Министерству иностранных дел – молодой человек, как нынче водится, самых материалистических взглядов. Он-то и послужил объектом ворчания старухи.
– Вы, сударь мой, молодые вольнодумцы имеете право думать о Брюсе что вам угодно, в соответствии с вольтерьянством и этим, как то бишь его… атмосферным электричеством, – говорила она своим обычным тоном столичного генерала, ревизующего захолустный гарнизон. – Но уж и нам, ранешним, позвольте свое суждение иметь… Кузьма мне доложил утром, что ночью на Васильевском произошло странное событие – развалился в доски и щепу домик Брюса возле Гавани. И слава богу, долго ж его терпела на этом свете небесная канцелярия…
– Как же, наслышан, – сказал Грановский тем светским тоном, в коем насмешка не выражается явно, но прекрасно видна. – Тот самый домик, где он из букетов цветов делал натуральных девиц, золото из свинца изобретал, а также переговаривался с селенитами посредством волшебного утюга…
– Насчет селенитов и золота из свинца – врать не буду, не слышала. О девках из цветов полагаю, что это сплошная басня: Яков Вилимович Брюс, как все заграничные немцы, был человеком расчетливым и вряд ли стал бы тратить время и цветы на изготовление девок – этого добра и так хоть завались… о чем вы с Сашкой Пушкиным прекрасно осведомлены, хоть он и уткнулся в тарелку, делая вид, будто увлечен Музою… А вот про статуи, господа мои, говорили всерьез…
– Про какие статуи? – не вытерпел Пушкин, включаясь в беседу.
– А разве ты меня не расспрашивал?
– Не припомню, чтобы речь шла об этом…
– И зря, – сурово сказала Загремская. – Надобно вам знать, господа молодые насмешники, что Брюс обладал умением оживлять статуи… не в людей их превращать, а именно что оживлять на время, я имею в виду. И речь шла опять-таки не о прозаических девках, а о более серьезных… и жутких делах. При государе Петре Великом все, кто был от него поблизости, людьми были наперечет умнейшими, крупными, государственного размаха и полета… вот только они еще при этом были в полной мере подвержены влиянию порочных страстей. И предавались им, в соответствии со своей личностью, с небывалым размахом. Не чураясь того, за что людишкам помельче лоб клеймят и посылают за казенный счет в Нерчинск… Александр Данилыч Меншиков крал. Миллионами. Такой уж у них, судари мои, был размах и полет – красть, так уж круглыми миллионами, швырять людишек в медвежью яму – так по дюжине зараз, в карты дуться – так уж не на прозаические монеты, а на кучки брильянтов, как я своими глазами видывала при дворе матушки Екатерины. – Она обвела взглядом стол, у которого ножки ломились от блюд. – Кстати сказать, матушка кулинарные изыски откровенно недолюбливала и предпочитала блюда самые простые: разварную говядину с соленым огурцом да соус из вяленых оленьих языков. Но вот в карты игрывать предпочитала отнюдь не на медные гроши… Так о чем я? Ага, о Брюсе и роковых страстях человеческих… Про это уже все забыли, но в той самой избушке на Васильевском Брюс и производил свои чернокнижные практики над статуями. И не только там, но еще и в Сарском Селе, которое в те поры было простой отдаленной мызой, не имевшей никакого отношения к августейшей фамилии. Говорят, что там, в Сарском, он и закопал однажды те самые свои бумаги, коих после его смерти так и не нашли, хотя было доподлинно известно, что бумаг от него осталось не менее чем полвоза…
– В Сарском? – вырвалось у Пушкина. – А место?
– Кто ж его знал, место… Искали многие, да поди найди… Есть завороженные клады – на десятого человека, на заклятье или, скажем, на ведро сосновых шишек, каковое следует высыпать в яму. Так ведь это обычные клады, денежные, разбойничьи, а вы представьте, каков зарок на Брюсовом кладе. А кому попало не откроется, да кто попало и не сунется, если здравомыслящ… Так вот, о статуях. Брюс их оживлял, как хотел и когда хотел, но на его мраморных или там бронзовых болванов была наложена оговорка – выполнить они могли одно-единственное поручение, после чего окаменевали вновь, на сей раз вроде бы уже навсегда. Почему положена такая оговорка, мне неизвестно, но подозреваю, все дело в том, что Господь наш все же не всепрощающ и разгуляться в волю нечисти не дает… Короче говоря, такая на них была оговорка положена, и преступить ее они не могли. Сделал что-то раз – и опять забронзовел, как приличной статуе и положено испокон веков.
– Наталья Кирилловна, – проникновенно сказал Грановский. – При всем моем к вам уважении и почтении, рискну предположить, что сами вы оживших Брюсовых статуй не видывали, потому что помер фельдмаршал Брюс за многие годы до вашего появления на свет…
Старуха спокойно ответила:
– А разве я тебя, сокол мой, уверяю, будто сама видела? Бог миловал, иначе, глядишь, и удар хватил бы в полном расцвете лет… Зато прекрасно я знала человека, который с Брюсовыми статуями столкнулся, можно сказать, воочию. Жил в старые времена отставной генерал Кузьма Петрович Иевлев, большой приятель и картежный партнер моей тетушки. И хоть мне тогда такие вещи были неинтересны, но в девятнадцать лет я своими ушами слышала, как старик тетушке рассказывал про Брюсовы статуи… Давным-давно, когда он еще совсем зеленым поручиком служил в семеновцах, был у него друг, Степа Карабанов, опять-таки поручик, и тоже семеновский. И дернула однажды нелегкая Степу Карабанова отбить симпатию у самого Якова Вилимовича Брюса, человека, соответственно эпохе, золопамятного и божьих заповедей насчет подставленной другой щеки не признававшего. Ну, что тут долго рассказывать? Однажды темной грозовой ночью явилась в избушку, где поручики квартировали, мраморная статуя в виде античного воина и проткнула мечом Степу насквозь, так что он тут же и отдал Богу душу. Иевлев ее видел так же отчетливо, как я вас сейчас… но никто ему, конечно же, не верил, и была у него масса неприятностей. Из-за того, что убиение Карабанова полагали делом его собственных рук. Потом он как-то от этого подозрения очистился, повезло, а может, Бог помог…
– Ну разумеется, – сказал Грановский. – Ночь просто-таки обязана была быть грозовой, жуткой, с полыхающими на полнеба перунами – как в древнегреческой трагедии или готическом романе. В иные ночи ожившим статуям, надо полагать, появляться прямо-таки и неприлично даже…
– Ну, я уж не знаю, положено или не положено, но все так и было.
– Это сам Иевлев рассказывал?
– А кто ж еще?
– Будучи, таким образом, единственным источником сведений о сей дивной истории…
Старуха выпрямилась, поджала бледные губы:
– Петька! Надобно тебе знать, что Кузьма Петрович Иевлев повсеместно имел репутацию человека правдивого и честного, турусы на колесах ради забавы не подпускал и баек не плел. Я бы тебе и свидетелей такой его репутации представила в достатке, да вот беда – кроме меня, и не осталось тех, кто его знавал…
– Веселы ж были, надо полагать, те времена, – сказал Грановский, – Статуи делали променад, как последние чухонские мужики с Охтинской стороны…
– Что было – то уж было, – отрезала старуха. – Тогдашние люди, между прочим, вашего вольтерьянского скепсиса были лишены напрочь и к иным вещам относились крайне серьезно. Вы мне опять не поверите, Сашка с Петькой, какой от вас толк с вашим электричеством, но во времена матушки Екатерины при Тайной экспедиции был вовсе уж тайный стол, который как раз и занимался всякой чертовщиной – с целями не научными, а самими что ни на есть практическими. Ловил всевозможных поганцев, знавших то, что богобоязненному человеку знать и уметь не след, и терялись потом их тропки, как не бывало. И уж касаемо этого попрошу без ухмылок! Столоначальника означенного стола, Гаврилу… – Она спохватилась, помолчала. – В общем, я его знала. Так уж случилось, что знакомство наше было самое тесное. И слышала я от него немало – про то, как он на законном основании вздергивал на дыбу кудесников, колдунов и прочую нечисть.
– Это на каком же законном основании? – с искренним удивлением спросил Грановский.
– Воинский артикул государя Петра Великого! – торжествующе отрезала старуха. – Законоустановление, сударь мой, не правда ли? Отрицать, чай, не станете? И есть в том артикуле карательный параграф касаемо именно что колдунов и прочей подобной публики… Законнее основания и не бывает.
«Она совершенно права, – смятенно подумал Пушкин. – Воинский артикул Петра Великого… и сегодня не отмененный, так что сохраняющий юридическую силу! А мы-то голову ломали в поисках законных обоснований, кои невозможно обычным путем внести в уложение о наказаниях… Меж тем законное основание все эти годы было под рукой, в полном распоряжении… И ведь мы ничегошеньки не знали о своих предшественниках, этом самом столе при Тайной экспедиции – а ведь они, никаких сомнений, занимались тем же самым. И ведь архивы вполне могли сохраниться, пылятся сейчас, малость побитые мышами, в каких-нибудь подвалах… Ну почему я никогда прежде не затрагивал с Натальей Кирилловной этой темы? Ведь могло случиться так, что…»
Он замер, и выпавшая из пальцев массивная серебряная вилка с гербом Ласуновых-Ласунских звякнула о тарелку с очередным яством по вкусу светлейшего – правда, так тихо, что внимания это не привлекло.
Сейчас он чувствовал себя, как человек, пораженный молнией.
Разгадка ослепительно полыхнула в голове, как та самая пресловутая молния – ошеломив, подавив, удивив… ужаснув. Все разрозненные обрывки, все кусочки, что ранее никак не укладывались не то что в единое целое, но хотя бы во что-то отдаленно осмысленное, внезапно сложились наконец в завершенную картину: непротиворечивую, связную, все вмещавшую в себя…
Жуткую!
Он вскочил, задев локтем поднос в руках у лакея – тот, в жизни не видывавший подобного выхода из-за стола, не успел, несмотря на всю свою вышколенность, отстраниться или что-либо предпринять. Поднос тяжело ухнул на пол под жалобный дребезг хрусталя и звон рассыпавшихся серебряных ложек, коими надлежало отведывать очередной кулинарный изыск былых времен.
Ни на что, ни на кого не обращая внимания, Пушкин выскочил из столовой, прогрохотал каблуками по лестнице, выхватил у оторопевшего лакея свою шляпу и трость. Выбежал на улицу – и только там спохватился, чтобы не привлекать внимания, остановился и попытался обдумать все трезво.
Наверху, в столовой, все еще царило недоуменное молчание, даже вышколенный лакей до сих пор стоял столбом, плохо представляя, что ему теперь делать.
Наконец Загремская покачала головой:
– Что-то совсем наш Сашка сбился с катушек. Этакою бомбою вылететь… Ведь окажись кто на дороге, с ног бы перевернул! Видывала я поэтическую рассеянность, но такого… Как, бишь, это у англичан называется, Петька?
– Эскцентричность, – охотно подсказал Грановский, все еще растерянно смотревший вслед убежавшему приятелю.
– Вот-вот, она самая… А по-русски это будет проще и без прикрас: дурь. Дурит Сашка в последнее время вовсе уж ошеломляюще, куда там англичанину с его… ну, как ее там…
– Следствие несомненной житейской несерьезности, – елейным голоском ввернул некий статский советник, Пушкина откровенно не любивший. – Перед молодым человеком открывалась блестящая карьера – после Лицея был приписан к Министерству иностранных дел, великолепный почин… Нет, предпочел вертопрашничать и забавляться рифмами… Необходимо строгое вразумление или по крайней мере женитьба на особе, способной решительно…
– Вы мне, сударь, Сашку не полощите тут, – неожиданно резко сказала Загремская. – Видывала я, как из вертопрахов почище в генералы выходили. При всей своей поэтической дури мо2лодец тем не менее дельный… Мало ли что у человека могло случиться? Мало ли о чем пришлось нежданно вспомнить? – И, обернувшись, к застывшему лакею, царственным тоном произнесла: – Что стоишь, болван? Убери с пола, живо. Александр Сергеич вспомнил о срочном деле, из-за чего был вынужден покинуть общество, так что не торчи ты мне тут с таким видом, будто у бога теля съел…
…Спрыгнув с извозчика и велев дожидаться, Пушкин, конечно, уже не влетел в дом Башуцкого – но поднялся по ступенькам достаточно быстро для обычного визитера, заявившегося из чистой любезности. Лакей растерянно пролепетал:
– Барин в кабинете и принимать не велели…
Он и сообразить ничего не успел, как оказался неведомой силой отброшен в угол. Хорошо знавший расположение комнат, Пушкин и без него моментально нашел дорогу.
Ничуть не походило, что Башуцкий занят серьезной работой – он попросту сидел за столом и с мечтательной улыбкой перекладывал какие-то листы так, словно никак не мог решить, как им предстоит лечь окончательно. Подняв голову на шум распахнувшейся двери, он особого раздражения не выразил:
– Александр Сергеич… Какими судьбами? Я, кажется, велел не впускать… А впрочем… – он пожал плечами, улыбаясь еще мечтательнее и шире, поднял над столом правую руку с бриллиантовым перстнем, – а впрочем, есть повод оторваться от работы… Знаете ли, все это так неожиданно… Государь соизволил отметить мои скромные заслуги касаемо поездки в Италию, статуи ему пришлись по душе… А не приказать ли шампанского?
– Матвей Степанович, – сказал Пушкин как только мог терпеливее. – Сложилось так, что я к вам по делу… Касающемуся именно этих статуй. Не расскажете ли подробнее, каковы они и где размещены? Ведь они уже размещены, я полагаю?
– Да, разумеется, буквально только что… Но я плохо понимаю, признаться… Какие тут могут быть дела?
– Это пари, – в приступе озарения сказал Пушкин. – Речь идет о моем добром знакомом, я не могу называть имен сейчас… Но поверьте, в случае проигрыша последствия могут быть самыми плачевными…
– Да полно, полно, успокойтесь! – добряк Башуцкий замахал руками. – Можно подумать, я не был молодым… Все я понимаю: эти ваши затеи, пари на английский манер… Что, высоки ставки?
– Речь может даже идти о человеческой жизни, – сказал Пушкин.
– Ну, коли так… в чем там дело, что стряслось?
– Я вижу, у вас рисунки… – сказал Пушкин, указывая на стол. – Это они и есть, те статуи, я полагаю? А где они размещены? Вам известно?
– Помилуйте, как это может быть неизвестно? – сказал Башуцкий горделиво и даже приосанился. – Я, некоторым образом, причастен… Со мной советовались, разумеется…
– И что же?
– Извольте. – Он потащил из-под бумаг длинный рулон веленевой бумаги, привычно развернул. – «Дриада» – вот она, на рисунке – у грота в Екатерининском парке. «Сатир», как ему и подобает – на дорожке за Арсеналом, в чащобе, так сказать, хе-хе… «Крестьянки», как им опять-таки более всего приличествует – у Эрмитажной кухни. «Грация с…»
– Подождите, – сказал Пушкин, довольно бесцеремонно вытягивая из стопы один рисунок (Башуцкий страдальчески и удивленно поднял брови, но смолчал). – Вот это кто?
Определить величину изображенной на рисунке фигуры, а также материал, из которого она создана, не представлялось возможным – но выглядела она, Пушкину показалось, как-то зловеще. По сравнению с идиллическими крестьянками, глуповатым сатиром и прочими безобидными персонажами: человек в кирасе, с непокрытой головой и длинной прической рыцарских времен, с лицом злым, хищным, крючконосым. В руке он держал внушительный длинный меч, выставив правую ногу вперед с таким видом, словно намеревался решительно нанести удар, без оглядки на последствия.
– Ага, вкус у вас есть, и чутье тоже… Бронзовый кондотьер, предположительно работы кого-то из учеников Леонардо. Полагают также, что это не отвлеченная абстракция, а точный портрет знаменитого Пьетро ди Чирозе по прозвищу «Кабан», который в четырнадцатом столетии…
– Где он установлен? – совсем невежливо прервал Пушкин.
– Это и есть предмет пари?
– Матвей Степанович!
– Ну ладно, ладно, я же вижу, вы сам не свой, что-то серьезное среди ваших молодых друзей затеялось… Кондотьера установили у Руины. Не возле кухни – Руины, а возле Фельтоновской Руины, являющей собой умышленное подобие развалин готического замка… Ну да вы знаете, вы же лицеист, что вам рассказывать про Сарское… У Фельтоновской Руины, аккурат посередине меж нею и чугунными воротами, у дорожки…
– Излюбленное место вечерних прогулок государя… – сказал Пушкин медленно, чувствуя, как внутри все холодеет.
– Именно, – кивнул Башуцкий. – Государь лично одобрил это место для статуи, синьор кондотьер ему определенно пришелся по душе. Да и господин Гордон приложил усилия…
– Какой еще Гордон? – спросил Пушкин стеклянным голосом.
– Вы разве не знакомы? – удивился Башуцкий. – А он о вас отзывался в самых превосходных выражениях, так, как говорят о хорошо знакомом человеке, вот я и решил… Англичанин. Мистер Джордж Гордон, из Королевской академии наук. Приехал к нам изучать архитектурное дело и ландшафтные парки… а впрочем, оказалось, что он сам достаточно поднаторел в этих делах, и его, как-то очень быстро так получилось, привлекли к планировке и размещению… Государь им доволен, он и сейчас в Сарском… Александр Сергеич!
Пушкина уже не было в кабинете. Снова шляпа и трость буквально выхвачены из рук лакея, снова он выскочил на улицу и опомнился, увидев мирно шествовавших прохожих, ни о чем не подозревавших.
Мысль работала лихорадочно. Граф Бенкендорф? Там же, в Сарском Селе, он должен уже приехать. Вяземский отправился в Москву по своим собственным делам. Дуббельт… а чем, собственно, может сейчас помочь Леонтий Васильевич? Вместе ужаснуться, вместе броситься в Сарское… Нет времени!
Извозчик выжидательно поглядывал с облучка. Прыгнув в хлипконькую пролетку, так, что она отчаянно накренилась и не сразу выправилась, Пушкин распорядился:
– Гони на Гороховую, к дому Красинского!
– Где эскадрон расквартирован? – невозмутимо поинтересовался «ванька».
– Именно, – нетерпеливо сказал Пушкин. Не вытерпев, взмыл с сиденья и ткнул извозчика кулаком в жирный загривок: – Гони, кому говорю! Душу выну!
– Так бы сразу и говорили, барин… – протянул извозчик, подхлестывая лошадку и горяча ее какими-то особыми кучерскими словечками, имевшими хождение лишь среди этой разновидности человеческого рода, а прочим абсолютно непонятных. – Сделаем в лучшем виде…
Расквартированный на Гороховой жандармский эскадрон как раз и был выделен в распоряжение Особой экспедиции – и состоял, как легко догадаться, из людей понимающих. Поскольку Особая экспедиция не вчера была учреждена и кое-какие дела, неизвестные остальному миру, за ней числились, все в эскадроне, от командира до последнего нестроевого служителя, прекрасно знали, в чем тут секрет. К тому же – как давно уже с удивлением и некоторым стыдом открыл для себя Пушкин – рядовые, самое что ни на есть простонародье, к иным вещам и явлениям относились не в пример серьезнее, нежели те самые образованные, материалистически настроенные люди из общества…
Часовой при будке его прекрасно знал, а потому пропустил без малейших придирок. Атмосфера на обширном дворе царила самая умиротворяющая: стояла тишина, в глубине, в конюшне, иногда всхрапывали лошади, у крыльца сидел толстый серый щенок, не видно было ни души, тянуло свежим навозом и другими запахами, неотрывно связанными с конюшней, служащими обычно приметой самого мирного времени.