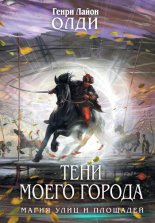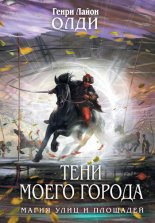Битва за Рим Маккалоу Колин
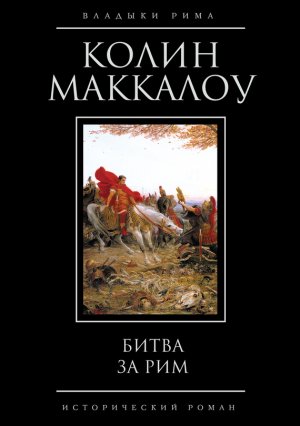
– Отец, даже брат…
Корнелия погладила ее худую руку и улыбнулась:
– О, они – Ливии Друзы, что тут еще скажешь? А я люблю жизнь, девочка! И всегда любила. Люблю смеяться, не слишком серьезно отношусь ко всему вокруг. Среди моих друзей хватало и мужчин, и женщин. Но – друзей! Однако в Риме у женщины не может быть друзей-мужчин без того, чтобы полгорода не решило, что у нее на уме не только приятельское общение. Как оказалось, того же мнения придерживался твой отец. Мой муж. А я все равно не хотела отказываться от друзей – и мужчин, и женщин. При этом я не могла мириться со сплетнями и с тем, что твой отец неизменно верил всему, что болтали о его жене. Он ни разу не принял мою сторону!
– Значит, у тебя так и не было любовников? – спросила Ливия Друза.
– Не было, пока я жила с твоим отцом. Я стала жертвой злых сплетен. И все-таки я поняла, что если останусь с мужем, то погибну. Поэтому после рождения Мамерка я не стала разубеждать мужа, когда он вообразил, будто мальчик приходится сыном старому Мамерку Эмилию Лепиду, одному из моих ближайших друзей. Хотя он не был моим любовником, как, впрочем, и все остальные. Когда старый Мамерк предложил усыновить мое дитя, твой отец немедленно согласился – при условии, что и я покину его дом. Однако он так и не развелся со мной – не странно ли? Старый Мамерк был вдовцом, поэтому он с радостью принял у себя мать усыновленного ребенка. В его доме я была гораздо счастливее, Ливия Друза, и жила со старым Мамерком как его жена, пока он не умер.
Ливия Друза заставила себя приподнять голову от подушки:
– А я была уверена, что ты потеряла счет любовникам!
– Так оно и было, милое дитя, но уже после смерти Мамерка. Целые дюжины! Однако, да будет тебе известно, любовники надоедают. Они – всегда лишь способ изучения человеческой натуры в отсутствие сильной привязанности. Наступает день просветления – и ты понимаешь, что любовная связь доставляет больше хлопот, чем она того стоит, и что-то неуловимое, чего тебе недостает, так и не найдено. С последним любовником я рассталась много лет назад. Мне больше по душе жить с сыном и наслаждаться обществом друзей. Во всяком случае, так обстояло дело до его женитьбы. – Она скривилась. – Невестка мне не по нраву.
– Мама, я умираю! Теперь я тебя никогда не узнаю!
– Лучше что-то, чем совсем ничего, Ливия Друза. Не стоит во всем винить брата. – Корнелия не испытывала колебаний, говоря чистую правду. – Оставив твоего отца, я не делала попыток увидеться с тобой или с твоим братом Марком. Могла бы, но не делала… – Она выпрямилась и ободряюще улыбнулась дочери. – Кто это сказал, что ты умираешь? С тех пор как ты родила своего ребеночка, минуло уже почти два месяца. Что-то долго он тебя убивает!
– Я умираю не из-за него, – прошептала Ливия Друза. – Меня сглазили.
От удивления Корнелия разинула рот.
– Сглазили? О, Ливия Друза, это же небылицы! Такого не бывает.
– Нет, бывает.
– Не бывает, дитя мое! И кто способен так люто ненавидеть тебя? Уж не бывший ли твой муженек?
– Нет, он обо мне даже не вспоминает.
– Тогда кто же?
Однако Ливия Друза затряслась, не желая отвечать.
– Нет, скажи! – Повелительные нотки в голосе матери выдавали в ней представительницу рода Сципионов.
Больная скорее выдохнула, нежели произнесла вслух имя дочери:
– Сервилия…
– Сервилия? – Корнелия усиленно соображала, сведя на переносице брови. – А-а, дочь от первого мужа?
– Да.
– Понятно. – Она потрепала Ливию Друзу по руке. – Не стану тебя обижать, виня в этой беде единственно твое воображение, однако тебе следует побороть страх. Зачем доставлять девчонке такое удовольствие?
Заметив на полу тень, Корнелия обернулась и, узрев в дверях высокого рыжеволосого мужчину, одарила его приветливой улыбкой.
– Ты, наверное, Марк Порций, – сказала она, вставая. – Я – мать Ливии Друзы. Только что мы беседовали с твоей женой по душам. Пригляди-ка за ней, а я схожу за ее братом.
Проходя между колоннами, она наконец разыскала старшего сына, который сидел пригорюнившись у фонтанчика.
– Марк Ливий! – решительно окликнула она его. – Знал ли ты, что твоя сестра уверена, что ее сглазили?
– Не может быть! – Друз был потрясен.
– Еще как может! Будто бы ее сглазила собственная дочь по имени Сервилия.
Он поджал губы:
– Понимаю…
– Ты как будто не удивлен, сын мой?
– Уже нет. Этот ребенок представляет нешуточную опасность. Держать ее в этом доме – все равно что оказывать гостеприимство Сфинксу, чудовищу, способному осуществить самые зловредные замыслы.
– Неужели Ливия Друза и впрямь может умереть, поверив, что ее прокляли?
Друз покачал головой.
– Мама, – произнес он, сам не замечая, как с его губ сорвалось это слово, – Ливия Друза умирает от недуга, вызванного последними родами. Таково мнение лекарей, которым я верю. Ее состояние ухудшается с каждым днем. Ты не почувствовала, какой запах стоит в ее комнате?
– Конечно почувствовала. Однако она, по-моему, относит все на счет проклятия.
– Сейчас приведу девчонку, – решил Друз и встал.
– Признаюсь, мне хочется на нее взглянуть, – молвила Корнелия, усаживаясь на место сына. Ей было о чем подумать в ожидании внучки: нечаянно сорвавшееся с губ сына слово «мама» занимало сейчас все ее мысли.
…Маленькая, очень смуглая, красивая какой-то загадочной красотой, при этом горящая таким огнем, наполненная такой силой, что бабушка уподобила ее дому, построенному над жерлом огнедышащего вулкана. В один прекрасный день раздастся взрыв, крыша взовьется в воздух, и Сервилия предстанет миру во всей своей истинной красе. Яд и ураган! Что же послужило причиной ее несчастья?
– Сервилия, познакомься со своей бабушкой Корнелией, – сказал Друз, не отпуская плеча племянницы.
Сервилия фыркнула и ничего не ответила.
– Я только что побывала у твоей матери, – сказала бабушка. – Ты знаешь, что она воображает, будто ты ее прокляла?
– Да? Вот и хорошо, – ответила Сервилия. – Я ее действительно прокляла.
– Ясно. Спасибо, – ответила бабушка и бесстрастно махнула рукой. – Возвращайся в детскую!
Отведя племянницу и вернувшись к матери, Друз не смог скрыть удовлетворения.
– Блестяще! – сказал он, садясь. – Ты хорошо поставила ее на место!
– Сервилию никто и никогда не сможет поставить на место, – в задумчивости откликнулась Корнелия. – Разве что мужчина.
– Ее отцу это удалось.
– А, понимаю… Я слышала, что он отказался признавать своих детей.
– Так и есть. Остальные были слишком малы, чтобы сокрушаться. Зато для Сервилии это стало ударом, – во всяком случае, так мне кажется. С ней никогда ничего не знаешь наверняка, мама: она так же скрытна, как и опасна.
– Бедненькая! – посочувствовала бабушка.
– Ха! – отозвался Друз.
В этот момент перед ними предстал Кратипп, объявивший о визите Мамерка Эмилия Лепида Ливиана.
Мамерк очень походил внешностью на Друза, однако ему недоставало властности, которую все отмечали в Друзе. Ему исполнилось всего двадцать семь лет, в то время как Друзу – тридцать семь; за его плечами не было блестящей адвокатской карьеры, ему не предсказывали громкого политического будущего. Зато его отличала спокойная уверенность, которой недоставало старшему брату. А то, что бедняге Друзу пришлось постигать без посторонней помощи после битвы при Аравсионе, было при Мамерке с самого рождения благодаря матери, истинной Корнелии из ветви Сципионов – незашоренной, образованной, пытливой.
Корнелия подвинулась, освобождая местечко для Мамерка, который поник, видя, что Друз не обращается к нему с приветствием, а только испытующе смотрит на него.
– Не хмурься, Марк Ливий, – обратилась к Друзу мать. – Вы – родные братья. Поэтому вам суждено стать хорошими друзьями.
– Я никогда не сомневался в степени нашего родства, – проговорил Мамерк.
– Зато я сомневался, – мрачно бросил Друз. – Где же правда, мама? В твоих сегодняшних словах или в уверениях отца?
– В моих словах. То, что я сказала твоему отцу, помогло мне обрести свободу. Я не оправдываю своего поступка: наверное, я была именно такой, какой ты меня считал, Марк Ливий, если не хуже, хотя и по иным причинам, чем ты полагал. – Она пожала плечами. – У меня нет привычки роптать, я живу в настоящем и в будущем, в прошлом же – никогда.
Друз протянул брату правую руку и улыбнулся:
– Добро пожаловать в мой дом, Мамерк Эмилий.
Мамерк стиснул его руку, а потом поцеловал брата в губы.
– Мамерк, – проговорил он срывающимся голосом, – просто Мамерк… Я – единственный римлянин, носящий это имя, так что зови меня просто Мамерком.
– Наша сестра умирает, – молвил Друз, не отпуская руки брата и усаживая его рядом с собой.
– О, какое несчастье… Я ничего не знал!
– Разве Клавдия тебе не говорила? – взвилась мать. – А ведь я все подробно ей растолковала.
– Нет, просто сказала, что ты убежала с Марком Ливием.
У Корнелии созрело важное решение: она понимала, что назрело новое бегство.
– Марк Ливий, – заговорила она, не обращая внимания на наворачивающиеся на ее глаза слезы, – все последние двадцать семь лет я целиком отдавала себя твоему брату. Мне не суждено было знать свою дочь. Теперь я вижу, что ты и Марк Порций остаетесь с шестью детьми и без единой женщины в доме – разве что ты замыслил новую женитьбу…
Друз выразительно покрутил головой:
– Нет, мама, ничего подобного у меня и в мыслях нет.
– Тогда, если ты этого хочешь, я переберусь сюда, чтобы присматривать за детьми!
– Хочу! – ответил Друз и снова улыбнулся брату. – Я рад прибавлению в семействе.
Ливия Друза умерла в тот день, когда Катону-младшему исполнилось два месяца. В некотором смысле это была безмятежная кончина, ибо, зная о приближающейся смерти, она делала все, что было в ее убывающих силах, чтобы ее уход не стал трагедией для тех, кого она оставляла. Присутствие матери стало для нее огромным утешением, так как она знала, что ее дети будут расти окруженные любовью и заботой. Черпая у Корнелии силы (та не давала Сервилии попадаться на глаза матери), она смирилась с неминуемой кончиной и больше не думала о проклятии и сглазе. Куда важнее была судьба обреченных на жизнь.
Она непрестанно осыпала Катона Салониана словами любви и утешения, поручениями и пожеланиями. Его лицо она видела перед собой в последние минуты, его руку она сжимала из последних сил, его любовью успокаивалась навеки ее душа. Не забыла она проститься и с братом Друзом, которому также адресовала слова любви и ободрения. Из детей она захотела взглянуть перед смертью только на маленького Цепиона.
– Позаботься о своем братике Катоне, – прошептала она и поцеловала мальчугана пылающими губами.
– Позаботься о моих детях, – попросила она напоследок мать.
Катону же Салониану она сказала:
– Я не знала, что Пенелопа умерла прежде Одиссея.
Это были ее последние слова.
Часть третья
Сулла не обладал судейским опытом и почти не знал римского права, однако же должность городского претора пришлась ему по нраву. Во-первых, ему было присуще здравомыслие; во-вторых, он окружил себя хорошими помощниками, у которых не стеснялся спрашивать совета; а главное, его склад ума как будто был создан для этой работы. В глубине души он больше всего радовался независимости своего положения: ведь ему больше не приходилось смотреть Гаю Марию в рот! Наконец-то он приобретал известность сам, как самостоятельный и влиятельный человек. Количество его клиентов, прежде скромное, росло, его привычка всюду брать с собой сына вызывала одобрение; Сулла поклялся, что обеспечит сыну все мыслимые преимущества, в том числе раннюю карьеру в судах и толковых командиров в армии.
Паренек не только был наделен внешностью Цезарей, но унаследовал свойственное ветви Юлиев умение располагать к себе, легко заводил друзей и дорожил теми, с кем сходился; так что впечатление, которое он производил, не было обманчивым. На первом месте среди его друзей стоял тощий юнец с огромной головой по имени Марк Туллий Цицерон. Как ни странно, родом он был из Арпина, родного города Гая Мария; его дед приходился свояком брату Гая Мария – Марку: оба были женаты на сестрах Гратидиях. Все это Сулле не пришлось выспрашивать, потому что, когда Сулла-младший привел Цицерона домой, тот обрушил на отца друга горы всевозможных сведений; Цицерон был весьма словоохотлив.
Необходимости задавать вопрос, что мальчик из Арпина делает в Риме, тоже не возникло: Марк Туллий все рассказал сам.
– Мой отец – хороший друг Марка Эмилия Скавра, принцепса сената, – важно объяснял Цицерон, – а также хороший друг Квинта Муция Сцеволы Авгура. А еще он – клиент Луция Лициния Красса Оратора! Поэтому, поняв, что я слишком одарен и умен для Арпина, отец переселил нас в Рим. Это было в прошлом году. У нас хороший дом в Каринах, рядом с храмом Теллус. По другую сторону храма живет Публий Рутилий Руф. Мои учителя – Квинт Муций Авгур и Луций Красс Оратор, хотя больше – Луций Красс Оратор, ибо Квинт Муций Авгур очень стар. Конечно, раньше мы каждый год приезжали в Рим, и я начал учиться на Форуме, когда мне было всего восемь лет. Мы не деревенщины, Луций Корнелий! Мы сильно превосходим знатностью Гая Мария!
Сулла, от души забавляясь, сидел и слушал тринадцатилетнего болтуна, гадая про себя, когда случится неизбежное: тонкий стебелек шейки не выдержит эту огромную голову-тыкву, и она, оторвавшись, покатится по полу, не переставая тараторить. Голова опасно болталась вправо-влево и взад-вперед, заметно отягощая своего владельца.
– Знаете ли вы, – простодушно вопрошал Цицерон, – что на мои упражнения по риторике сбегаются слушатели? Наставники не могут выдвинуть ни одного довода, которого я не сумел бы опровергнуть!
– Раз так, то ты, видно, задумываешься о карьере адвоката? – успел ввернуть Сулла, перебив говоруна.
– О, разумеется! Но не как великий Акулеон: происхождение позволяет мне стать консулом! Но сначала, естественно, сенат. Меня ждет большая карьера, все так говорят! – Цицерон гордо вскинул голову. – Как свидетельствует мой опыт, Луций Корнелий, непосредственное общение с избирателями гораздо полезнее службы в старушке-армии.
Восхищенно глядя на него, Сулла негромко проговорил:
– Я достиг своего положения на натруженном горбу этой старушки, Марк Туллий. Карьеру законодателя не сделал, и все же я – городской претор.
Цицерон отмахнулся от этого возражения:
– Да, но у тебя не было моих преимуществ, Луций Корнелий. Вот увидишь, я стану претором уже на сороковом году.
Сулла не стал спорить.
– Не сомневаюсь, что так и будет, Марк Туллий.
– Да, tata, – молвил Сулла-младший позднее, оставшись с отцом с глазу на глаз и получив разрешение обращаться к нему как в детстве, – я знаю, он несносный, но все равно он мне нравится. А тебе?
– Полагаю, сын мой, юный Цицерон ужасен, но при этом, соглашусь, вполне мил. Он и впрямь так хорош, как о нем говорят?
– Послушай его и составь свое мнение, tata.
Сулла решительно покрутил головой:
– Нет, благодарю. Я не стану тешить самолюбие этого выскочки из Арпина.
– Он произвел огромное впечатление на принцепса сената Скавра, – не отступал Сулла-младший, прижимаясь к отцу с любовью и доверием, неведомыми бедному юному Цицерону; тот уже имел возможность убедиться, что его отец слишком провинциален, чтобы произвести впечатление на римскую знать, да к тому же бедный родственник Гая Мария. Анафема! В результате юный Цицерон быстро охладел к своему отцу, сознавая, что ассоциация с Гаем Марием – лишь помеха на пути к чаемым высоким должностям.
– У принцепса сената Скавра, – насмешливо возразил Сулла сыну, – ныне хватает забот и без юного Марка Туллия Цицерона.
Эти слова Суллы были чистой правдой. Как глава сената, Марк Эмилий Скавр обычно принимал иностранные посольства и ведал вопросами внешних сношений, не чреватыми войной. Мало кто из сенаторов искренне считал чужеземные страны не из числа римских провинций достойными своего времени и внимания, поэтому главе сената бывало нелегко найти охотников заседать в комитетах, если это не сулило зарубежный вояж за государственный счет, каковые случались нечасто. По этой самой причине на составление ответа безутешному Сократу, младшему сыну скончавшегося царя Вифинии, у сената ушло целых десять месяцев, по прошествии которых гонец отправился в Никомедию. Ответ не мог порадовать Сократа, так как подтверждал право на трон третьего царя Никомеда и категорически отвергал притязания его самого.
Но существовала и другая унаследованная принцепсом сената Скавром ссора из-за иностранного трона. В Рим нагрянули царь и царица Каппадокии Лаодика и Ариобарзан, бежавшие от царя Армении Тиграна и его тестя, царя Понта Митридата. Не выдержав диктата сына Митридата и внука его понтийской марионетки, Гордия, каппадокийцы с самого отъезда Гая Мария из Мазаки пытались отыскать истинного каппадокийского царя. Подобранный ими было сириец умер, отравленный, по слухам, Гордием, после чего каппадокийцы, покопавшись в своих родословных, наткнулись на царевича по имени Ариобарзан, в чьих жилах, без сомнения, текла монаршая кровь. Его мать, по традиции носившая имя Лаодика, приходилась двоюродной сестрой последнему царю Ариарату, без всяких скидок заслуживавшему именоваться каппадокийцем. Лишенные трона, малолетний царь Ариарат Евсевий и его дед Гордий спешно бежали в Понт. Но Митридат, зная, что стараниями Гая Мария он попал под надзор Рима, стал действовать не напрямую, а через Тиграна Армянского. Тот сначала захватил Каппадокию, а потом усадил на каппадокийский трон нового царя, на сей раз уже не сына Митридата Понтийского. Понт и Армения пришли к общему мнению, что ребенку на этом троне не усидеть. Так новым царем Каппадокии стал сам Гордий.
Однако Лаодика и Ариобарзан сумели сбежать и объявились в Риме ранней весной того года, когда городским претором был Сулла. Их присутствие создавало немалые трудности Скавру, от которого часто слышали (и читали черным по белому им написанное) что судьбу Каппадокии следует решать ее народу. Его прежняя поддержка царя Понта Митридата пятном легла на его репутацию, хотя утверждение Лаодики и Ариобарзана, что за вторжением Тиграна Армянского стоял Митридат, было недоказуемым.
– Отправляйся туда сам и во всем разберись! – молвил Сулла Скавру, выходя вместе с ним с малолюдного заседания сената, обсуждавшего каппадокийские дела.
– Никак невозможно! – проворчал Скавр. – Сейчас я не могу позволить себе отлучиться из Рима.
– Тогда тебе придется кого-то назначить, – произнес Сулла.
Но Скавр, гордо вскинув голову и выпятив подбородок, уже был согласен взвалить на себя это бремя.
– Нет, Луций Корнелий, лучше все же я сам.
Последовал молниеносный вояж – но не в Каппадокию, а в Амасию, к царю Митридату. В Понте принцепс сената Марк Эмилий Скавр сладко пил, вкушал яства, внимал восхвалениям и рукоплесканиям. Как царский гость, он охотился на львов и медведей на суше и на тунцов и дельфинов в Эвксинском море; как царский гость, он любовался знаменитыми красотами – водопадами, ущельями, горами, пронзавшими облака; как царский гость, он лакомился вишней – вкуснейшей ягодой, какую когда-либо пробовал.
Понт не изъявлял желания править Каппадокией, что позволяло объявить действия Тиграна вдвойне прискорбными. Убедившись, что понтийский двор приятно эллинизирован и изъясняется исключительно по-гречески, принцепс сената Марк Эмилий Скавр завершил свой визит и уплыл на одном из царских кораблей домой.
– Он клюнул! – сказал Митридат своему широко улыбающемуся кузену Архелаю.
– Так на него подействовали в истекшие два года твои письма, – молвил Архелай. – Пиши ему и впредь, великий властелин! Переписка приносит превосходные результаты.
– Как и мешок золота, который я ему вручил.
– Воистину так!
С самого начала своего преторского срока Сулла принялся интриговать, добиваясь для себя поста наместника одной из двух испанских провинций, для того он и обхаживал принцепса Скавра, а через него и других глав сената. Он сомневался, что сумеет переманить на свою сторону Катула Цезаря, не забывшего событий на реке Атес, когда германцы-кимвры вторглись в Италийскую Галлию. Но в целом он действовал успешно и к концу июня заручился назначением в Дальнюю Испании – наилучшую область по части возможностей для обогащения.
Но Фортуна, так пылко любившая Суллу, обернулась продажной девкой и как будто обвела его вокруг пальца. Тит Дидий возвратился из Ближней Испании для празднования триумфа, оставив своего квестора править до конца года. Через два дня после триумфа Тита Дидия настал черед триумфа Публия Лициния Красса, одержавшего много побед в Дальней Испании; он тоже оставил править до конца года своего квестора. Тит Дидий сумел-таки навести в Ближней Испании порядок, прежде чем оттуда отбыть: он победоносно завершил войну, совершенно измотав туземцев-кельтиберов. Что до Публия Красса, то тот удалился из своей провинции, пренебрегши подобными мерами предосторожности. Зато, будучи владельцем оловянных концессий, он счел необходимым обсудить свои дела с компаниями, где состоял негласным вкладчиком. Приплыв на Касситериды – знаменитые Оловянные острова, – он ослепил всех, с кем встречался, своим римским величием и предложил наилучшие условия и более твердые гарантии поставок на берега Срединного моря для каждой либры добываемого в шахтах олова. Отец троих сыновей, он, находясь в Дальней Испании, позаботился о том, чтобы устроить свои семейные дела, но оставил провинцию далеко не усмиренной.
Не прошло и двух нундин после празднования Публием Крассом триумфа накануне июньских ид, как разнесся слух о новом решительном выступлении лузитанов. Претор Публий Корнелий Сципион Назика, посланный в Дальнюю Испанию в роли наместника взамен Публия Красса, так хорошо себя проявил, что поговаривали о продлении его полномочий еще на год; он происходил из весьма могущественной семьи, и сенат, естественно, стремился его уважить. Из чего следовало, что Сулле и мечтать не приходилось о Дальней Испании.
Надежд на Ближнюю Испанию он лишился в октябре, когда оставленный там после отъезда Тита Дидия квестор прислал просьбу о срочной помощи: Ближняя Испания – от васконов до кантабров и иллергетов – тоже восстала. Сулла, будучи городским претором, не мог вызваться добровольцем, поэтому был вынужден наблюдать из преторского трибунала, как консула Гая Валерия Флакка спешно снаряжают и отправляют командующим в Ближнюю Испанию.
Что же ему оставалось? Македония? Но то была консульская провинция, которую редко, вернее, почти никогда не отдавали претору; исключением стал именно тот год, когда ее вверили городскому претору, «новому человеку» Гаю Сентию. Тот быстро продемонстрировал блестящие способности, а значит, о замене его в разгар кампании, которую он развернул вместе с не менее способным легатом Квинтом Бруттием Сурой, не могло быть речи. Азия? Но эта провинция, как знал Сулла, уже была обещана другому, Луцию Валерию Флакку. Африка? Стоячее болото, пустое место. Сицилия? Тоже никчемная трясина. Сардиния с Корсикой? Такие же тихие застойные заводи.
Отчаянно нуждаясь в деньгах, Сулла по необходимости томился в Риме, в судах, видя, как лакомые наместничества уплывают от него одно за другим. До консульства оставалось тянуть еще два года, а среди действующих вместе с ним преторов были Публий Сципион Назика и Луций Флакк, достаточно влиятельный, чтобы через год устроить себе назначение в Азию. Оба были богатыми и не скупились на подношения. Другой претор, Публий Рутилий Луп, был даже богаче их. Сулла знал, что единственная его надежда – разбогатеть на чужбине.
Только общество сына позволяло ему сохранять здравомыслие и уберегало от непоправимых глупостей, которые навсегда преградили бы ему путь наверх. Метробий находился рядом, в одном с ним городе, но благодаря Сулле-младшему Луций Корнелий не поддавался искушению его отыскать. К концу года все в Риме знали в лицо городского претора, тем более такого знаменитого, как Сулла. Из-за детей он не мог устроить свидание дома, о жилище же Метробия на Целийском холме нельзя было и помыслить. Прощай, Метробий!
Что еще хуже, Аврелия тоже оказалась недосягаема: в то лето Гай Юлий Цезарь возвратился наконец домой, и свободе бедняжки Аврелии был положен конец. Однажды Сулла наведался к ней, но был принят холодно и услышал требование больше не появляться. Она не объяснила ему, чем вызвана такая немилость, но об этом нетрудно было догадаться. В ноябре Гай Юлий Цезарь собирался бороться на выборах за должность претора при поддержке Гая Мария, а значит, все взоры будут устремлены на жену Цезаря, пускай она и живет в Субуре. Никто не рассказал Сулле о том, что он по неведению вызвал переполох среди путешествовавших Гаев Мариев, но Клавдия, жена Секста Цезаря, в шутку поведала об этом супругу Аврелии во время домашнего пира по случаю его возвращения. Все весело смеялись над этой историей, кроме Цезаря – тому было не до смеха.
Хвала богам за Суллу-младшего! Лишь общество сына служило отцу утешением. Сталкиваясь на каждом шагу с препятствиями, Сулла мог бы не вытерпеть, взорваться и погубить себя, но сын всякий раз умиротворял его, как волшебное успокоительное средство. Ни за какое серебро, даже ни за какое золото мира Сулла не уронил бы себя в глазах ненаглядного сына.
По мере того как близился к завершению год, Сулла наблюдал, как меркнут его перспективы, страдал, лишенный общества Метробия и Аврелии, внимал дерзкой болтовне юного Цицерона и все крепче любил сына. Он охотно делился с сыном подробностями своей жизни до смерти его мачехи, которых ни за что не раскрыл бы никому из представителей своего класса, но этот удивительно смышленый и великодушный мальчик упивался этими рассказами, ибо они рисовали картину жизни и портрет человека, с которыми Сулла-младший еще не был знаком. Лишь одну сторону своей натуры Сулла опасался приоткрыть – притаившееся у него внутри голое клыкастое чудовище, способное лишь выть на луну. Но с этим чудовищем, убеждал он себя, покончено навсегда.
Когда сенат стал раздавать провинции – в тот год раздача пришлась на конец ноября, – все вышло так, как предвидел Сулла. Гаю Сентию досталась Македония, Гаю Валерию – Ближняя Испания, Публию Сципиону Назике – Дальняя Испания, провинция Азия отошла Луцию Валерию Флакку. Сулле предложили на выбор Африку, Сицилию или Сардинию с Корсикой, но он со словами признательности отклонил предложение. Лучше остаться в Риме, чем сидеть наместником в болоте. На консульских выборах еще через два года избиратели вспомнят, куда кандидаты отправлялись в роли преторов-наместников, и Африка, Сицилия, Сардиния с Корсикой не произведут на них ни малейшего впечатления.
А потом Фортуна сбросила маску и предстала перед Суллой во всем блеске своего благоволения. В декабре пришло испуганное письмо от царя Вифинии Никомеда, который обвинял царя Митридата в намерениях завладеть всей Малой Азией, и в первую очередь Вифинией. Примерно тогда же из Тарса сообщили, что Митридат вторгся в Каппадокию во главе многочисленной армии и двигался безостановочно, пока не покорил всю Киликию и Сирию. Принцепс сената Скавр, выразив изумление, высказался в пользу отправки в Киликию наместника; лишних войск у Рима не было, но наместника надлежало снабдить средствами, дабы он мог при необходимости набрать войско на месте. Митридат не учел, что Скавр – упрямый римлянин; царь-то воображал, что сможет и впредь вертеть им при помощи золота и писем. Но когда возникала столь серьезная угроза для Рима, письма полетели в огонь; Киликия была уязвима и важна. Рим еще не посылал туда своих наместников, но уже привык считать ее своей.
– Отправьте в Киликию Луция Корнелия Суллу, – предложил Гай Марий, когда спросили его совета. – Он – тот, кто нужен в тяжелый момент. Он умеет обучать и экипировать войска, он хороший командир. Если кто и способен спасти положение, то только Луций Корнелий.
– Вот я и получил наместничество! – сказал Сулла сыну, вернувшись из храма Беллоны, где заседал сенат.
– Не может быть! Где? – радостно спросил Сулла-младший.
– В Киликии, сдерживать царя Понта Митридата.
– О, tata, это чудесно! – В следующее мгновение мальчик понял, что это грозит разлукой. За один миг его взгляд сумел выразить горе и боль, он всхлипнул, а потом устремил на отца взор, полный уважения и безграничного доверия, всегда трогавший Суллу и вызывавший страх оказаться недостойным сыновней любви. – Я, конечно, буду по тебе скучать, но я очень рад за тебя, отец.
Вот мальчик и повзрослел: теперь Сулла был отцом, а не tata.
Светлые холодные глаза Луция Корнелия Суллы, блестя непролитыми слезами, смотрели на сына – такого по-детски почтительного, такого доверчивого. Отеческая улыбка исполнилась любви.
– О какой разлуке ты говоришь? Не думаешь же ты, что я уеду без тебя? Я беру тебя с собой.
Новый всхлип, тут же сменившийся взрывом радости. Улыбка Суллы-младшего была ослепительна.
– Tata! Это правда?
– Никогда не говорил ничего более правдивого, мальчик мой. Либо мы едем вместе, либо я остаюсь. А я еду!
Они отправились на восток в начале января, когда еще можно было путешествовать по морю. Сулла взял с собой небольшой отряд ликторов (дюжину, согласно своему проконсульскому империю), а также секретарей, писцов и государственных рабов, сына, не помнившего себя от радости, и Ариобарзана Каппадокийского вместе с его матерью Лаодикой. Стараниями принцепса сената Скавра его снабдили достаточными средствами для ведения войны; после длинного разговора с Гаем Марием он знал, как ему действовать.
Из Тарента они приплыли в греческие Патры, оттуда в Коринф, переехали посуху в Пирей Афинский, из Пирея поплыли на Родос. Для плавания с Родоса в Тарс Сулле пришлось нанимать судно, так как с наступлением зимы регулярная навигация прервалась. Поэтому до Тарса экспедиция благополучно добралась лишь к концу января, ничего не повидав в пути, кроме нескольких морских портов и верфей, а также нескончаемой морской глади.
После появления в Тарсе Мария три с половиной года назад там ничего не изменилось, как и в Киликии, все еще томившейся неизвестностью. Приезд наделенного широкими полномочиями наместника устраивал и Тарс, и Киликию, поэтому, едва Сулла обосновался во дворце, в его распоряжении оказалось множество полезных людей, многих из которых привлекала мысль о щедром армейском жалованье.
Однако Сулла знал, кто нужен ему больше всего, и счел добрым знаком, что этот человек не торопится искать милости нового римского правителя, а занимается своим делом, то есть командует ополчением Тарса. Звали его Морсим, а рекомендовал его Сулле Гай Марий.
– Отныне ты освобожден от прежней командной должности, – дружески обратился Сулла к Морсиму, когда тот явился по требованию наместника. – Мне нужен здешний человек, который поможет набрать, обучить и экипировать четыре наемных легиона, прежде чем весеннее тепло откроет перевалы, ведущие внутрь страны. По словам Гая Мария, такой человек – ты. Ты согласен с этим?
– Да, я именно такой человек, – без раздумий ответил Морсим.
– Погода здесь подходящая, это хорошо, – сразу взял быка за рога Сулла. – Всю зиму мы сможем учить наших солдат военному делу, если наберем стоящих людей и как следует их экипируем, чтобы они не уступали войскам Митридата. Это возможно?
– Без всякого сомнения, – ответил Морсим. – Желающих наберется много тысяч, больше, чем тебе понадобится. Воинская служба влечет юношество, но здесь уже давным-давно нет армии! Если бы не внутренние распри и не вмешательство Понта и Армении, Каппадокия могла бы вторгнуться сюда и завоевать нас, когда пожелала бы. На наше счастье, Сирии тоже не до нас. Своим существованием мы обязаны чуду.
– Фортуне! – подхватил Сулла со зловещей ухмылкой и обнял за плечи сына. – Фортуна мне благоволит, Морсим. Настанет день, когда я назовусь Феликсом. – Он прижал к себе Суллу-младшего. – Однако прежде, чем минует еще один солнечный день, пусть это и зимнее солнце, я должен сделать одно чрезвычайно важное дело.
Тарсийский грек выглядел озадаченным.
– Могу я быть тебе полезен, Луций Корнелий?
– Полагаю, да. Подскажи, где мне приобрести хорошую широкополую шляпу, которая не разлезется за десять дней.
– Отец, если шляпа для меня, то знай, я не стану ее носить, – сказал отцу Сулла-младший по дороге на базар. – Шляпа! В них ходят только старые невежественные крестьяне.
– И я, – с улыбкой бросил Сулла.
– Ты?
– На войне, Сулла-младший, я ношу шляпу с широкими полями. Такой совет дал мне Гай Марий много лет назад, на первой войне с нумидийским царем Югуртой в Африке. «Носи ее и не обращай внимания на насмешки, – сказал он. – Пройдет немного времени, и все привыкнут». Я последовал его совету, потому что очень белокож и всегда сгораю. Я заслужил в Нумидии уважение, и моя шляпа прославилась вместе со мной.
– В Риме я никогда не видел тебя в шляпе, – возразил ему сын.
– В Риме я стараюсь не бывать на солнце. Потому и повелел в прошлом году установить над моим преторским трибуналом навес.
Оба умолкли; узкий проулок неожиданно вывел их на большую бесформенную площадь с тенистыми деревьями и множеством лавок и прилавков.
– Отец? – раздался неуверенный голос.
Сулла повернулся на зов и удивился тому, как быстро сын догоняет его ростом. Кровь Цезарей брала свое – Сулла-младший обещал стать высоким.
– Да, сынок?
– Можно и мне шляпу? Пожалуйста!
Прослышав о том, что присланный в Киликию римский наместник собирает и обучает местные войска, царь Митридат в изумлении уставился на того, кто принес эту весть, – на нового царя Каппадокии Гордия.
– Кто таков этот Луций Корнелий Сулла? – спросил он.
– Никто из нас ничего о нем не знает, о, повелитель, кроме того, что в прошлом году он был в городе Риме главным судьей, а до того – легатом при нескольких прославленных римских полководцах: вместе с Гаем Марием воевал в Африке против царя Югурты, вместе с Квинтом Лутацием Катулом Цезарем сражался в Италийской Галлии против германцев, вместе с Титом Дидием в Испании – против местных дикарей, – отвечал Гордий, произнося все имена, кроме имени Гая Мария, такимтоном, будто они значили для него очень мало или вовсе ничего.
Для Митридата они тоже были пустым звуком. В который уже раз понтийский царь пожалел, что недостаточно осведомлен в географии и истории. Расширять царю горизонты выпало Архелаю.
– Этот Луций Корнелий Сулла – не Гай Марий, – задумчиво молвил Архелай, – но опыта ему не занимать, и мы не должны недооценивать его только потому, что не знаем его имени. Став римским сенатором, он большую часть времени проводил в римской армии, хотя мне неведомо, командовал ли он когда-либо армией на поле боя.
– Его имя – Корнелий, – изрек царь, раздувая грудь. – Но Сципион ли он? Как понимать его имя «Сулла»?
– Нет, он не Сципион, всемогущий государь, – ответствовал Архелай. – Однако он из патрициев Корнелиев, а не из тех, кого римляне называют «новыми людьми», то есть «никем». Говорят, он трудный человек.
– Трудный?
Архелай сглотнул; он уже высказал все, что знал, и мог только гадать, что под этим подразумевалось.
– Он непростой переговорщик, мой властелин, – предположил он. – Не желает ни с кем считаться.
Происходило это во дворце в Синопе, которую царь любил в любое время года, но особенно зимой. Уже не первый год царил мир, жизни родичей и придворных ничто не угрожало, дочь Гордия Низа оказалась такой хорошей супругой, что ее папаша после вмешательства Тиграна удостоился каппадокийского трона, у самого царя подрастал целый выводок сыновей, владения Понтийского царства на берегах Эвксинского моря к северу и к востоку процветали.
Приезд Гая Мария уже успел позабыться, и понтийский царь снова обращал свой взор на юг и на запад; его уловка с Тиграном в Каппадокии сработала, и там по-прежнему, несмотря на визит Скавра, царствовал Гордий. Все, чего добился тем визитом Рим, – вывод из Каппадокии армянской армии – изначально входило в намерения и самого Митридата. Но теперь наконец-то он мог замахнуться и на Вифинию, ибо годом раньше Сократ униженно молил об убежище в Понте и проявлял такую безоговорочную верность, что царь решил посулить ему вифинский трон, прежде чем вторгнуться туда. Вторжение Митридат намечал на весну: предполагался стремительный рывок на юг, который застал бы царя Никомеда III врасплох.
Известия, сообщенные Гордием, заставляли Митридата повременить; стоит ли идти на риск и завоевывать Вифинию или хотя бы сажать на тамошний трон Сократа, когда поблизости обретался уже не один, а целых два римских наместника? Четыре легиона в Киликии! Поговаривали, что четырех римских легионов хватит, чтобы покорить весь мир. Допустим, речь идет о киликийских ауксилариях, а не о римских солдатах, но киликийцы воинственны и горды – не будь они таковыми, Сирия, пускай и ослабленная, оставалась бы и ныне владычицей мира. В четырех легионах насчитывалось примерно двадцать тысяч воинов. Что ж, Понт мог выставить двести тысяч. Численность несопоставима, однако… Каков этот Луций Корнелий Сулла? О Гае Сентии и его легате Квинте Бруттие Суре тоже никто не слыхивал, тем не менее эти двое орудовали на македонской границе, от Иллирика на западе до Геллеспонта на востоке, развивая победоносную кампанию и обращая в бегство кельтов и фракийцев. Теперь никто уже не мог с уверенностью утверждать, что римляне не посягнут на придунайские земли; это тревожило Митридата, подумывавшего о том, чтобы двинуться с западного берега Понта Эвксинского дальше, на Дунай. Мысль об угрозе столкнуться там с римлянами была крайне неприятной.
Так кто он, Луций Корнелий Сулла? Еще один римский военачальник калибра Сентия? Почему в Киликию отрядили именно его, а не Гая Мария и не Катула Цезаря – полководцев, громивших германцев? Один из них, Марий, приплывал в Каппадокию в одиночку, безоружный, и вел речи о том, что, вернувшись в Рим, он продолжит следить за происходящим в Понте. Так почему теперь в Киликию прислали не Гая Мария? Почему этого неизвестного, Луция Корнелия Суллу? Рим вовсе не оскудел блестящими полководцами. Что, если Сулла затмит самого Мария? При всей многочисленности своих армий похвастаться талантливыми полководцами Понт не мог. После победы над варварами на севере Эвксинского моря Архелаю не терпелось попытать счастья в боях с более грозными врагами. Однако Архелай приходился ему двоюродным братом, в его жилах текла царская кровь, что превращало его в потенциального соперника. То же самое относилось к его брату Неоптолему и к его кузену Леониппу. Что до царских сыновей, то какой царь уверен в своих сыновьях? Их матери, жадные до власти, представляли потенциальную угрозу; то же самое будет относиться и к детям, когда они достигнут возраста, в котором смогут по собственной воле притязать на отцовский трон…
Вот если бы он сам обладал полководческим даром! С такими мыслями царь Митридат задумчиво скользил виноградно-зелеными крапчатыми глазами по лицам своих приближенных. Увы, ему не досталось воинского таланта его предка Геракла. Но так ли это? Если разобраться, то Геракл тоже не был полководцем: он сражался в одиночку, разя львов и медведей, царей-узурпаторов, богов и богинь, псов из подземелий и всевозможных чудовищ. Вот бы и Митридату таких противников! Во времена Геракла в полководцах еще не было нужды: воины собирались в отряды и рубились с отрядами других воинов, спрыгивая с колесниц, одолевавших любые кручи, и вступая в победные рукопашные единоборства. В такую войну сам царь ввязался бы с превеликой охотой. Но те дни давно миновали, колесницы развалились. Настала эпоха больших армий и военачальников-полубогов, сидящих или стоящих на возвышении над полем боя, указывающих и отдающих приказы, задумчиво кусающих палец и не сводящих взор с того, что происходит внизу. Казалось, что интуиция подсказывает полководцам, где намечается прорыв или отход, где неприятель собирается броситься в атаку; уж не рождаются ли они на свет сразу со знанием фланговых маневров, правил осады, артиллерии, подкреплений, войсковых частей, базирования и воинских званий – всего того, что было непостижимо для Митридата, не имевшего к этому ни таланта, ни интереса.
Пока его невидящий взор пробегал по лицам подданных, те наблюдали за царем зорче ястребов, выслеживающих с высоты прячущуюся в траве мышь, хотя чувствовали себя при этом вовсе не ястребами, а мышами. Царь восседал перед ними на троне из чистого золота, усеянном несчетными жемчужинами и рубинами, облаченный (военный совет как-никак) в львиную шкуру и в тончайшую кольчугу из позолоченных колец. Царь слепил подданных блеском своего величия, вселял ужас в их сердца. С ним никто не мог тягаться, никто не был защищен от царского гнева. Он был безоговорочным властелином, в душе которого уживались трус и храбрец, хвастун и подхалим, спаситель и погубитель. В Риме никто не поверил бы ему, все подняли бы его на смех. В Синопе все ему верили, и всем было не до смеха.
Наконец царь заговорил:
– Кем бы ни был этот Луций Корнелий Сулла, римляне прислали его одного, без армии, и он вынужден набирать солдат в чужой земле, из незнакомых ему людей. Из этого я должен заключить, что Луций Корнелий Сулла – достойный соперник. – Он устремил взгляд на Гордия. – Сколько своих солдат направил я осенью в твое царство Каппадокия?
– Пятьдесят тысяч, великий государь, – ответил Гордий.
– В начале весны я сам приду в Евсевию-Мазаку еще с пятьюдесятью тысячами. Моим военачальником будет Неоптолем. Ты, Архелай, пойдешь с пятьюдесятью тысячами копий в Галатию и встанешь там, на западной границе, на тот случай, если римляне надумают вторгнуться в Понт с двух сторон. Моя царица будет править из Амасии, но ее сыновья останутся здесь, в Синопе, под охраной, как заложники, обеспечивающие ее покорность. Если она замыслит измену, все ее сыновья будут тотчас казнены, – изрек царь Митридат.
– У моей дочери и близко нет таких мыслей! – в ужасе вскричал Гордий. Он уже опасался, как бы какая-нибудь из младших жен царя не задумала предательство, отчего его внуки погибнут еще до того, как будет установлена истина.
– У меня нет причин ее подозревать, – молвил царь. – Но я вынужден принимать меры предосторожности. Когда я покидаю свои земли, детей всех моих жен развозят по разным городами все время моего отсутствия держат под наблюдением, дабы каждая из жен вела себя смирно. Женщины – странные создания, – задумчиво продолжил царь. – Дети им всегда дороже собственной жизни.
– Стоит остерегаться той, которая в этом отличается от остальных, – раздался высокий жеманный голосок, странный в устах такого толстяка.
– Так я и делаю, Сократ, – с ухмылкой отозвался Митридат. Ему был по сердцу этот отвратительный клиент из Вифинии – потому хотя бы, что ни один из его братьев, будь он таким же противным, не дожил бы до без малого шестидесяти лет. То, что ни один из его братьев, как противных, так и приятных, не дожил даже до двадцати, царя не волновало. Как мягкотелы эти вифинцы! Если бы не Рим и не римское покровительство, то Понт проглотил бы Вифинию уже поколение назад. Рим, Рим, Рим… Куда ни сунься, всюду он! Почему бы Риму не развязать какую-нибудь кровопролитную войну на другом краю Срединного моря и не увязнуть в ней лет на десять? Потом, когда он снова вспомнил бы о Востоке, там уже безраздельно царил бы Понт и у Рима не оставалось бы выбора: ему пришлось бы сосредоточиться на Западе. Там, где заходит солнце.
– Поручаю тебе, Гордий, следить за действиями Луция Корнелия Суллы в Киликии. Сообщай мне все в мельчайших подробностях! Ничто не должно ускользнуть от твоего внимания. Ясно?
– Да, мой повелитель, – ответил, содрогаясь, Гордий.
– Хорошо. – Царь зевнул. – Я голоден. Время трапезы.
Но когда Гордий побрел вместе с остальными в пиршественный зал, царь прикрикнул:
– Не ты! Ты возвращаешься в Мазаку. Живо! Пусть Каппадокия знает, что у нее есть царь.
К несчастью для Митридата, весенняя погода была на руку Сулле. Перевал, носивший название Киликийские Ворота, располагался ниже и был менее заснеженным, чем те три перевала, по которым Митридату предстояло вести свою пятидесятитысячную армию от лагеря под Зелой к подножию горы Аргей. Гордий уже прислал в Синопу донесение, что Сулла и его армия выступили в поход раньше, чем царь мог надеяться перевалить через горы. Следующее донесение пришло перед самым выступлением царя из Зелы; в нем говорилось о приходе Суллы в Каппадокию и о лагере, разбитом в четырехстах стадиях южнее Мазаки и на таком же расстоянии от Команы Каппадокийской. Узнав, что Сулла пока что довольствуется этим, царь облегченно перевел дух.
Тем не менее, бесчувственный к тяготам людей и животных, он погнал свою армию через горы; офицерам приказывалось нахлестывать скотину, а выбившуюся из сил без сожаления сталкивать в пропасть. Гонцы уже мчались на восток, в армянский город Артаксату, к царскому зятю Тиграну, с предостережением о появлении в Киликии римских войск и о рыщущем в Каппадокии наместнике. Встревоженный Тигран счел нужным предупредить своих парфянских властителей и ждать повелений из Селевкии на Тигре, ничего пока больше не предпринимая. Митридат не просил помощи, но Тигран давно уяснил, что к чему, и не очень-то стремился сойтись лицом к лицу с Римом, независимо от действий Митридата.
Дойдя до реки Галис, перейдя ее и поставив свои пятьдесят тысяч лагерем рядом с другими пятьюдесятью тысячами, занимавшими Мазаку, понтийский царь встретился с Гордием, спешившим поведать ему нечто невероятное.
– Римлянин строит дорогу!
Царь не поверил своим ушам:
– Дорогу?!
– Через Киликийские Ворота, мой повелитель.