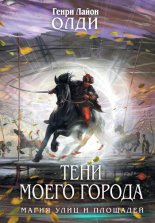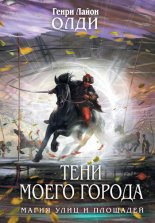Битва за Рим Маккалоу Колин
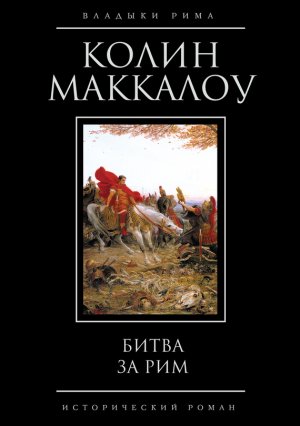
– Он сейчас в своем летнем дворце в Экбатане? – спросил Сулла.
Оробаз заморгал:
– Ты хорошо осведомлен, Луций Корнелий Сулла. Не предполагал, что в Риме так пристально следят за нашими перемещениями.
– Просто Луций Корнелий, великий Оробаз, – сказал Сулла и подался вперед с абсолютно прямой спиной, самой своей позой являя безупречное единство грации и силы, как и подобало римлянину в столь высоком обществе. – Ныне мы творим здесь историю, великий Оробаз. Впервые послы Парфянского царства встречаются с послом Рима. Символично, что это происходит на реке, являющейся границей между двумя нашими мирами.
– Это так, великий Луций Корнелий, – согласился Оробаз.
– Не «великий», просто Луций Корнелий, – поправил его Сулла. – В Риме нет ни господ, ни царей.
– Мы наслышаны об этом, но находим это странным. Значит, вы действительно идете греческим путем. Как Рим возвеличился, обходясь без царя? Греки никогда не достигали подлинного величия, ибо не имели верховного владыки, потому и рассыпались на мириады мелких государств и пошли друг на друга войной. Но Рим действует так, словно у него есть верховный владыка. Как вы сумели достичь такого могущества, скажи, Луций Корнелий?
– Наш царь – Рим, о великий Оробаз, хотя для нас Рим женского рода и мы говорим «Рома», «она». Греки подчиняли себя идеалу. Вы подчиняетесь человеку – вашему царю. Мы же подчиняемся Риму, только Риму. Мы не преклоняем колен перед людьми, великий Оробаз, как не преклоняем их перед абстрактным идеалом. Рим – наш бог, наш царь, сама наша жизнь. И хотя всякий римлянин заботится о своей репутации, стремится к величию в глазах других римлян, все это в конечном счете делается ради Рима, ради его всевластия. Мы поклоняемся месту, великий Оробаз, а не человеку и не идеалу. Люди приходят и уходят, их земной срок недолог. Идеалы колеблются от любого нового философского веяния. То ли дело место: оно может быть вечным, покуда живущие там заботятся о нем, пестуют его, приумножают его могущество. Я, Луций Корнелий Сулла, – великий римлянин. Но когда подойдет к концу моя жизнь, все, что я совершил, прославит силу и могущество моего родного Рима. Я говорю здесь не от себя, я послан моей родиной – Римом! Если мы заключим договор, то его выгравируют на медной доске и поместят в храме Юпитера Несущего Победу, старейшем в Риме, и он пребудет там не как моя собственность, там даже не укажут моего имени. Он будет свидетельствовать о могуществе Рима.
Он говорил на прекрасном аттическом наречии, владея греческим гораздо лучше парфян и Тиграна. Те завороженно внимали ему, силясь вникнуть в совершенно чуждые им понятия. Чтобы место превосходило величием человека? Чтобы попирало плоды людского ума?
– Но что есть место, Луций Корнелий, – стал возражать Оробаз, – как не совокупность предметов? Совокупность домов, коли это город, или храмовых построек, коли это святилище? Если это не город, тогда это деревья, камни, поля… Как может место порождать такое чувство, такое величие ума? Вот ты взираешь на скопление зданий – знаю, Рим – великий город… Неужто ты делаешь все то, что делаешь, только ради этих зданий?
Сулла сжал свой жезл:
– Вот Рим, о великий Оробаз. – Он тронул кончиком жезла свою белоснежную руку. – Вот Рим, великий Оробаз. – Она откинул полу тоги, открыв перекрестье ножек своего кресла. – И это Рим, великий Оробаз. – Он вытянул левую руку, отягощенную тогой, и сжал пальцами складку. – И это Рим, великий Оробаз. – Посмотрев по очереди в глаза всем, сидевшим внизу, он продолжил: – Я – Рим, великий Оробаз. Как любой, называющий себя римлянином. Рим – это величественная процессия, начавшаяся тысячу лет назад, когда бежавший из Трои Эней вышел на берег в Лации и стал прародителем нового народа, который шестьсот шестьдесят два года назад основал город Рим. Какое-то время в Риме правили цари, но потом римляне отвергли представление, что человек может быть сильнее места, давшего ему жизнь. Нет римлянина, превосходящего величием Рим. Рим – место, порождающее великих людей. Но их дела, сама их жизнь – все это только во славу Рима, все это – их участие в его непрекращающемся победном шествии. И я говорю тебе, о великий Оробаз, что Рим продолжит жить, пока пребудет для римлян дороже, чем они сами, дороже их детей, дороже их репутации и достижений. – Он выдержал долгую паузу, перевел дух. – Пока Рим будет оставаться для римлян дороже идеала или отдельного человека.
– Однако царь – олицетворение всего, что ты перечисляешь, Луций Корнелий, – возразил Оробаз.
– Царь для этого не годится, – изрек Сулла. – Царь заботится в первую очередь о себе, царь верит, что он ближе к богам, чем все прочие люди. Некоторые цари считают богами самих себя. Все сосредоточено на них, великий Оробаз. Цари возвышаются за счет своих владений. Рим же возвышается за счет римлян.
Оробаз воздел руки к небу – жест, спокон веку означавший бессилие.
– Твои речи для меня непостижимы, Луций Корнелий.
– Тогда перейдем к причине, по которой мы здесь собрались, великий Оробаз. Это событие войдет в историю. От имени Рима я делаю вам предложение. То, что лежит к востоку от реки Евфрат, остается в вашей власти, во власти парфянского царя. А то, что лежит к западу от реки Евфрат, подчиняется Риму, здесь распоряжаются люди, действующие именем Рима.
Оробаз приподнял пушистые седые брови:
– Не хочешь ли ты сказать, Луций Корнелий, что Рим желает править на всех землях западнее Евфрата? Что Рим намерен свергнуть царей Сирии и Понта, Каппадокии и Коммагена, многих других стран?
– Вовсе нет, великий Оробаз. Риму необходимо спокойствие в странах западнее Евфрата, при котором одни цари не расширяли бы свои владения за счет других, при котором границы стран не меняли бы очертаний. Известно ли тебе, великий Оробаз, зачем я сюда пришел?
– В точности – нет, Луций Корнелий. Царь Армении Тигран, повинующийся нам, сообщил, что ты ведешь на него армию. Пока что я не получил от царя Тиграна объяснения, почему твоя армия воздержалась от военных действий. Ты перешел на восточный берег Евфрата, а теперь опять уходишь на запад. Что привело тебя сюда, зачем ты пришел с армией в Армению? И почему, придя, не нападаешь?
Сулла повернулся и посмотрел вниз, на Тиграна. Тиара у царя на голове, обвитая диадемой с восьмиконечными звездами и орлами, оказалась сверху пустой и обнажала царскую лысину. Тигран явно тяготился своим приниженным положением и в ответ зло глянул на Суллу.
– Разве царь не сообщил об этом? – спросил Сулла и, не получив ответа, снова уставился на Оробаза и на остальных парфян, владевших греческим. – Рим заинтересован в том, великий Оробаз, чтобы одни цари на восточном краю Срединного моря не усиливались за счет других царей. Рим устраивает статус-кво в Малой Азии. Но понтийский царь Митридат покушается на Каппадокию и на иные части Анатолии, в том числе на Киликию, которая добровольно перешла под власть Рима, после того как сирийский царь ослабел настолько, что больше не может приглядывать за ней. Ваш подданный, царь Тигран, поддерживает Митридата и не так давно даже напал на Каппадокию.
– Я что-то слышал об этом, – проговорил без всякого выражения Оробаз.
– Полагаю, от внимания царя Парфии и его сатрапов мало что может укрыться, о, великий Оробаз! Однако, сделав за Понт грязную работу, царь Тигран вернулся в Армению и больше не переходил на западный берег Евфрата. – Сулла откашлялся. – Моим печальным долгом было не позволить понтийскому царю снова вторгнуться в Каппадокию, что я и сделал по поручению сената и народа Рима в начале этого года. Тем не менее я решил, что моя задача не будет выполнена, пока я не поговорю с царем Тиграном. Поэтому я выступил из Евсевии-Мазаки, чтобы его найти.
– И привел свою армию, Луций Корнелий? – спросил Оробаз.
Теперь брови вскинул Сулла:
– Разумеется! Я не очень знаком с этой частью мира, великий Оробаз, потому и захватил с собой армию – из предосторожности, и только! Мои воины вели себя в высшей степени достойно и, как, уверен, вам известно, никого не обижали, не грабили, не мародерствовали, даже полей не топтали. Все необходимое мы покупали. И продолжаем так поступать. Считай мое войско одним многоликим телохранителем. Я большой человек, великий Оробаз! Мои властные полномочия в Риме еще не достигли зенита, мне есть куда подниматься. Рим еще будет рукоплескать Луцию Корнелию Сулле!
Оробаз вздохнул, прерывая таким способом Суллу.
– Прошу меня простить, Луций Корнелий. При мне есть халдей по имени Набополассар, он не из Вавилона, а из самой Халдеи, что в дельте Евфрата у Персидского моря. Он предсказатель и астролог, брат же его служит у самого парфянского царя Митридата. Мы – все мы, прибывшие сюда из Селевкии-на-Тигре, – верим его словам. Ты позволишь ему изучить твою ладонь и заглянуть в твое лицо? Мы бы предпочли сами убедиться, что ты – тот великий человек, кем себя называешь.
Сулла безразлично пожал плечами:
– Мне все равно, великий Оробаз. Пусть твой человек пялится на мою ладонь и на мое лицо, лишь бы вы остались довольны! Он здесь? Хочешь, чтобы он занялся этим сейчас? Или мне перейти в более подобающее место?
– Никуда не уходи, Луций Корнелий, Набополассар к тебе подойдет. – Оробаз щелкнул пальцами и сказал что-то сидевшим внизу парфянам.
Поднялся один, точно такого же вида, как остальные: круглая шапочка в жемчуге, спиральное ожерелье, золотое шитье. Пряча руки в рукавах, он засеменил к ступеням помоста, поднялся и со смиренным видом замер на полпути между своими знатными соплеменниками и Суллой. Из рукава появилась рука, схватившая протянутую правую ладонь Суллы; хиромант долго изучал рисунок линий, потом отпустил ладонь римлянина и впился глазами в его лицо. Затем он чуть заметно поклонился, попятился назад, приблизился к Оробазу и только тогда повернулся к Сулле спиной.
Отчет вышел долгим, Оробаз и остальные невозмутимо слушали. Закончив, халдей снова повернулся к Сулле, поклонился ему в ноги и удалился с низко опущенной головой, всем своим видом демонстрируя полную покорность.
Пока Набополассар выносил свой вердикт, сердце Суллы трепетало, а когда халдей покинул помост, забилось радостно. Что бы он ни сказал, он должен был подтвердить, что он, Сулла, – великий человек. Недаром он отвесил земной поклон: так кланяются только царям.
– По словам Набополассара, ты, Луций Корнелий Сулла, – величайший человек на свете. От Инда на востоке до реки Океан на западе никто не сможет с тобой соперничать. Мы должны ему верить, ибо «никто» включает и нашего царя Митридата, а это значит, он рискует собственной головой. – Тон Оробаза стал совсем иным.
Даже Тигран, как заметил Сулла, взирал теперь на него с благоговейным ужасом.
– Продолжим наши переговоры? – предложил Сулла, не меняя ни позы, ни выражения лица, ни интонации.
– Изволь, Луций Корнелий.
– Прекрасно. Я объяснил присутствие армии, но не передал содержание моей речи, обращенной к Тиграну. Если коротко, то я посоветовал ему оставаться на восточном берегу Евфрата и воздержаться от помощи своему родичу, понтийскому царю, в его поползновениях захватить Каппадокию, Киликию и Вифинию. Сказав это, я повернул назад.
– Ты считаешь, Луций Корнелий, что захватнические планы понтийского царя не ограничиваются пределами Анатолии?
– Я считаю, что его замыслы простираются на весь мир, о великий Оробаз! Он и так уже завладел всем востоком Понта Эвксинского от Ольвии на Гипанисе до Колхиды на Фазисе. Он подчинил Галатию, перебив тамошних вождей, и убил как минимум одного из каппадокийских царей. Ничуть не сомневаюсь, что он стоит за вторжением в Каппадокию царя Тиграна. Но вернемся к цели нашей встречи. – Сулла подался вперед, сверкнув своими устрашающими глазами. – Расстояние между Понтом и Парфянским царством гораздо меньше, чем между Понтом и Римом. Поэтому, сдается мне, парфянскому царю стоило бы обезопасить свои границы, ибо понтийский царь желает расширять свои владения. А еще бдительно следить за своим подданным, армянским царем Тиграном. – Сулла сладко улыбнулся, пряча клыки. – Это все, что я могу сказать тебе, великий Оробаз.
– Ты хорошо говорил, Луций Корнелий, – ответствовал Оробаз. – Договор будет заключен. Земли, лежащие к западу от Евфрата, – область интересов Рима. Все лежащее к востоку от Евфрата – область интересов парфянского царя.
– Это значит, полагаю, что Армения более не вторгается на запад?
– Именно так. – И Оробаз выразительно посмотрел на обескураженного, пышущего злобой Тиграна.
«Наконец-то, – размышлял Сулла, дожидаясь, пока парфянские послы не покинут помост и пока за ними не проследует Тигран, упершийся взглядом в белый мрамор у себя под ногами, – наконец-то я знаю, что чувствовал Гай Марий, когда сирийская пророчица Марфа предрекла ему семикратное римское консульство и прозвание Третьего Основателя Рима. Но Гай Марий еще жив! А величайшим человеком в мире назвали меня! Во всем мире, от Индии до Атлантического океана!
В последующие дни он никому не выдал своего ликования; сын, наблюдавший всю сцену издали, знал лишь то, что видели его глаза, ибо расстояние было слишком велико для ушей; никто из людей Суллы не присутствовал на переговорах. Сулла поставил их в известность о заключении договора, и только.
Положения договора решено было высечь на высоком каменном монументе, который Оробаз пожелал возвести на месте, где восседал Сулла; ценные мраморные плиты разобранного помоста были возвращены туда, откуда их взяли. Договор на четырех языках – латинском, греческом, парфянском и мидийском – высекли на четырех гранях обелиска. Было составлено также два пергамента: один – Сулла забирал с собой в Рим, другой – Оробаз увозил в Селевкию-на-Тигре, где, как он предсказывал, договор получит одобрение парфянского царя Митридата.
Тигран убрался прочь, словно побитая дворняжка; исчезнув с глаз своих сюзеренов, он вернулся туда, где только намечались улицы его нового города Тигранакерта. Следовало сразу написать обо всем Митридату Понтийскому, но он тянул с письмом не один день. Только получив вести от своего друга при дворе в Селевкии-на-Тигре, он с некоторым удовлетворением составил такое послание:
Остерегайся этого римлянина, Луция Корнелия Суллу, бесценный и могущественный тесть! В Зевгме на Евфрате он заключил договор о дружбе с сатрапом Селевкии-на-Тигре Оробазом, действовавшим от имени моего сюзерена, парфянского царя Митридата.
Теперь, возлюбленный царь, у меня связаны руки. Согласно условиям этого договора, я должен оставаться на восточном берегу Евфрата и не смею ослушаться, пока на парфянском троне восседает твой безжалостный старый тезка. Мое возвращение стоило Армянскому царству семидесяти долин, и еще семьдесят отберут у меня за неповиновение.
Но не следует отчаиваться. Мне передали твои слова о том, что мы молоды и у нас есть время ждать. Договор между Римом и Парфянским царством лишь укрепил мое решение расширить Армению. Обрати свой взор на страны, которые ты называл: Каппадокию, Пафлагонию, провинцию Азия, Киликию, Вифинию и Македонию. Я двинусь на юг, в Сирию, Аравию, Египет. Не говоря о Парфянском царстве. Скоро старый парфянский царь Митридат испустит дух. Я предрекаю войну за трон, ибо он держит своих сыновей в повиновении, как держит в повиновении меня, никому не отдавая предпочтения, угрожает и карает, порой даже смертью, для устрашения остальных. А значит, ни один из его сыновей не сумел возвыситься, и после смерти старого царя сложится опасное положение. Клянусь, досточтимый тесть, что, как только вспыхнет война между сыновьями парфянского царя, я воспользуюсь ситуацией и устремлюсь в Сирию, Аравию, Египет, Месопотамию. А пока я продолжу строить Тигранакерт.
И вот что еще должен я сообщить тебе о встрече Оробаза и Луция Корнелия Суллы. Оробаз велел халдейскому провидцу Набополассару изучить ладонь и лик римлянина. Теперь я знаю, каков этот Набополассар, брат которого состоит предсказателем при самом царе царей. Говорю тебе, великий и мудрый тесть, халдей – настоящий провидец и никогда не ошибается. Изучив ладонь и лик Луция Корнелия Суллы, он простерся ниц, унизившись перед римлянином, как не унижаются ни перед кем, кроме царя царей. Оробазу он сказал, что Луций Корнелий Сулла – величайший человек в мире, от реки Инд до реки Океан, – таковы были его слова. Я очень испугался, Оробаз тоже, и на то были причины. Вернувшись в Селевкию-на-Тигре и застав там парфянского царя, он и остальные тут же поведали ему о случившемся, в том числе о подробностях наших с тобой дел, могущественный тесть, сообщенных римлянином. Упомянуто было и предостережение римлянина о твоем намерении завоевать Парфянское царство. Царь Митридат насторожился. Я окружен соглядатаями. Но – единственное радующее меня известие – он казнил Оробаза и Набополассара за то, что они превозносили римлянина больше, чем своего царя. При этом он решил исполнять договор и написал об этом в Рим. Кажется, старик сожалеет, что не увидел этого Луция Корнелия Суллу. Полагаю, что, увидев его, он задал бы работы своему палачу. Жаль, что тогда он был в Экбатане.
Наше будущее, дражайший тесть, в руках судьбы. Возможно, Луций Корнелий Сулла больше не появится на Востоке и нацелится на Запад. Возможно, в один прекрасный день царем царей назовусь я. Знаю, для тебя это ничего не значит. Но для того, кто вырос при дворе в Экбатане, Сузах, Селевкии-на-Тигре, это значит все.
Моя возлюбленная жена, твоя дочь, и наши дети счастливы и здоровы. Хотелось бы мне уверить тебя и в том, что задуманное нами осуществляется, но, увы, еще не пришло время.
Через десять дней после переговоров на мраморном помосте Луций Корнелий Сулла получил экземпляр договора и приглашение присутствовать при открытии монумента на берегу великой молочно-голубой реки. Он явился в своей toga praetexta, стараясь не обращать внимания на палящее летнее солнце, опасное для его кожи; это был тот случай, когда шляпа оказалась бы неуместной. Он просто смазал лицо маслом в надежде на то, что за несколько часов не успеет сильно обгореть.
В этом он, конечно, ошибся, преподав урок сыну: став свидетелем мучений отца, тот тоже поклялся не расставаться со шляпой. Надулись волдыри, потом кожа стала слезать клочьями; снова волдыри, снова шелушение, зуд, гной. Но спустя сорок дней, когда его небольшая армия добралась до Тавра, кожа на лице Суллы приняла здоровый вид и больше не зудела. Морсим раздобыл на базаре на берегу реки Пирам мазь с приятным запахом, и Сулла, регулярно втирая ее, наконец исцелился. Не осталось даже пятен, что очень радовало тщеславного проконсула.
О мешках с золотом, как и о предсказании Набополассара, он не рассказывал никому, даже сыну. К мешку, полученному от царя Осроены, присоединились еще пять – дар парфянина Оробаза. На монетах Оробаза был выбит профиль парфянского царя Митридата II – короткошеего старика с носом, смахивавшим на рыболовный крючок, тщательно завитыми волосами и острой бородкой, в круглой шапочке без полей, как у его послов, отличавшейся, правда, повязанной вокруг лентой-диадемой.
В Тарсе Сулла обменял свои золотые монеты на добрые римские денарии и, к своему изумлению, убедился, что разбогател на десять миллионов денариев – сорок миллионов сестерциев. Его состояние увеличилось более чем вдвое! Конечно, мешкам с римскими монетами самое место было в банковском доме в Тарсе, выдавшем Сулле permutatio на пергаментном свитке, который он спрятал в складках своей тоги.
Год близился к концу, вступила в свои права осень, и Сулла уже подумывал о возвращении домой. Дело было сделано, и сделано неплохо. Римские казначеи, выдавшие ему средства на ведение войны, останутся довольны: было еще десять мешков золота – два от Тиграна Армянского, пять от парфянского царя, один от каммагенского, еще два от самого царя Понта. Сулле было теперь чем расплатиться с войском и чем отблагодарить Морсима, после чего оставалось еще две трети; средств стало больше, чем было в начале кампании! До чего удачный год! Его репутация в Риме укрепится, и есть на что побороться за консульскую должность!
Он уже нанял в Тарсе речное судно, погрузил на него поклажу и готовился сняться с якоря, как вдруг получил письмо от Публия Рутилия Руфа, написанное в сентябре.
Надеюсь, Луций Корнелий, это письмо найдет тебя вовремя. Надеюсь также, что для тебя этот год складывается лучше, чем для меня. Но к делу.
Как я люблю описывать события в Риме для тех, кто далеко! Как мне будет этого не хватать! Кто станет писать мне? Но все же к делу.
В апреле мы выбрали новую пару цензоров. Это великий понтифик Гней Домиций Агенобарб и Луций Лициний Красс Оратор. Сам понимаешь, до чего это нелепая парочка! Пылкость в одной упряжке с косностью, Гадес и Зевс, краткость и многословие, Гарпия и Муза. Теперь весь Рим тщится найти наилучшее описание для наихудшего дуэта. Конечно, рядом с Крассом Оратором должен был стоять мой дорогой Квинт Муций Сцевола, но нет, Сцевола отказался участвовать в выборах. Сказал, что слишком занят. На самом деле это осторожность. После суматохи, устроенной прошлыми цензорами и вылившейся в lex Licinia Mucia, Сцевола, сдается мне, счел за благо от всего этого отстраниться.
Конечно, особые комиссии, учрежденные во исполнение этого закона, ныне распущены. Нам с Гаем Марием удалось покончить с ними еще в начале года на том основании, что они были финансовым бременем и не окупались. К счастью, с этим все согласились. Поправка легко прошла и в сенате, и в центуриатных комициях. Но шрамы остались, Луций Корнелий, и какие болезненные! Усадьбы и виллы самых въедливых судей, Гнея Сципиона Назики и Катула Цезаря, сгорели дотла; другие лишились урожаев, виноградников, в их цистерны с водой подливали яд. Появилась новая ночная забава: найти римского гражданина и избить его до полусмерти. Естественно, никто, даже Катул Цезарь, не готов признать, что причина всех этих бед — lex Licinia Mucia.
Отвратительный юнец Квинт Сервилий Цепион набрался наглости и привлек к суду принцепса сената Скавра за получение огромной взятки от царя Понта Митридата. Ты можешь представить, что за этим последовало. Скавр явился на Нижний форум, где заседал суд, но не для того, чтобы ответить на обвинения. Подскочив к Цепиону, он ударил его сначала по левой щеке, потом по правой – шлеп-шлеп! Клянусь, в такие моменты Скавр становится выше на целых два фута. Он возвышался над Цепионом, хотя на самом деле они примерно одного роста.
«Как ты смеешь! – пролаял он. – Что ты себе позволяешь, гнусный жалкий червяк? Немедленно откажись от своих смехотворных обвинений, иначе пожалеешь, что появился на свет! Ты, Сервилий Цепион, выходец из семьи, известной своей любовью к золоту, смеешь обвинять меня, Марка Эмилия Скавра, принцепса сената, в том, что я беру золото? Я мочусь на тебя, Цепион!»
Ни на что не обращая внимания, он зашагал через Форум, сопровождаемый приветствиями, рукоплесканиями и свистом. Цепион остался стоять с пылающими щеками, не глядя на всадников, которым приказали явиться для выбора коллегии присяжных. После устроенной Скавром сцены присяжные все равно оправдали бы его, какие бы несокрушимые доказательства своей правоты ни предъявил бы Цепион.
«Я отзываю свои обвинения», – сказал Цепион и удрал домой.
Та же судьба ждет любого, кто выступит против Марка Эмилия Скавра, непревзойденного лицедея, позера и предводителя всех хороших людей. Честно говоря, я был в восторге. Цепион давно портил жизнь Марку Ливию Друзу, весь Форум об этом знает. Похоже, Цепион решил, что моему племяннику следовало бы занять его сторону, когда вскрылась история связи моей племянницы с Катоном Салонианом, а когда этого не произошло, вконец разошелся. Он по-прежнему продолжает злиться из-за того кольца.
Но довольно про Цепиона, не стану дальше марать это письмо упоминанием его имени. Благодаря народному трибуну Гнею Папирию Карбону у нас появился новый полезный закон. Счастье отвернулось от этого семейства, после того как его члены решили пренебречь своим патрицианским статусом. Два самоубийства в последнем поколении! Теперь же кучке молодых сторонников Папирия неймется посеять смуту. Несколько месяцев назад – ранней весной, как бежит время! – Карбон созвал contio в плебейском собрании. Красс Оратор и великий понтифик Агенобарб только-только объявили себя кандидатами в цензоры. Карбон попытался протолкнуть через плебейское собрание новый вариант закона о зерне Сатурнина. Но возникла потасовка, погибли двое бывших гладиаторов, досталось нескольким сенаторам, и собрание было прервано по причине нарушения порядка. Красс Оратор из-за своей избирательной кампании тоже попал в переплет, ему испачкали тогу, и он был вне себя от ярости. В результате он внес в сенате постановление о том, что вся ответственность за соблюдение порядка во время собрания возлагается на созвавшего его магистрата. Постановление оценили как превосходное, и оно было принято. Если бы созванное Карбоном contio проходило после утверждения нового закона Красса Оратора, то трибуна обвинили бы в потворстве насилию и присудили бы к высокому штрафу.
А теперь перехожу к самому лакомому известию.
Мы остались без цензоров!
«Что произошло, Публий Рутилий?» – слышу я твой возглас. Сейчас объясню. Сначала мы думали, что при всем несходстве характеров эти двое сработаются. Они утверждали государственные контракты, просматривали списки сенаторов и всадников, – как вдруг последовал указ об изгнании из Рима всех учителей риторики, кроме горстки обладателей безупречной репутации. Наибольший гнев вызвали учителя латинской риторики, хотя и грекам пришлось несладко. Ты знаешь эту публику, Луций Корнелий: за несколько сестерциев в день они гарантируют превращение сыновей нуждающихся, но честолюбивых римлян третьего и четвертого класса в законников, которые потом неустанно снуют по Форуму, охотясь на нашу легковерную, падкую на сутяжничество чернь. Эта братия даже не удосуживается учить на греческом, ведь язык большинства юридических процедур – латинский. Все согласны, что эти так называемые учителя риторики тянут вниз наши законы и законников, пользуются неосведомленностью и забитостью многих, выманивая имеющиеся у тех скудные деньги и позоря наш Форум! Теперь всем им пришлось убраться! Представь, какие проклятия обрушили они на Красса Оратора и на великого понтифика Агенобарба, но что толку? Закон есть закон. Остаться разрешено только учителям риторики с незапятнанной репутацией и с приличным числом клиентов.
Казалось все хорошо, цензорам пели хвалу, считая, что теперь они поладят. А они возьми и сцепись! Начались ссоры в присутствии многочисленных свидетелей, вылившиеся в потоки желчи и ругательств, слышные доброй половине Рима, каковая половина (к ней, признаться, принадлежу и я) охотно задерживалась подле навеса цензоров, чтоб вдоволь наслушаться.
Знаешь ли ты, что Красс Оратор теперь разводит рыбу, – это занятие ныне считается совместимым с сенаторским достоинством? Он вырыл в своем загородном поместье обширные пруды и зарабатывает целое состояние продажей пресноводных угрей, щук, карпов и прочей водной живности многочисленным покупателям, в частности коллегии эпулонов, перед всеми важными праздниками. Мы бы так об этом и не проведали, если бы Луций Сергий Ората не затеял разведение устриц в Байи! А от устриц до угрей, как ты понимаешь, дорогой Луций Корнелий, всего лишь крохотный шажок!
О, как мне будет недоставать восхитительного римского буйства! Но об этом потом, а пока вернусь к Крассу Оратору и к его рыбному хозяйству. В своих сельских имениях он ограничивался сугубо коммерческой деятельностью. Но, будучи Крассом Оратором, он влюбился в свою рыбу. Взял и расширил пруд у себя в перистиле прямо здесь, в Риме, чтобы выпустить в него совсем уж экзотических и дорогих рыб. Теперь он сидит на краю пруда, болтает в воде пальцем и подманивает своих любимиц, всплывающих за крошками хлеба и всякими лакомствами. Особенно хорош был один карп – огромный, цвета оловянного кубка, очень мил личиком. До того ручной, что подплывал к краю пруда при появлении в саду Красса Оратора. Я не могу осуждать его за привязанность к этой твари.
Так вот, рыбина возьми и издохни, и Красс Оратор обезумел от горя. Его долго никто не видел, тем, кто к нему заглядывал, говорили, что он лежит в тоске. Потом он появился на людях бледный и безучастный и присоединился к своему коллеге великому понтифику под их общим навесом на Форуме. Кстати, они собирались перенести свой навес на Марсово поле, чтобы провести давно назревший ценз.
«Ха! – сказал великий понтифик Агенобарб при виде Красса Оратора. – Где твоя toga pulla? Где траурное облачение, Луций Лициний? Удивительно! Я слышал, что после кремации своей рыбы ты нанял актера, надел на него восковую маску и заставил плыть до самого храма Венеры Либитины. Еще я слышал, что ты заказал для маски рыбы ларец и намерен носить его на всех будущих похоронах Лициниев Крассов как члена семьи!»
Красс Оратор величаво выпрямился – как все Лицинии Крассы, он наделен высоким ростом – и уставился с высоты на внушительный нос собрата-цензора.
«Верно, Гней Домиций, – важно молвил Красс Оратор, – я плакал по моей умершей рыбе. Это потому, что я гораздо лучше тебя! У тебя уже умерли три жены, а ты ни по одной не пролил ни слезинки!»
Вот так, Луций Корнелий, завершилось цензорство Луция Лициния Красса Оратора и великого понтифика Гнея Домиция Агенобарба.
Жаль, конечно, что у нас еще четыре года не будет ценза. Пока что никто не намерен выбирать новых цензоров.
А теперь плохие новости. Я пишу это накануне отплытия в Смирну, в изгнание. Да, я вижу, как ты удивленно вздрагиваешь. Публий Рутилий Руф, самый безвредный и честный из людей, приговорен к ссылке? И все же это так. Некоторые в Риме не забыли, как отлично мы с Квинтом Муцием Сцеволой поработали в провинции Азия, – такие, к примеру, как Секст Перквитиний, лишившийся возможности изымать бесценные произведения искусства в счет неуплаты налогов. Будучи дядей Марка Ливия Друза, я также навлек на себя враждебность этого отвратительного Квинта Сервилия Цепиона. А через него – достойного только самых грубых слов Луция Марция Филиппа, все еще мечтающего о консульстве. До Сцеволы никто не пытался дотянуться – слишком он силен. Поэтому взялись за меня. И как! Предъявили в суде по делам о вымогательстве явно поддельные доказательства, будто бы я – я! – выколачивал деньги из беспомощных жителей провинции Азия. Обвинителем выступал некий Апиций, хвастающийся, что он клиент Филиппа. Мне советовали многих защитников: и Сцеволу, и Красса Оратора, и Антония Оратора, и даже девяностодвухлетнего Сцеволу Авгура – только выбирай! Даже этот кошмарный молокосос, которого все, кому не лень, таскают по Форуму, – Марк Туллий Цицерон – вызывался стать моим заступником.
Но я видел, Луций Корнелий, что все это было бы тщетно. Присяжным отвалили целое состояние (золото Толозы?) за мой обвинительный приговор. Поэтому я отклонил все предложения и защищался сам. Льщу себя надеждой, что это получилось у меня изящно и с достоинством. По крайней мере, спокойно. Помощник у меня был один-единственный – мой ненаглядный племянник Гай Аврелий Котта, старший из троих сыновей Марка Котты, сводный брат дорогой моей Аврелии. Другому ее сводному брату, Луцию Котте, – он был претором в год введения lex Lucinia Micia – хватило дерзости помогать обвинению! Теперь его дядя Марк Котта с ним не разговаривает, как и сводная сестра.
Исход был, как я говорил, предрешен. Меня признали виновным в вымогательстве, лишили прав гражданина и приговорили к изгнанию на расстояние не менее пятисот миль. Правда, состояния у меня не отняли – знали, полагаю, что тогда их растерзали бы. В своем последнем слове в суде я сказал, что отправлюсь в изгнание к тем людям, из-за которых меня осудили: в провинцию Азия, прямиком в Смирну.
Домой я уже не вернусь, Луций Корнелий. Дело тут не в обиде и не в оскорбленной гордости. Не желаю больше видеть город и людей, проглатывающих такую очевидную несправедливость. Три четверти Рима сетует на вопиющую бессовестность, но это ничего не меняет, и я, ее жертва, более не римский гражданин и вынужден отправиться в изгнание. Я не унижусь, не доставлю этого удовольствия тем, кто меня приговорил: не стану заваливать сенат прошениями пересмотреть приговор и вернуть мне гражданство. Я докажу, что я истинный римлянин. Как послушный римский пес я подчинюсь приговору законно назначенного римского суда.
Я уже получил письмо от этнарха Смирны, – похоже, он не помнит себя от радости, готовясь принять у себя нового гражданина Публия Рутилия Руфа. В мою честь готовят празднества, которые грянут при моем появлении. Странный народ – так уважить человека, якобы обобравшего их до нитки!
Не надо слишком меня жалеть, Луций Корнелий. Вижу, там обо мне позаботятся. Смирна даже проголосовала за предоставление мне щедрого содержания, дома, слуг. В Риме осталось достаточно Рутилиев, чтобы доставлять неприятности от имени моего клана: мой сын, племянники, кузены из ветви Рутилиев Лупов. Я же надену греческую хламиду и греческие сандалии, ибо тога мне более не по чину. Не выкроишь ли по пути домой время, чтобы навестить меня в Смирне, Луций Корнелий? Боюсь, больше никто из моих друзей в восточной части Срединного моря не заглянет ко мне. Хоть такое утешение на чужбине!
Я решил всерьез заняться писательством. Долой руководства по снабжению войск, тактике, стратегии. Теперь я заделаюсь биографом. Думаю начать с биографии Метелла Нумидийского Свина. Я такое припомню, что Свиненок будет скрежетать зубами от злости. Потом перейду к Катулу Цезарю и припомню кое-какие события, смахивавшие на мятеж, развернувшиеся на реке Атес в те дни, когда германцы подступали к Триденту. Ох и позабавлюсь я! Обязательно навести меня, Луций Корнелий! Мне нужны сведения, которые можешь сообщить мне только ты!
Сулла, никогда не питавший особенной любви к Публию Рутилию Руфу, все же опустил свиток с влажными глазами. Вытерев слезы, он поклялся себе, что, когда он, величайший человек на свете, станет Первым Человеком в Риме, на таких, как Цепион и Филипп, обрушится кара. На них и на эту жирную жабу, всадника Секста Перквитиния.
Однако Сулла-младший и Морсим застали Суллу уже совершенно спокойного.
– Я готов, – объявил он Морсиму. – Но обязательно напомни мне сказать капитану, чтобы сначала мы зашли в Смирну. Мне надо повидать там старого друга и пообещать держать его в курсе событий в Риме.
Часть четвертая
Пока Луций Корнелий Сулла находился на Востоке, Гай Марий и Публий Рутилий Руф добились роспуска особых комиссий, учрежденных согласно lex Licinia Mucia. После этого Марк Ливий Друз воспрянул духом.
– Вот и отлично, – сказал он Марию и Рутилию Руфу вскоре после роспуска комиссий. – В конце этого года я буду участвовать в выборах народных трибунов, а в начале следующего проведу в плебейском собрании закон о предоставлении гражданских прав всем жителям Италии.
Марий и Рутилий Руф с сомнением переглянулись, но не сказали ни слова против; Друз был прав в том, что попытаться стоило и тянуть с этим не имело смысла: время не смягчит Рим. С отменой особых судов уйдут в прошлое иссеченные спины и прочие бросающиеся в глаза свидетельства римской бесчеловечности.
– Ты уже побывал эдилом, Марк Ливий, теперь тебе пора побороться за пост претора, – сказал Рутилий Руф. – Ты уверен, что хочешь в народные трибуны? Квинт Сервилий Цепион надеется стать претором, тебе предстоит сражаться в сенате с противником, обладающим империем. Мало того, в консулы снова метит Филипп, и если он пройдет – а он, вероятно, пройдет, потому что избирателям надоело год за годом любоваться им в toga candida, – то ты столкнешься со сговором консула и претора, Филиппа и Цепиона. Твоя роль народного трибуна будет из-за них ох какой трудной!
– Знаю, – твердо ответил Друз. – И все же я намерен побороться за пост народного трибуна. Только очень вас прошу никому об этом не говорить. У меня созрел план, как победить на выборах, для успеха которого важно, чтобы люди думали, что я принял решение в последний момент.
Осуждение и изгнание Публия Рутилия Руфа в начале сентября стало ударом для Друза, делавшего ставку не бесценную помощь своего дяди в сенате. Теперь все зависело от одного Гая Мария, с которым Друз не был особенно дружен. Заменить кровного родственника Гай Марий никак не мог. Это также означало, что среди родни Друза не осталось никого, с кем можно было бы поговорить по душам; его брат Мамерк, с которым у Друза установились дружеские отношения, в политике склонялся на сторону Катула Цезаря и Свиненка. Друз никогда не поднимал в разговоре с ним – и не хотел поднимать – щепетильную тему гражданских прав для всех италийцев. Катона Салониана уже не было в живых. После смерти Ливии Друзы он был погружен в хлопотные обязанности претора, отвечавшего за суды по делам об убийствах, растратах, подделках и ростовщичестве; но когда в начале года непрекращающаяся смута в Испании вынудила сенат отрядить в Заальпийскую Галлию наместника с особыми полномочиями, Катон Салониан охотно отправился туда, чтобы еще вернее отвлечься от горестных мыслей. Заботы о детях взяли на себя теща Корнелия Сципиона и шурин Друз. Летом пришла весть, что Катон Салониан упал с лошади и ударился головой; сначала травму сочли неопасной, но потом с ним случился эпилептический припадок, последовал паралич, беспамятство – и он мирно скончался, не приходя в сознание. Для Друза известие об этом стало равносильно громко захлопнувшейся двери. Все, что у него теперь осталось от сестры, – ее дети.
Понятно, что после изгнания дяди Друз не мог не написать Квинту Поппедию Силону и не вызвать его в Рим. Особые комиссии по lex Licinia Mucia больше не действовали, и сенат молчаливо согласился не учитывать до следующей переписи результаты ценза Антония – Флакка в Италии. Почему бы Силону не заглянуть в Рим? Уж очень хотелось Друзу поговорить о своем будущем трибунате с человеком, которому он мог доверять.
Со времени их последней встречи в тот памятный день в Бовиане минуло три с половиной года.
– В живых остался один Цепион, – сказал Друз Силону, дожидаясь вместе с ним в кабинете, когда их позовут ужинать, – и он отказывается видеться с детьми, которым по закону является отцом. О двоих Порциях Катонах Салонианах я могу сказать одно: они круглые сироты. К счастью, они совсем не помнят свою мать, малышка Порция помнит отца, но смутно. В этом ужасном штормящем море бедных детей непрерывно швыряют волны, и их якорь – моя мать. Катон Салониан не мог, конечно, оставить им состояния, только собственность в Тускуле и имение в Лукании. Я позабочусь, чтобы мальчик имел достаточно средств для вступления в сенат, когда наступит его время, и чтобы у девочки было достойное приданое. Насколько я понимаю, Луций Домиций Агенобарб, женатый на тетке девочки, сестре Катона Салониана, всерьез настроен женить своего сына Луция на моей маленькой Порции. Мое завещание составлено. Меня заверили, что завещание Цепиона тоже готово. Нравится ему это или нет, Квинт Поппедий, он не может оставить их ни с чем. И вообще, единственный оставшийся в его распоряжении способ их не признавать – отказываться их видеть. Вот трус!
– Бедняжки! – подхватил Силон, тоже отец. – Малыш Катон остался круглым сиротой и даже не помнит родителей!
Друз криво усмехнулся:
– Он вообще странный! Худой, как тростинка, с ужасно длинной шеей и невероятно крючковатым носом – никогда не видел такого носа у маленьких мальчиков! Он напоминает мне ощипанного грифа. Как я ни стараюсь, мне не удается его полюбить. Ему еще нет двух лет, а он уже снует по всему дому, вытянув шею, и водит носом – во всяком случае, кончиком носа! – по полу. И все время орет. Не хнычет, а вопит! Ничего не способен сказать нормальным голосом. Тот еще крикун! И задира. Стоит мне его завидеть – и, при всей жалости к нему, я пускаюсь наутек.
– А как там эта шпионка, Сервилия?
– О, она само спокойствие, сдержанность, послушание. Но только ни в чем ей не доверяй, Квинт Поппедий. Ее я тоже недолюбливаю.
Силон покосился на него желтым глазом:
– Но хоть кто-то тебя радует?
– Мой сын, Друз Нерон. Чудесный малыш! Ну, теперь не такой уже малыш. Ему восемь лет. К сожалению, его ум не поспевает за добродушием. Я пытался сказать жене, что усыновлять ребенка неосторожно, но она прикипела к нему душой, так что… Цепион-младший тоже хорош, хотя не могу поверить, что он и вправду сын Цепиона! Он вылитый Катон Салониан и очень похож на малыша Катона. Лилла славная, Порция тоже. Впрочем, девочки остаются для меня загадкой.
– Не унывай, Марк Ливий! – сказал с улыбкой Силон. – Рано или поздно все они повзрослеют, и тогда неприязнь к тому или другому окажется оправданной – или нет… Почему ты не хочешь их со мной познакомить? Признаться, мне не терпится увидеть ощипанного грифа и девчонку-шпионку. Как прискорбно, что несовершенство вызывает наибольшее любопытство!
Остаток первого дня был посвящен дружескому общению, поэтому к обсуждению положения в Италии Друз и Силон приступили только назавтра.
– В начале ноября я намерен выставить свою кандидатуру на выборах народного трибуна, Квинт Поппедий, – начал Друз.
Силон замигал, что было несвойственно марсу.
– Побывав эдилом? – удивленно спросил он. – Теперь тебе прямая дорога в преторы.
– Да, теперь я мог бы стать претором, – спокойно подтвердил Друз.
– Тогда зачем? Народный трибун? Не думаешь ли ты о том, чтобы предоставить римское гражданство всем италикам?
– Именно об этом я и думаю. Я терпеливо ждал, Квинт Поппедий – боги свидетели моего терпения! Самое подходящее время именно сейчас, когда последствия lex Licinia Mucia еще не успели забыться. И назови мне хотя бы одного сенатора подходящего возраста, у которого столько же dignitas и auctorias, как у меня, чтобы стать народным трибуном? Я просидел в сенате десять долгих лет. Почти двадцать лет я был paterfamilias в своем семействе и сохранил безупречную репутацию. Единственная моя причуда – желание предоставить гражданство всем мужчинам Италии. Я был плебейским эдилом и устраивал великолепные игры. У меня огромное состояние, не счесть клиентов, меня знают и уважают повсюду в Риме. Поэтому, когда я выскажу намерение стать народным трибуном, а не претором, все поймут, что у меня имеются на то веские причины. Я известный защитник и знаменитый оратор. Тем не менее уже десять лет мой голос не слышен в сенате, мне еще предстоит сказать свое слово. В судах достаточно произнести мое имя, чтобы привлечь большие толпы. Воистину, Квинт Поппедий, когда я предложу себя в народные трибуны, каждый в Риме, от верхов до самых низов, будет знать, что у меня есть на то серьезные основания и я делаю это в общих интересах.
– Это будет, конечно, сенсация, – молвил Силон, надувая щеки. – Но не думаю, что ты сможешь победить. Ты полезнее потратишь время, если станешь претором, а там, через два года, глядишь, и консулом.
– В консульском кресле мне не преуспеть, – уверенно возразил Друз. – Такой закон должен исходить от плебейского собрания, на обсуждение которого его вынесет плебейский трибун. Если бы я предложил подобный законопроект как консул, его бы сразу провалили. Но в роли народного трибуна я смогу влиять на своих коллег так, как не снилось никакому консулу. У меня будет власть над консулом – право вето. При необходимости я бы мог на этом сыграть. Гай Гракх полагал, что блестяще выступил в роли народного трибуна. Но, уверяю тебя, Квинт Поппедий, со мной никто не сравнится! За меня говорит мой возраст, мудрость, клиенты и влияние. Моя программа законопроектов идет гораздо дальше гражданства для всей Италии. Я намерен перетряхнуть все римское устройство.
– Да хранит и ведет тебя великий лучезарный Змей, Марк Ливий! Это все, что я могу сказать.
Не отводя взгляд, показывая всем своим видом, что он твердо верит в себя и в свои речи, Друз подался вперед:
– Пора, Квинт Поппедий! Я не могу допустить войны между Римом и Италией. Подозреваю, что ты и твои друзья готовитесь к войне. Если вы ее развяжете, то потерпите поражение. Как и Рим, хотя я верю в его победу. Рим никогда не проигрывал войн, друг мой. Случались проигранные сражения. Возможно, на первых порах Италия будет превосходить Рим, но в конечном счете победа останется за Римом. Потому что Рим всегда побеждает. Но это будет пиррова победа! Одни только экономические последствия будут ужасными. Нам обоим известна старая поговорка: никогда не воюй у себя дома, – пусть урон терпят чужеземцы.
В приливе вдохновения Друз крепко схватил Силона за руку:
– Прошу тебя, Квинт Поппедий, позволь мне поступить по-моему! Мирно, как того требует здравый смысл, иначе ничего не получится!
Без всякого принуждения, без тени сомнения, даже с горячностью Силон закивал в знак согласия:
– Дорогой мой Марк Ливий, я поддержу тебя от всего сердца! Не важно,что я не верю в осуществимость твоих планов. Как Италии узнать о категорическом нежелании Рима предоставлять гражданство, если только такую попытку не предпримет человек твоего калибра? Оглядываясь назад, я соглашаюсь с тобой, что жульничество с цензом было глупостью. Никто из нас, думаю, не надеялся, что это сработает. Скорее это был способ дать понять сенату и народу Рима, как сильны мы, италики. Да, это отбросило нас назад. Итак, действуй! Италия сделает все, что в ее силах, чтобы тебе помочь. Торжественно даю тебе мое обещание.
– Лучше бы вся Италия стала моим клиентом! – проговорил Друз с грустной усмешкой. – Тогда, после принятия закона о всеобщем гражданстве, каждому италику пришлось бы голосовать так, как я хочу. И я смог бы диктовать Риму свою волю.
– Конечно смог бы, Марк Ливий, – согласился Силон. – Если бы у тебя в клиентах оказалась вся Италия.
Друз поджал губы, стараясь совладать с внутренним ликованием.
– Это в теории. А на практике никого нельзя ни к чему принуждать.
– Это можно легко устроить! – вскричал Силон. – Нужно лишь, чтобы мы с Гаем Папием Мутилом и с другими предводителями италиков потребовали от каждого мужчины принести клятву в том, что в случае твоей победы в деле обеспечения всеобщего избирательного права он при любом раскладе сделается твоим человеком до самой смерти.
От изумления Друз разинул рот:
– Клятва? А они согласятся?
– Согласятся – при условии, что клятва не будет распространяться на их и на твое потомство, – твердо отвечал Силон.
– Упоминать потомство необязательно, – медленно проговорил Друз. – Все, что мне нужно, – время и широкая поддержка. Дальнейшее будет завершено после меня.
Вся Италия – его клиенты! Любой благородный римлянин спокон веку мечтал иметь столько клиентов, чтобы набирались целые армии! Если он заполучит в клиенты всю Италию, перед ним откроются небывалые возможности!
– Будет тебя клятва, Марк Ливий, – уверенно пообещал Силон. – Твое желание стать патроном всей Италии совершенно правомерно. Избирательное право для всех – только начало. – Силон засмеялся высоким неприятным смехом. – Вот это будет триумф так триумф! Наблюдать, как человек становится Первым Человеком в Риме – нет, Первым Человеком в Италии! – стараниями тех, кто до поры до времени никак не влиял на римские дела… – Силон осторожно разжал пальцы Друза на своем предплечье. – А теперь объясни, как ты собираешься этого добиться.
Но Друз не смог собраться с мыслями: слишком велики, слишком невообразимы были последствия. Вся Италия – его клиент!
Как это сделать? Как? Из всех влиятельных людей сената подставить ему плечо мог только Гай Марий, но Друз знал, что одного Гая Мария будет недостаточно. Ему понадобятся Красс Оратор, Сцевола, Антоний Оратор и принцепс сената Скавр. С приближением трибунских выборов Друз все больше отчаивался; он ждал удобного момента, но удобный момент никак не наступал. Выдвижение его кандидатуры в народные трибуны оставалось тайной, известной только Силону и Марию; добыча никак не шла ему в руки.
И вот как-то раз ранним утром в конце октября Друз увидел у комиция всех сразу: принцепса сената Скавра, Красса Оратора, Сцеволу, Антония Оратора и великого понтифика Агенобарба; было очевидно, что они обсуждают недавнюю потерю – Публия Рутилия Руфа.
– Присоединяйся к нам, Марк Ливий, – сказал Скавр, подвигаясь, чтобы освободить для него место. – Мы обсуждали, как можно вырвать суды из рук всадников. Приговор Публию Рутилию – настоящее преступление. Всадники сами лишили себя права заправлять любым римским судом!
– Согласен, – сказал Друз и посмотрел на Сцеволу. – В действительности они метили в тебя, а не в Публия Рутилия.
– Почему же тогда меня не тронули? – спросил Сцевола, еще не оправившийся от огорчения.
– У тебя слишком много друзей, Квинт Муций.
– Публию Рутилию друзей не хватило. Какой позор! Говорю вам, мы не можем себе позволить лишиться Публия Рутилия! Он был сам себе хозяин, а это большая редкость, – сердито проговорил Скавр.
– Не думаю, – заговорил Друз, осторожно подбирая слова, – что нам удастся полностью отвоевать суды у всадников. Если отменен даже закон консула Цепиона, то я не вижу способа вернуть суды в ведение сената. Всадники заправляют судами уже более тридцати лет. Им нравится верховодить. Более того, они чувствуют себя неуязвимыми. В законе Гая Гракха не говорится, что коллегия из всадников правомочна выносить приговоры по делам о взяточничестве. Но всадники настаивают, что, по закону Семпрония, их нельзя преследовать за взяточничество в ранге присяжных.
Красс Оратор в тревоге уставился на Друза.
– Марк Друз, ты лучший из всех, годных по возрасту в преторы! – воскликнул он. – Раз ты говоришь такое, на что надеяться сенату?
– Я не сказал, что сенату надо оставить надежду, Луций Лициний, – ответил Друз. – Я сказал всего лишь, что всадники откажутся выпустить из своих рук суды. Однако что мешает нам поставить их в такое положение, чтобы у них не было иного выхода, кроме как поделиться судебной властью с сенатом? Плутократы еще не правят Римом, и всадники это хорошо знают. Почему бы нам не сделать скромный первый шаг? Почему бы не внести новый закон о судах, которые поделили бы между собой поровну сословие эквитов и сенат?
Сцевола облегченно перевел дух:
– Это был бы важный шаг! Всадникам будет непросто найти предлог, чтобы отклонить этот закон, в котором они увидят протянутую им сенаторами оливковую ветвь. Что может быть справедливее раздела поровну? Сенат нельзя будет обвинить в попытке отнять у всадников суды, ведь так?
Красс Оратор усмехнулся:
– В сенате царит единодушие, Квинт Муций. Но, как хорошо известно нам, сенаторам, в любой коллегии присяжных всегда есть несколько всадников, желающих просочиться в курию Гостилия. Если коллегия целиком состоит из всадников, то эти несколько ничего не значат. Если же всадников в коллегии только половина, то равновесие нарушится в нашу пользу. Умно придумано, Марк Ливий!
– Можно сослаться на то, – подхватил великий понтифик Агенобарб, – что мы, сенаторы, обладаем ценным юридическим опытом и наше присутствие сделает суды более компетентными. Разве мы не владели судами безраздельно на протяжении почти четырехсот лет? Мы скажем, что в наше время такое полновластие уже невозможно, однако совсем исключать сенат тоже нельзя. – Для великого понтифика Агенобарба это был разумный довод; он стал мягче со времен своего судейства в Альбе-Фуценции, хотя сохранил неприязнь к Крассу Оратору. Все это не мешало им быть заодно сейчас, когда стоял вопрос о сохранении привилегий их класса.
– Все верно! – сказал Антоний Оратор, сияя.
– Я согласен, – сказал Скавр и провернулся к Друзу. – Ты собираешься провести это, став претором, Марк Ливий? Или ты хотел бы, чтобы этим занялся кто-то другой?
– Я сделаю это сам, принцепс сената, только не как претор, – ответил Друз. – Я собираюсь стать народным трибуном.
Все ахнули и дружно уставились на Друза.
– В твоем возрасте? – спросил Скавр.
– Возраст – мое явное преимущество, – спокойно возразил Друз. – Он позволяет мне стать претором, но я буду добиваться должности народного трибуна. Никто не сможет упрекнуть меня ни в молодости, ни в неопытности, ни в опрометчивости, ни в желании ублажить толпу – ни в чем том, из-за чего обычно и рвутся в народные трибуны.
– Тогда почему туда рвешься ты? – задал главный вопрос Красс Оратор.
– Я хочу провести ряд законов, – ответил Друз, сохраняя спокойную уверенность.
– Претор тоже может вносить на рассмотрение законы, – напомнил Скавр.
– Да, но не так легко и просто, как народный трибун. За время существования Республики внесение законопроектов стало привилегией народных трибунов. Плебейскому собранию полюбилась роль законодателя. Зачем нарушать статус-кво, принцепс сената? – спросил Друз.
– У тебя на уме другие законы, – вкрадчиво произнес Сцевола.
– Это так, Квинт Муций, – признал Друз.
– Расскажи нам, какие законопроекты ты готовишь.
– Я хочу удвоить численность сената, – сказал Друз.
Все дружно ахнули и так же дружно напряглись.
– Ты начинаешь говорить, как Гай Гракх, – осторожно молвил Сцевола.
– Понимаю твое беспокойство, Квинт Муций. Но суть в том, что я хочу увеличить влияние римского сената и мыслю достаточно широко, чтобы использовать идеи Гая Гракха, если они отвечают моим целям.
– Каким образом пополнение сената всадниками способно усилить влияние сенаторского сословия? – спросил Красс Оратор.
– Да, Гай Гракх предлагал именно это, – стал объяснять Друз. – Но мое предложение несколько иное. Во-первых, невозможно отрицать очевидное: сенат стал слишком малочислен. На заседания приходят далеко не все, часто не набирается кворума. Если нам придется заседать в коллегиях присяжных, на скольких из нас ляжет эта обязанность? Согласись, Луций Лициний, добрая половина сенаторов, а то и более отказывались быть присяжными, когда коллегии были целиком сенаторскими. Но в отличие от Гая Гракха, собиравшегося пополнить сенат всадниками, я хочу привлечь людей нашего, сенаторского уровня – ну и некоторое число всадников, чтобы они не протестовали. У всех нас есть дяди, кузены, даже младшие братья, которые с удовольствием вошли бы в сенат и имеют достаточное состояние, но им нет хода, ведь сенат заполнен. Их я ввел бы в сенат в первую очередь. Что до всадников, то чем плохо превратить некоторых ярых противников в наших сторонников, сделав их сенаторами? Новых сенаторов одобряют цензоры, и им принадлежит последнее слово. – Друз откашлялся. – Знаю, сейчас у нас нет цензоров, но мы можем выбрать новую пару в апреле или годом позже.
– Мне нравится эта идея, – сказал Антоний Оратор.
– Какие еще законы есть у тебя в запасе? – спросил великий понтифик Агенобарб, пропуская мимо ушей слова о цензорах, ибо таковыми еще должны были оставаться Красс Оратор и он, если бы не их ссора.
Но на этот вопрос Друз уже не дал прямого ответа, сказав только:
– Пока не знаю, Гней Домиций.
– Так уж не знаешь? – фыркнул великий понтифик.
Друз невинно улыбнулся:
– Возможно, и знаю, Гней Домиций, но еще недостаточно твердо, чтобы обсуждать их в таком благородном обществе. Не сомневайтесь, у вас будет возможность их обсудить.
– Вот как?.. – с сомнением произнес великий понтифик Агенобарб.
– Хотелось бы мне знать, Марк Ливий, как давно ты решил баллотироваться в народные трибуны, – молвил принцепс сената Скавр. – Мне непонятно, почему после избрания плебейским эдилом ты не пытался обратиться к сенату. Получается, ты приберегал право первой речи для особого случая?
Друз вытаращил глаза:
– Как ты можешь такое предполагать, Марк Эмилий? Эдилу не о чем говорить!
– Гм… – буркнул Скавр и пожал плечами. – Я поддержу тебя, Марк Ливий. Мне нравится твой образ мыслей и действий.
– И я, – сказал Красс Оратор.
Остальные тоже согласились поддержать Друза.
Друз не выдвигал свою кандидатуру в народные трибуны до утра дня выборов; это был рискованный шаг, но в его случае замысел удался. Ему не пришлось отвечать на неудобные вопросы в предвыборный период, и все выглядело так, будто он, увидев безликий список кандидатов, попросту отчаялся и под влиянием момента, желая повысить планку, предложил себя. Самыми сильными его противниками были Сестий, Савфей и Миниций – люди незнатные и тусклые. Друз раскрыл свое намерение только после того, как это сделали двадцать два его соперника.
Выборы прошли спокойно, избирателей было мало – всего две тысячи, небольшая часть имеющих право голоса. В комиции могло свободно поместиться вдвое больше людей, поэтому переносить голосование в другое место – например, в цирк Фламиния – не было нужды. После регистрации кандидатов председатель завершавшей полномочия коллегии народных трибунов приступил к процедуре голосования, сперва устроив перекличку избирателей и рассортировав их по трибам.
За происходившим строго следил консул-наблюдатель плебей Марк Перперна. Ввиду низкой явки рабам, державшим канаты для разделения триб, не пришлось отправлять более многочисленные трибы в отсеки за пределами площадки комиция.
Поскольку это были выборы, все тридцать пять триб голосовали одновременно, а не как при утверждении закона или вынесении приговора – одна за другой. Корзины, в которые опускались восковые таблички, стояли на временном помосте под западным краем ростры, на которой размещались завершавшие свой срок народные трибуны, кандидаты и консул-наблюдатель.
Вокруг нижних ярусов комиция воздвигли деревянную загородку. Тридцать пять узких проходов круто поднимались со дна амфитеатра на шесть футов, к корзинам; канаты, разделявшие трибы, тянулись поперек ярусов, отделяя одну трибу от другой, делая комиций похожим сверху на нарезанный кусками пирог. Каждый избиратель, подойдя к своему проходу, получал от одного из стражей восковую табличку, останавливался, чтобы чиркнуть по ней палочкой-стилем, поднимался по дощатому помосту и бросал табличку в корзину своей трибы. Исполнив гражданский долг, он мог уйти, пройдя по верхнему ярусу амфитеатра до края ростры. Но те, кто не поленился надеть тогу и явиться на выборы, не уходили до завершения подсчета голосов, а потом задерживались на Нижнем форуме, болтая, закусывая и наблюдая за работой в комиции.
На протяжении всего длительного процесса закончившие свой срок народные трибуны стояли в глубине ростры, кандидаты держались ближе к ее передней части, а председатель уходящей коллегии и консул-наблюдатель сидели на скамье впереди, откуда можно было наблюдать за ходом голосования.
Некоторые трибы – особенно четыре городские – были представлены в этот день несколькими сотнями избирателей, другие же – гораздо меньшим числом, с самых отдаленных окраин прибыли всего по дюжине-две человек. Однако каждой трибе принадлежал всего один голос – большинства ее проголосовавших членов, отчего сельские трибы получали непропорционально большое преимущество.
В одну корзину не помещалось более сотни табличек, и их уносили на подсчет сразу, как только они наполнялись, ставя на их место пустые. Консул-наблюдатель внимательно следил за подсчетом, который вели на широком столе, установленном прямо под трибуной, тридцать пять custodes – служащих и их помощников, интенсивность работы которых зависела от числа избирателей в их трибах.
За два часа до заката все было кончено, и консул-наблюдатель огласил результаты оставшимся избирателям, слушавшим его, стоя в комиции, где уже смотали веревки. Он разрешил начертать результаты на куске пергамента и вывесить на задней, обращенной к Форуму стене ростры, где в предстоящие дни с ними мог ознакомиться любой посетитель Форума.
Новым председателем коллегии стал Марк Ливий Друз, которому отдали предпочтение все тридцать пять триб, чего еще никогда не было. Миниций, Сестий и Савфей тоже прошли в трибуны, а с ними еще шестеро, чьи имена были совсем неизвестны и так мало вдохновляли, что их вряд ли кто-то запомнил; собственно, помнить их не было причин, ибо они никак себя не проявили за год трибуната, начавшийся с декабря, через тридцать дней после выборов. Друз был, разумеется, рад отсутствию сильных противников.