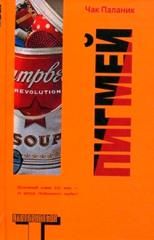Незнакомцы Кунц Дин
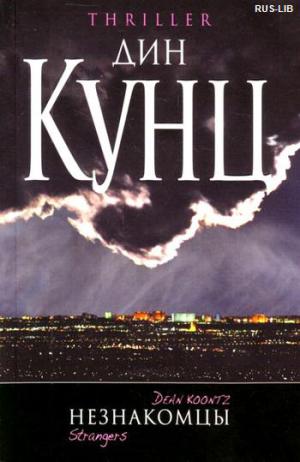
Обычно подготовка операции доставляла ему не меньшее удовольствие, чем ее осуществление. Но теперь, шагая в направлении домов на юго-западе к оставленной там машине, он не испытывал ни малейшего удовлетворения, никаких признаков азарта. Он явно утрачивал способность наслаждаться даже разработкой преступления.
С ним что-то происходило, он менялся. И при этом не понимал, почему это происходит.
Между тем ночь становилась светлее, и Джек взглянул вверх: над горизонтом вальяжно зависла жирная до неприличия Луна, казалось, она вот-вот раздавит землю. Джек замер, любуясь восходящим спутником своей планеты. По спине его вдруг пробежал озноб, но он не был следствием зимнего холода, он шел откуда-то изнутри.
— Луна, — тихо произнес Джек.
Услышав свой собственный голос, он содрогнулся, охваченный необъяснимым страхом. Ему безумно захотелось бежать и спрятаться от Луны, словно ее сияние могло растворить его, как едкая кислота.
Через минуту странный порыв прошел. Джек не мог понять, почему Луна так неожиданно напугала его. Ведь это всего лишь старинная знакомая, воспетая многими поэтами в романтических стихах и любовных песнях. Странно.
Он продолжал свой путь к машине, время от времени поглядывая на Луну и пожимая плечами. Однако, когда он сел за руль, доехал до Нью-Хейвена и вырулил на федеральное шоссе № 95, этот любопытный инцидент полностью выветрился у него из головы. Он вновь думал о Дженни, своей фактически мертвой жене, чье состояние угнетало его под Рождество всегда сильнее, чем в обычные дни.
Позже, у себя в квартире, стоя возле окна и глядя на раскинувшийся за ним город, он почувствовал себя самым одиноким и несчастным человеком на свете.
7
Рождество
Округ Элко, Невада
Сэнди Сарвер проснулась рано, едва солнце заглянуло в окна спальни их трейлера. Вокруг было настолько тихо, что казалось, будто время остановилось.
Она вполне могла повернуться на другой бок и спать дальше, если бы захотела, потому что впереди у нее было еще восемь дней отпуска. Эрни и Фэй Блок закрыли мотель «Спокойствие» и укатили проведать своих внуков в Милуоки. Примыкающий к мотелю гриль-бар, где работали Сэнди и ее муж, также закрылся на праздники.
Но Сэнди знала, что уже не заснет, потому что совершенно проснулась и ощущала прилив сил. Она потянулась, как кошка, под одеялом, подумывая, не разбудить ли ей Неда и не затащить ли его на себя.
Едва различимый в темной спальне, Нед крепко спал, судя по глубокому дыханию, и, хотя плоть Сэнди и требовала удовлетворения, она не стала будить его: для любви у них будет достаточно времени и днем. Сэнди выскользнула из постели, прошла в душевую и приняла сперва горячий, а потом холодный душ.
Многие годы она не интересовалась сексом, оставаясь фригидной. Но недавно вид собственного обнаженного тела смутил ее, вогнав в краску. И, хотя она не знала причины своих новых ощущений, она определенно изменилась. А случилось это позапрошлым летом, когда секс впервые стал для нее привлекательным, если можно так выразиться. Теперь это звучало глупо. Ну конечно же, секс привлекателен. Но до того лета она предавалась этому занятию чисто механически, и потому запоздавший расцвет ее эротических чувств не только приятно удивил, но и заинтриговал ее.
Обнаженная, Сэнди вернулась из душевой в спальню, взяла из шкафа свитер и джинсы и оделась. Потом она прошла на кухню и налила себе стакан апельсинового сока. Внезапно ей захотелось погонять на машине. Она оставила Неду записку, надела отороченную овчиной куртку и вышла из трейлера к пикапу.
Секс и езда на автомобиле стали для нее новыми увлечениями, которым она отдавалась с одинаковой страстью. Это было еще одной пикантной неожиданностью: до позапрошлого лета она терпеть не могла ездить на «Форде» и редко садилась за руль. Она боялась поездок на автомобиле так же, как некоторые люди боятся самолетов. Теперь же на втором месте после секса среди ее удовольствий стояла гонка по шоссе — без всякой определенной цели, просто ради самого процесса езды, от которой перехватывает дух.
Она понимала, почему секс раньше вызывал у нее отвращение, здесь не было ничего непонятного: за это следовало бы спросить с ее папаши, Хортона Перни. Мать Сэнди умерла при родах, и ее она, естественно, не знала, но вот своего папашу изучила прекрасно. Они жили с развалюхе на окраине Барстоу, на краю калифорнийской пустыни, вдвоем, вдали от людей, и Сэнди рано испытала сексуальные домогательства со стороны отца. Хортон Перни был угрюмым, тяжелым, подлым и опасным человеком, и, пока в четырнадцать лет Сэнди не сбежала из дома, он использовал ее как сексуальную игрушку.
Совсем недавно она также поняла, что и прежняя ее неприязнь к езде на автомобиле тоже была обусловлена какой-то обидой, нанесенной в детстве отцом. Хортон Перни имел мастерскую по ремонту мотоциклов — обветшалый, рассохшийся, некрашеный сарай рядом с домом, но доходов она ему почти не приносила. Поэтому два раза в год он сажал Сэнди в машину и два с половиной часа гнал по пустыне до Лас-Вегаса, где у него был знакомый сутенер по имени Самсон Шеррик. У этого типа имелся список извращенцев, питающих особую страсть к детям, и он всегда был рад видеть Сэнди. После нескольких недель, проведенных в Лас-Вегасе, папаша Сэнди набивал карманы банкнотами, сажал дочь обратно в машину и гнал назад в Барстоу. Для Сэнди эти поездки были кошмаром, потому что она наперед знала, что ожидает ее по приезде в Лас-Вегас. Но еще хуже было возвращение домой, сулившее только прежнюю постылую жизнь в вонючей хибаре и постоянные грубые приставания похотливого папаши. В обоих направлениях дорога вела в ад, и она возненавидела и рев мотора, и скрип покрышек по асфальту, и сам вид бесконечной ленты шоссе перед глазами.
Вот почему ей казалось чудом пробуждение в ней интереса к сексу и езде на автомобиле. Она не могла понять, где почерпнула силы и волю побороть свое кошмарное прошлое. Она просто изменилась после позапрошлого лета и продолжала меняться, испытывая наслаждение от ощущения происходящих в ней перемен, нарастающего уважения к себе, чувства свободы, в конце концов.
Сейчас она забралась в фордовский пикап и запустила двигатель. Их трейлер стоял на голом участке земли на южной окраине маленького поселка Биовейна, неподалеку от шоссе № 21. Вокруг, куда ни глянь, не было ничего примечательного: пустынная равнина, покатые холмы, пустые бочки из-под бензина, острые камни, жухлая трава и кустарник. Лазурное утреннее небо казалось необъятным и манило к себе, Сэнди так и хотелось взлететь, до упора утопив педаль газа.
Если бы она поехала на север, она вскоре достигла бы федерального шоссе № 60, которое вело на восток к Элко или на запад к Батл-Маунтину. Но Сэнди поехала на юг, по плохой дороге, со скоростью семьдесят миль в час. Спустя пятнадцать минут потрескавшийся асфальт кончился и пошел гравий, но Сэнди не стала испытывать судьбу на этой пустынной дороге, а предпочла свернуть на восток и помчалась по грунтовому проселку, основательно заросшему кустарником и травой.
В это рождественское утро на дороге кое-где лежал снег, вершины далеких гор были белыми, но здесь, в предгорье, осадков вообще выпадало мало, а снега — особенно: за исключением отдельных заметенных снегом холмиков и кустов, бурая земля была голой и сухой.
Пикап несся по проселку, оставляя позади пыльный шлейф. Незаметно для себя Сэнди съехала с дороги и помчалась на север, потом — на запад, достигнув наконец знакомого места. Но, как ни пыталась она припомнить, с чем связаны ее воспоминания об этом месте, ей это не удавалось. Каким-то необъяснимым образом ее подсознание нередко приводило ее именно сюда во время вот таких автомобильных прогулок, порой довольно запутанным маршрутом. Она затормозила и уставилась в грязное ветровое стекло.
Она приезжала сюда, потому что чувствовала себя после этого всегда гораздо лучше, что тоже было для нее загадкой. Возможно, настроение поднимал ландшафт, хотя он мало чем отличался от других окрестных местечек, ласкающих взор своей дикой красотой. Но только здесь Сэнди ощущала какой-то ни с чем не сравнимый покой, столь желанное умиротворение.
Она выключила двигатель, спрыгнула из пикапа на землю и, засунув руки в карманы куртки, принялась расхаживать взад и вперед, не обращая внимания на холодный ветер. Место, где она теперь прогуливалась, находилось всего в сотне ярдов к югу от федерального шоссе № 80 — оттуда время от времени доносился рев проносящихся грузовиков, чем-то похожий на рык дракона. Дальше за шоссе, на северо-восточной возвышенности, стояли мотель «Спокойствие» и ее гриль-бар, но Сэнди только раз посмотрела в том направлении. Ее больше интересовала близлежащая местность, таящая в себе необъяснимую притягательность: Сэнди казалось, что от нее исходит покой, подобно тому, как от камня, нагревшегося за день на солнце, вечером пышет теплом.
Она не искала объяснения своей привязанности к этому месту, полагая, что некой тайной силой обладает само гармоничное сочетание природных линий и форм, игра света и тени, специфика рельефа и любая попытка логически вывести формулу таинства естества столь же нелепа, как стремление разгадать секрет обаяния заката или притягательной силы любимого цветка.
В это рождественское утро Сэнди еще не знала, что именно к этому куску земли столь же неудержимо влекло 10 декабря и Эрни Блока, когда он возвращался вечером из Элко. Не ведала она и того, что именно здесь испытал он пронзительный трепет ожидания грядущего чуда и всепоглощающий страх. Пройдут недели, прежде чем она узнает, что не одинока в своей странной привязанности к этому заколдованному кусочку земли: как выяснится, немало других людей, знакомых и незнакомых ей, тоже зачарованы им.
Чикаго, Иллинойс
Это рождественское утро оказалось крайне напряженным для отца Стефана Вайцежика — неутомимого поляка, настоятеля церкви Святой Бернадетты и спасителя попавших в беду коллег-священнослужителей. С каждым новым часом этот день обретал для него все большее значение, да что там — можно с полным правом утверждать, что за всю жизнь у отца Вайцежика не было другого такого Рождества!
Отслужив вторую мессу, он около часа поздравлял прихожан, сгрудившихся с подарками — корзинами фруктов, коробочками домашнего печенья и другой выпечки — возле дорожки, которая вела к его дому, после чего поехал в университетскую больницу проведать Уинтона Толка, полицейского, которого накануне тяжело ранили налетчики в кафетерии в пригороде города. После операции раненого поместили в отделение реанимации. Теперь он уже вышел из критического состояния, но все еще находился под постоянным контролем.
Когда отец Вайцежик прибыл в больницу, возле кровати мужа уже сидела Райнела Толк — весьма привлекательная женщина с шоколадно-коричневой кожей и тщательно уложенными волосами.
— Миссис Толк? Я Стефан Вайцежик, — представился священник.
— Но... — смутилась женщина.
— Успокойтесь. Я здесь не для того, чтобы отпускать грехи, — улыбнулся Вайцежик.
— Вот и хорошо, — подал голос Уинтон, — потому что и я не собираюсь пока умирать.
Раненый не только был в ясном рассудке, но и вполне бодр, он явно не страдал от боли. Его кровать была приподнята таким образом, чтобы ему было удобнее сидеть. И хотя грудь его была перебинтована, на шее висели датчики прибора сердечной телеметрии, а к левой руке была подсоединена капельница с глюкозой и антибиотиками, выглядел он на удивление хорошо, если принять во внимание его недавние злоключения.
Отец Вайцежик был взволнован. Но его чувства выдавало разве только то, как он мял и крутил в руках свою черную шляпу. Осознав наконец, что это выглядит довольно нелепо, он поспешно положил ее на стул.
— Мистер Толк, — начал он, — если вы не возражаете, я бы хотел задать вам несколько вопросов о вчерашнем происшествии.
Толка и его жену явно смутило любопытство священника.
— Видите ли, — пояснил отец Стефан, — в машине вместе с вами находился наш сотрудник, Брендан Кронин...
— Мне очень хотелось бы встретиться с ним, — светлея лицом, вступила в разговор Райнела.
— Он спас мне жизнь, — сказал Толк. — Он совершил просто невероятно смелый поступок. Ему не следовало бы так рисковать собственной головой, но я, конечно, счастлив, что он поступил именно так.
— Мистер Кронин вошел в кафетерий, не зная, есть или нет там еще бандиты. Его самого могли бы застрелить, — поддержала мужа Райнела.
— Наши инструкции категорически запрещают подобные действия, — пояснил Толк. — И, окажись я сам в тот момент на улице, я бы строго придерживался их. Вот почему я, хотя и не одобряю поступок Брендана как полицейский, все же не могу не высказать ему свою искреннюю благодарность.
— Это поразительно, — произнес отец Вайцежик, словно бы в первый раз слышал о смелости Брендана. На самом же деле он накануне долго беседовал с начальником Уинтона Толка, своим старым знакомым, и уже слышал как похвалу Брендану за мужество, так и порицание — за неосмотрительность. — Я никогда не сомневался, что на Брендана можно положиться, — добавил он. — Скажите, он оказал вам первую помощь?
— Видимо, да, — ответил Уинтон. — Я точно не могу сказать. Я помню, как пришел в сознание... и увидел рядом его... довольно смутно, впрочем... он звал меня по имени. Но я все еще был как бы в полусне, понимаете?
— Это просто чудо, что Уинтон выжил, — дрожащим голосом вымолвила Райнела.
— Успокойся, успокойся, милая, — мягко сказал Уинтон. — Я выжил, и это главное. — Убедившись, что с женой все в порядке, он взглянул на отца Стефана и добавил: — Все поражены тем, что мне удалось выкарабкаться, потеряв столько крови. Мне сказали, что она почти вся вытекла.
— Брендан наложил вам жгут? — спросил отец Вайцежик.
— Не уверен, — наморщил лоб Толк. — Я был как в тумане, плохо соображал.
Отцу Вайцежику не терпелось выяснить то, ради чего, собственно, он сюда и приехал, но он медлил, обдумывая вопрос. Его следовало сформулировать так, чтобы никоим образом не раскрыть суть интересовавшего его чрезвычайного обстоятельства.
— Я понимаю, что вы не можете ответить мне со всей определенностью, — наконец нашел он нужные слова, — однако скажите, не заметили ли вы чего-то особенного... чего-то необычного в руках Брендана? Он ведь прикасался ими к вам, не правда ли?
— Конечно, прикасался. Кажется, искал пульс, потом ощупал меня всего, стараясь найти рану, из которой лилась кровь.
— Ну а вы не чувствовали нечто... нечто необычное, когда он к вам прикасался? У вас не было никакого странного ощущения? — Отец Стефан тщательно подбирал слова, расстроенный необходимостью прибегать к хитрости и напускать туман.
— Я не совсем вас понимаю, святой отец. К чему вы клоните?
— Оставим это, — натянуто улыбнулся отец Вайцежик. — Главное, что с вами все в порядке. — Он взглянул на часы: — Боже мой, я опаздываю на встречу!
И, не дав супругам Толк опомниться, подхватил со стула шляпу, попрощался и поспешно удалился, провожаемый недоуменными взорами Уинтона и Райнелы.
При первом взгляде на отца Вайцежика люди обычно принимали его за сержанта-инструктора или футбольного тренера, но уж, во всяком случае, не за священника: его крепкая фигура и уверенная манера держаться никак не соответствовали распространенному представлению о внешности священнослужителя. Когда же он торопился, он походил даже и не на бравого сержанта и не на наставника команды игроков в американский футбол, а скорее на танк.
Из палаты Толка отец Вайцежик выбежал в холл, пролетел сквозь одну пару вращающихся дверей, затем сквозь другую и очутился в отделении реанимации, где совсем еще недавно выхаживали раненого полицейского. Там он подошел к дежурному врачу, доктору Ройсу Албрайту, и, представившись духовником семьи Толк, попросил уделить ему несколько минут.
— Миссис Толк хотелось бы знать ваше мнение о состоянии ее супруга, — пояснил он, мысленно моля Господа простить ему эту маленькую ложь, допущенную ради благого дела.
У доктора Албрайта была внешность кинозвезды Джерри Льюиса и глубокий рокочущий голос Генри Киссинджера, что несколько обескураживало, но он любезно согласился ответить на любые вопросы отца Вайцежика.
— Можете заверить миссис Толк, — пробасил он, — что ухудшение здоровья ее мужу не грозит: он пошел на поправку. Два выстрела в грудь в упор из тридцать восьмого калибра! Да у нас никто бы не поверил, что с такими ранами человек может выжить! Да еще и выписаться из реанимации спустя сутки! Мистеру Толку невероятно повезло, должен я вам сказать.
— Значит, пули не задели ни сердце, ни другие жизненно важные органы? — осторожно спросил отец Вайцежик.
— Более того, — воскликнул доктор Албрайт, — ни одна из них не повредила главные кровеносные сосуды. А ведь у пули тридцать восьмого калибра страшная убойная сила, святой отец. Как правило, она разрывает свою жертву на куски. А у Толка оказались поврежденными лишь одна главная артерия и одна вена. Большая удача, уверяю вас.
— Не задержала ли пули какая-то кость?
— Кость изменила угол проникновения пуль в мягкие ткани, но не остановила их. Обе они были позже извлечены. И что самое интересное, кость осталась цела, от нее не откололось ни малейшего кусочка! Редкое везение!
— Но когда пули были извлечены из тела, не было ли каких-то признаков того, что они не совсем соответствуют пулям этого калибра? Я хочу сказать, не были ли патроны нестандартными, с меньшим количеством свинца в пулях? Иначе чем же объяснить, что выстрелы из револьвера тридцать восьмого калибра оказались менее эффективными, чем, к примеру, пара выстрелов из двадцать второго?
— Не знаю, — метнул головой доктор Албрайт. — Вам лучше спросить об этом у полицейских либо поговорить с хирургом, доктором Зоннефордом. Это он извлекал из Толка пули.
— Насколько я понимаю, Толк потерял много крови.
— Мне кажется, в его истории болезни допущена ошибка, — поморщился доктор Албрайт. — Я еще не разговаривал сегодня с доктором Зоннефордом, Рождество, сами понимаете, но, если судить по записи в истории болезни, Толку влили в операционной четыре литра крови. Этого, безусловно, не может быть.
— Почему?
— Да потому, святой отец, что если бы Толк и в самом деле потерял четыре литра крови, его бы просто не довезли живым до больницы. Он был бы трупом. Холодным, как камень.
Лас-Вегас, Невада
Мэри и Пит Монтанелла, родители Жоржи, приехали к ней в это рождественское утро рано — в шесть часов, с воспаленными от недосыпания глазами, но полные решимости занять свой законный пост у праздничной елки прежде, чем Марси проснется. Когда-то Мэри, такая же высокая, как Жоржа, не уступала дочери в стройности, теперь же сильно располнела. Пит был ниже ее ростом, с бочкообразной грудью и походкой самоуверенного драчуна. На самом же деле это был самый забитый человек, каких Жоржа когда-либо встречала. Родители прибыли к дочке и внучке с уймой подарков.
Вдобавок к обычному набору подарков для Жоржи у них были припасены: придирки, неуместные добрые советы и упреки. Мэри чуть ли не с порога заявила, что нужно вымыть воздухоочиститель на кухне над плитой, и немедленно принялась копаться под раковиной, откуда в конце концов извлекла бутылку «Уиндекса» и тряпку, вооружившись которыми тотчас же показала дочери, как следует наводить в квартире блеск и чистоту. Она также заметила, что на елке мало игрушек и не хватает лампочек. Потом ее привела в отчаяние упаковочная бумага: «Боже мой, разве в такую темную бумагу заворачивают подарки детям! А что это за уродливые ленты? Девочкам нравятся широкие длинные ленты и яркая бумага с Санта-Клаусом!»
Отец тоже не остался в долгу: ему, видите ли, не понравилось, что пирожные и печенье были из магазина.
— Разве ты не испекла домашнее печенье в этом году, Жоржа?
— А разве ты не знаешь, папа, что я поздно прихожу домой да еще учусь на курсах менеджеров, и к тому же... — растерялась Жоржа.
— Я знаю, что тяжело одной воспитывать дочь, — продолжал Пит, — но мы сейчас говорим об элементарных вещах. Домашнее печенье — это неотъемлемая часть праздника, и тебе следовало бы знать эту прописную истину, дочь моя!
— Совершенно верно, — поддержала его Мэри. — Прописные истины следует знать.
Они, видимо, решили окончательно испортить Жорже настроение на Рождество в этом году своими нудными наставлениями и скорее всего преуспели бы в этом, если бы ровно в половине седьмого, едва Жоржа поставила в духовку четырнадцатифунтовую рождественскую индейку, в гостиной не появилась Марси. Она была еще в пижаме, милый идеальный ребенок, словно сошедший с картины Нормана Рокуэлла.
— Санта-Клаус принес мне набор «Маленький доктор»? — первым делом спросила она.
— Он принес тебе даже больше, чем это, моя тыковка, — расплылся в улыбке Пит. — Ты только посмотри, сколько он принес тебе подарков!
Марси обернулась и обомлела: под елкой, которую «Санта-Клаус» успел поставить и нарядить ночью, высилась целая гора подарков.
Восторг внучки тотчас же передался бабушке и дедушке, и на какое-то время они забыли о таких вещах, как пыль на воздухоочистителе и магазинное печенье: квартира наполнилась радостными возгласами и оживлением.
Но к моменту, когда Марси рассмотрела половину подарков, праздничная тональность начала меняться, в ней появились мрачные нотки, предвещавшие грозу к полудню. Хныкающим голосом, не свойственным ей, девочка посетовала, что Санта забыл о наборе маленькой докторши. Она даже не притронулась к кукле, о которой раньше мечтала, и стала распаковывать следующий подарок, надеясь, что там столь желанные ею игрушечные медицинские инструменты. Что-то в ее настроении и во взгляде насторожило Жоржи. На необычное поведение девочки обратили внимание и дедушка с бабушкой. Они принялись уговаривать Марси не торопиться разворачивать свертки и коробочки, а как следует рассмотреть каждый подарок, но их маленькая хитрость не увенчалась успехом.
Жоржа не положила набор под елку нарочно: она приберегла его под конец в шкафу как завершающий сюрприз. Но когда осталось развернуть всего три свертка, Марси побледнела и задрожала от волнения: желанного набора «Маленький доктор» все еще не было!
Но почему она придавала ему такое значение? Многие распакованные игрушки были гораздо интереснее и стоили куда как дороже, чем игрушечная сумочка с комплектом инструментов. Почему же внимание девочки сосредоточилось именно на нем? Что так привлекало Марси, что вызывало такое беспокойство?
Когда последний из подарков, лежавших под елкой и привезенных Мэри и Питом, был распакован, Марси разрыдалась:
— Санта не принес его! Он забыл! Он забыл!
Отчаяние девочки выглядело крайне странно на фоне чудесных подарков, разбросанных по комнате. Жоржа была расстроена и огорчена таким неблагодарным поведением Марси, да и ее родители были просто ошарашены и подавлены этой неожиданной и беспричинной истерикой внучки.
Жоржа вскочила и выбежала в спальню, где за коробками с обувью была спрятана сумочка маленькой докторши: праздник рушился у нее на глазах, и она не могла этого допустить. Когда со свертком в руках она вернулась в гостиную, Марси буквально выхватила его и начала разрывать обертку.
— Что случилось с девочкой? — спросила Мэри.
— Да, — со вздохом сказал Пит, — не понимаю, что особенного в этом «Маленьком докторе»?
Убедившись, что она обрела наконец то, что хотела, Марси тотчас же успокоилась и перестала дрожать.
— Санта не забыл о том, что я у него просила! — торжествующе объявила она.
— Но, моя милая, может быть, это вовсе и не от Санты, — заметила Жоржа. — Посмотри, что написано на ярлыке.
Марси послушно изучила ярлык, прочла написанные на нем слова и, подняв голову, робко улыбнулась:
— Это от... папы.
Жоржа почувствовала на себе недоуменные взгляды родителей, но не решилась взглянуть им в глаза. Они знали, что Алан укатил со своей очередной крошкой в Акапулько и что он не удосужился оставить для дочери даже поздравительную открытку. Такой щедрый жест со стороны дочери они, конечно же, не одобряли.
Позже, на кухне, мать присела рядом с Жоржей на корточки, когда та вытаскивала из духовки индейку, чтобы проверить, готова ли она, и негромко спросила:
— Зачем ты это сделала, Жоржа? Зачем ты написала это поганое имя на самом желанном для ребенка подарке?
Жоржа слегка выдвинула решетку из духовки, чтобы получше разглядеть индейку на свету, зачерпнула ковшиком со сковороды жир и полила им птицу.
— Не портить же дочери Рождество из-за того, что ее папаша осел, — наконец ответила она.
— Ты не должна скрывать от нее правду, — спокойно сказала Мэри.
— В семь лет ей еще рано знать такую ужасную правду.
— Чем раньше она узнает, какая гнида ее отец, тем лучше. Знаешь, что Пит слышал о женщине, с которой живет Алан?
— Надеюсь, к полудню птица будет готова, — констатировала Жоржа.
— Она в списке «девочек по звонку» в двух казино, Жоржа, — не унималась Мэри. — Ты меня понимаешь? Она «девушка по вызову». Алан живет с проституткой. Что с ним случилось?
Жоржа зажмурилась и глубоко вздохнула.
— Если он не хочет знать Марси, это даже к лучшему, — продолжала Мэри. — Одному богу известно, какие болезни он мог подцепить от этой женщины.
Жоржа запихнула индейку обратно в духовку, закрыла дверцу и встала.
— Нельзя ли переменить тему? — поинтересовалась она.
— Я думала, тебе будет любопытно узнать, с кем теперь живет твой бывший муж.
— Теперь знаю.
— Что, если в один прекрасный день он заявится сюда и скажет: «Пеппер и я хотим, чтобы Марси поехала в Акапулько вместе с нами!», или в Диснейленд, или просто пожила вместе с ними некоторое время? — прошипела Мэри.
— Да пойми же ты наконец, мама, что он ничего не хочет от Марси, потому что она напоминает ему о его обязанностях! — едва сдерживаясь, сказала Жоржа.
— Но что, если...
— Мама, хватит, черт побери! — вырвалось у Жоржи.
И хотя Жоржа не повысила голос, эффект, произведенный на мать последним восклицанием, был поразительным: она обиделась и отвернулась, сделав вид, что ее интересует содержимое холодильника.
— Я смотрю, ты приготовила клецки?
— Да уж не в магазине купила, — дрожащим голосом сказала Жоржа, подумав, что это успокоит мать, но в следующий же момент сообразила, что ее слова могут быть расценены как шпилька отцу, и прикусила губу, чтобы не разреветься.
— Так у тебя еще и картошка? — по-прежнему глядя в холодильник, напряженным тоном отметила Мэри. — А это что? О, и капусту ты нашинковала для салата. Я думала, тебе потребуется помощь, а ты, оказывается, сама обо всем позаботилась.
Она закрыла дверцу холодильника и оглянулась по сторонам, ища себе какое-нибудь занятие. На глазах у нее блестели слезы.
Жоржа вскочила из-за кухонного столика и обняла мать. Мэри прижала ее к себе, и они замерли, обнявшись, поняв одна другую без слов.
— Я сама не пойму, почему я такая, — пробормотала виновато Мэри. — Вся в мать, она тоже так со мной себя вела. Я поклялась, что никогда не буду такой по отношению к тебе.
— Я люблю тебя такой, какая ты есть, — сказала Жоржа.
— Может быть, это потому, что ты у меня единственная. Будь у меня возможность завести еще парочку детей, я не была бы такой строгой с тобой.
— Да я и сама виновата, мама. Я стала такой вспыльчивой в последнее время.
— А как же тебе не стать такой? — крепче прижала ее к себе Мэри. — Эта гнида у тебя всю кровь высосала, тебе приходится одной содержать себя и дочь да еще ходить на занятия... Ты имеешь полно право стать вспыльчивой. Мы так гордимся тобой, Жоржа. Ты такая мужественная.
Из гостиной раздался истерический визг Марси.
«Что там еще стряслось?» — подумала Жоржа.
Вбегая в гостиную, она увидела, что ее папочка пытается убедить внучку поиграть с куклой.
— Вот гляди, — вертя куклу, говорил Пит. — Повернешь ее вот так — она плачет. А в этом положении она смеется.
— Я не хочу играть с немой куклой, — надулась Марси. — Давай лучше я сделаю тебе еще укол! — сказала она, размахивая почти взаправдашним пластиковым шприцем из набора «Маленький доктор».
— Но сладенькая моя, — упрашивал ее Пит, — ты ведь уже сделала мне двадцать уколов!
— Мне нужно практиковаться, — настаивала Марси. — Я никогда не смогу лечить себя сама, если не начну практиковаться уже теперь.
Пит выразительно посмотрел на Жоржу.
— Да что, скажите мне наконец, она нашла в этом наборе? — спросила Мэри.
— Хотела бы я знать, — вздохнула Жоржа.
Марси наморщила лобик и воткнула резиновый наконечник иглы в руку дедушки. Над бровями у нее выступил пот.
— Хотела бы я знать... — озабоченно повторила Жоржа.
Бостон, Массачусетс
Это было самое ужасное Рождество в жизни Джинджер Вайс.
Хотя ее отец и был евреем, он всегда отмечал вместе со всеми Рождество, потому что ему нравился дух гармонии и доброй воли, наполняющий этот праздник, и, когда отца не стало, Джинджер продолжала относиться к 25 декабря как к особому, радостному дню. И раньше Рождество никогда не угнетало ее.
Джордж и Рита сделали все, чтобы Джинджер тоже было хорошо в этот праздник, но она тем не менее не могла побороть в себе ощущение, что она на нем посторонняя. Трое сыновей Ханнаби привезли в «Страж Залива» на несколько дней свои семейства, и огромный особняк наполнился серебристыми детскими голосами и звонким смехом. Все усиленно старались вовлечь Джинджер в традиционные семейные обряды и развлечения.
Рано утром она вместе с другими взрослыми присутствовала при штурме оравой детей горы подарков и, как и другие взрослые, ползала с ними по полу, помогая собрать игрушки. На какое-то время ее тревога улеглась, и совершенно естественным образом она стала как бы членом семьи Ханнаби.
Тем не менее за завтраком — изысканным, с большим выбором разнообразных закусок, как бы намекающим на предстоящее вечером экстравагантное пиршество, — Джинджер вновь почувствовала себя не в своей тарелке. Великолепный вид на залив успокаивал ее, но не мог остановить начавшееся скольжение по витку спирали депрессии, и оставалось только надеяться: завтра непременно позвонит Пабло Джексон и скажет, что проштудировал материалы по проблеме блокировки памяти и готов вновь подвергнуть ее гипнозу.
Вопреки ее ожиданиям, Джордж и Рита не были сильно огорчены визитом Джинджер к Пабло, они лишь пожурили ее за то, что она отправилась к нему одна, без спутника, который мог бы подстраховать ее в случае внезапного приступа панического страха, и взяли с нее слово в следующий раз быть осмотрительнее и позволить Рите или кому-то из слуг сопровождать ее. Само же необычное лечение не вызвало у них нареканий.
Успокаивающие возможности вида на залив были не безграничны. Она отвернулась от окна и подошла к кровати: здесь на ночном столике ее ожидал сюрприз — две книги. Одна из них оказалась фантастическим романом Тима Пауэрса, произведения которого она читала раньше, а вторая называлась «Сумерки в Вавилоне». Откуда они появились, у Джинджер не было ни малейшего представления.
В комнате были и другие книги, взятые ею внизу в библиотеке и прочитанные за две минувшие недели, свободные от прочих занятий, но эти две она видела впервые. У Риты был приятель, пишущий литературные обозрения для «Бостон глоб», который иногда присылал ей интересные книги еще до того, как они появлялись в магазинах. Очевидно, эти две книги были получены вчера или позавчера, и Рита, зная, что Джинджер неравнодушна к беллетристике, принесла их сюда. Судя по аннотации, в новом романе Тима Пауэрса описывались забавные приключения путешествующих во времени троллей, ведущих во время Американской революции секретную войну против британских домовых. Такие книги обожал Иаков.
Джинджер с улыбкой отложила книгу Пауэрса в сторонку, решив насладиться ею позже, и принялась изучать «Сумерки в Вавилоне». Имя автора — Доминик Корвейсис — ей ничего не говорило, но аннотация заинтриговала ее, а прочитав лишь одну страницу, она была потрясена. Но, прежде чем продолжить чтение, она уселась в одном из удобных кресел и лишь после этого бросила взгляд на фотографию автора на обложке.
У нее перехватило дыхание, ей стало жутко.
Сперва она подумала, что вновь впадает в истерику и сейчас куда-то помчится. Она попыталась отложить книгу, встать, но не смогла. Сделав несколько глубоких вздохов, Джинджер закрыла глаза и подождала, пока сердце угомонится. Когда она снова взглянула на фотографию, та все еще внушала ей беспокойство, но уже не столь сильное, как минуту назад. Где-то она видела этого человека, встречалась с ним, и при далеко не лучших обстоятельствах, но вот где и когда — не могла вспомнить. Из его биографии, напечатанной на обложке, следовало, что раньше он жил в Портленде, штат Орегон, а в настоящее время проживает в Лагуна-Бич, штат Калифорния. Поскольку ни в одном из этих городов ей бывать не доводилось, то Джинджер даже в голову не приходило, где могли перекреститься их жизненные дорожки. Тридцатипятилетний Доминик Корвейсис, мужчина с выразительной внешностью, чем-то напоминающий артиста Энтони Перкинса в молодые годы, наверняка должен был бы хорошо запомниться ей, поэтому необъяснимый провал в памяти казался Джинджер вдвойне странным.
Странной была и ее первая реакция на фотографию писателя, и, если бы не выработавшаяся за последние два месяца привычка не сбрасывать со счетов ни одно неординарное происшествие или обстоятельство, Джинджер, возможно, и не стала бы долго ломать голову размышлениями над очередным капризом своей памяти. Но теперь все было иначе. Она уставилась на фотографию, надеясь расшевелить дремлющую память, но, кроме смутного предчувствия, что «Сумеркам в Вавилоне» предназначено в корне изменить ее жизнь, никаких других эмоций или ассоциаций у нее не возникло, поэтому она открыла книгу и начала читать.
Чикаго, Иллинойс
Из университетской больницы отец Стефан Вайцежик поехал через весь город в лабораторию при отделе научных исследований чикагского управления полиции. Несмотря на Рождество, городские службы все еще убирали с улиц снег после ночного снегопада.
В полицейской лаборатории дежурили двое сотрудников. В помещении было душно и пыльно, как в какой-нибудь египетской гробнице, погребенной в толще песка: ничего другого от этого старого правительственного здания ожидать и не приходилось. Звук шагов гулко разносился по длинным коридорам с высокими потолками и кафельным полом.
Обычно лаборатория не делилась информацией с посторонними, но половина полицейских в Чикаго исповедовала католическую веру, из чего следовало, что отец Вайцежик мог рассчитывать не только на нескольких своих хороших знакомых, которые, собственно, и помогли ему проникнуть в эту лабораторию.
Его встретил доктор Мерфи Эймс, полноватый человек с абсолютно лысой головой и моржовыми усами. Они заранее договорились о встрече (отец Стефан предупредил о своем визите по телефону из больницы), и у Мерфи было время подготовиться. Они уселись за длинным столом напротив затемненного окна, и Эймс раскрыл лежащую перед ним папку.
— Должен сказать вам, святой отец, что я никогда не пошел бы на обнародование материалов уголовного дела, будь хоть малейшая вероятность рассмотрения его в суде. Но, поскольку оба преступника убиты и судить некого, я решил удовлетворить просьбу ходатайствующих за вас коллег.
— Я высоко ценю это, доктор Эймс, поверьте. Я чрезвычайно признателен вам за то, что вы смогли уделить мне время и внимание.
На лице Мерфи Эймса читалось недоумение.
— Однако, признаться, я не совсем понимаю, что вас заинтересовало в этом деле.
— Откровенно говоря, я тоже, — произнес отец Стефан несколько загадочно.
Он не посвятил в свои намерения высших чинов, которые помогли ему попасть в секретное учреждение, и не собирался раскрывать карты перед Эймсом, хотя бы для того, чтобы его не посчитали маразматиком.
— Итак, — начал Эймс, несколько задетый недоверием, — вы интересовались пулями. — Он открыл плотный конверт из темной бумаги, в каких обычно хранят или отправляют секретные материалы, и высыпал его содержимое себе на ладонь: это были два кусочка свинца. — Хирург извлек их из тела Уинтона Толка. Вы сказали, что они вас очень интересуют...
— Именно так, — подтвердил отец Стефан, рассматривая смятые в лепешку пули. — Я полагаю, вы взвесили их, ведь это, должно быть, обычная процедура. И вес их совпадает с весом стандартных пуль тридцать восьмого калибра?
— Если вы интересуетесь, не расщепились ли они от удара, то я отвечу — нет. Они деформировались в результате соприкосновения с костью, так что, в общем-то, могли бы и расщепиться, но этого не произошло.
— Дело в том, — глядя на пули, пояснил отец Вайцежик, — что я имел в виду другое: я хотел бы знать, соответствуют ли они вообще пулям этого калибра? Не была ли допущена какая-то ошибка при сборке патрона, не фабричный ли это брак? Или они как раз нужного размера и веса?
— О, они соответствуют стандарту, вне сомнений.
— И следовательно, способны нанести больший урон. Значительно больший, — задумчиво произнес отец Вайцежик. — А какой марки револьвер?
— Короткоствольный «смит-вессон» тридцать восьмого калибра, модель «чифс-спешиал», — сказал Эймс, извлекая из другого конверта револьвер, из которого стреляли в Толка.
— Вы производили из него контрольные выстрелы?
— Безусловно, это предусмотрено инструкцией.
— И никаких отклонений не обнаружили? Никаких аномалий, в результате которых, например, пуля может вылетать из ствола с меньшей, чем требуется, скоростью?
— Интересный вопрос, святой отец. И ответ на него — нет. Это отменный револьвер, он соответствует всем высоким стандартам фирмы «Смит и Вессон».
— А как насчет гильз? Возможно ли, что в патроне оказалось меньше пороха, чем обычно?
Собеседник отца Вайцежика прищурился.
— Сдается мне, что вы пытаетесь выяснить, почему эти две пули не разнесли в куски грудь Уинтона Толка. Верно?
Священник кивнул, сохранив на лице непроницаемую маску, и задал следующий вопрос:
— В барабане остались неиспользованные патроны?
— Да, два. Плюс запасные патроны в кармане куртки одного из стрелявших — около дюжины.
— Вы не вскрывали неиспользованные патроны, чтобы установить, насколько они соответствуют стандарту?
— Не вижу для этого причин, — пожал плечами Эймс.
— А вы не могли бы сделать это прямо сейчас?
— Мог бы, конечно. Но какая в этом необходимость? Скажите, святой отец, для чего вообще все это нужно?
— Я понимаю, что это несправедливо и мне следовало бы отплатить вам за вашу любезность хотя бы разъяснениями, — с тяжелым вздохом отвечал отец Вайцежик, — но увы! Я не могу пока этого сделать. Священники, подобно врачам и адвокатам, обязаны соблюдать конфиденциальность, беречь тайну. Но обещаю, вы будете первым, кому я раскрою ее, если когда-нибудь буду волен это сделать.
Эймс пристально взглянул на него, и отец Стефан не отвел глаз. Наконец эксперт распечатал еще один конверт: внутри его находились неиспользованные патроны от револьвера убитого налетчика.
— Подождите здесь, — сказал Эймс и вышел.
Спустя двадцать минут он вернулся с белой эмалированной кюветой, в которой лежали разобранные патроны 38-го калибра. Пользуясь карандашом как указкой, он дал подробные объяснения:
— Все очень просто: вот гильза, вот пуля, вот капсюль. Между ними камера сгорания, или пороховое отделение, где находится нитроцеллюлоза, горючее вещество — вот оно, серенькое, видите? Я его взвесил, все в норме. На всякий случай я разобрал еще один патрон, с ним тоже все в порядке. Патроны фирмы «Ремингтон» не подводят. Просто Уинтону Толку очень повезло. Он родился в рубашке, святой отец.
Нью-Йорк
Джек Твист провел Рождество в палате санатория с Дженни. В праздник ему рядом с ней было особенно тоскливо. Но оставить жену одну и уйти он не мог, потому что знал — ему будет еще хуже.
Хотя Дженни и провела на больничной койке большую часть их семейной жизни, Джек по-прежнему любил ее. Уже почти восемь лет она не могла ни улыбнуться ему, ни поцеловать, ни назвать по имени, но в его сердце ничего не изменилось, просто время остановилось. Она все еще оставалась для него прекрасной Дженни Мэй Александер, юной и очаровательной невестой.
В той безымянной Центральноамериканской тюрьме он жил мыслью о том, что Дженни ждет его дома, скучает по нему, волнуется и молится за него каждый вечер. Мечта об их будущей встрече после долгой разлуки помогала ему переносить пытки и голод, сохранить рассудок.
Из всех четверых десантников, попавших в плен, лишь Джек и его друг Оскар Вестон выжили и вернулись домой, хотя их побег был просто чудом. Почти год они ждали, что их выручат, не сомневаясь в том, что их страна не забудет своих сыновей. Случалось, они спорили, как именно их освободят — с помощью коммандос или же прибегнув к переговорам по дипломатическим каналам. Спустя одиннадцать месяцев они все еще верили, что соотечественники вызволят их, но потом терпение друзей лопнуло. Они сильно похудели и ослабели, их мучили какие-то неизвестные тропические болезни. Ждать дальше манны небесной становилось опасно.
Бежать они могли только во время одного из регулярных посещений Народного центра правосудия — чистого светлого учреждения, образцовой тюрьмы, созданной в столице страны специально для того, чтобы убедить иностранных журналистов в гуманности нового режима. Джека и Оскара возили туда каждый месяц. Там они мылись в душе, подвергались санобработке, переодевались в чистую одежду, после чего им надевали на руки наручники и, усадив перед видеокамерами, задавали вопросы. Джек и Оскар обычно сдабривали ответы махровой похабщиной или же прикидывались идиотами, но это не имело ровным счетом никакого значения, потому что цензоры редактировали запись, а на стертые куски накладывали голоса опытных лингвистов, говоривших по-английски без акцента.