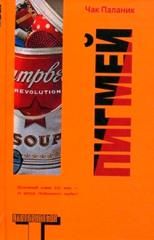Незнакомцы Кунц Дин
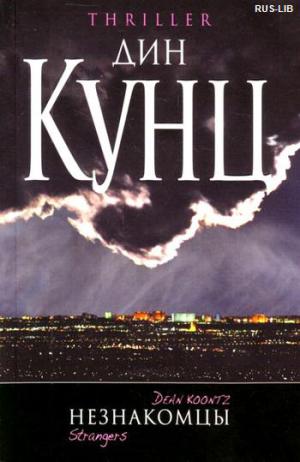
Милуоки, Висконсин
Из-за невроза Эрни ночник в комнате для гостей не гасили. Подперев голову рукой, Фэй напряженно вслушивалась в невнятное бормотание спящего мужа. Несколько минут назад ее разбудил его сдавленный крик, и, напуганная, она сперва боялась даже пошевелиться. Между тем Эрни с настораживающим упорством все что-то шептал и шептал, уткнувшись лицом в подушку.
Неожиданно он слегка повернул голову, и Фэй явственно услышала:
— Луна, луна, луна, луна...
По спине у нее поползли мурашки.
Лас-Вегас, Невада
На ночь Жоржа взяла дочь к себе в постель, боясь оставить ее одну после случившегося днем. Марси то и дело вскрикивала, билась и вертелась под одеялом, словно пытаясь высвободиться из чьих-то рук, бормотала о каких-то врачах и длинных иголках. Жоржа впервые задумалась, как долго такое продолжается: возможно, крики дочери заглушали разделяющие их спальни гардеробы, набитые одеждой. При мысли о том, что девочку уже много ночей мучают жуткие кошмары, Жоржа похолодела.
Утром нужно будет непременно показать ее врачу. Но как это сделать, если девочка панически боится всех докторов? Конечно же, она упрется и закатит новую истерику. Однако еще опаснее не показывать ее специалисту. И, если бы не Рождество, Жоржа немедленно обратилась бы за помощью.
После истерики Марси, вызванной неудачной шуткой дедушки, день был потерян, праздник скомкан. Малышка так перепугалась, что описалась, а потом еще минут десять отчаянно отбивалась и визжала, не давая матери раздеть и вымыть ее. Когда вспышка ярости наконец прошла, она дала отвести себя в ванную, но при этом выглядела словно маленькая зомби: пустой взгляд, застывшее лицо — как будто ужас, вышедший из нее криком, прихватил с собой все ее силы и рассудок.
Этот квазиступор сковал девочку почти на целый час, в течение которого Жоржа лихорадочно названивала по телефону, разыскивая доктора Безанкорта, педиатра, лечившего Марси, когда той случалось заболеть. И пока Мэри и Пит безуспешно пробовали выдавить из Марси улыбку или, на худой конец, словечко, Жоржа мучительно припоминала, в каких журналах ей попадались статьи о детях-мечтателях. Она так и не вспомнила, начинается ли аутизм в младенчестве или же и вполне нормальная семилетняя девочка может внезапно уйти в свои несбыточные фантазии и навсегда отрешиться от окружающего мира.
Постепенно, однако, Марси вышла из оцепенения и стала отвечать на вопросы бабушки и дедушки, но каким-то вялым, безразличным и бесцветным голосом. Наконец ей это наскучило, и, засунув в рот большой палец, чего она не делала с двухлетнего возраста, она отправилась в гостиную забавляться с новыми игрушками. Она провозилась с ними почти до вечера, но явно без всякого удовольствия, со скукой на личике. Единственное, что слегка успокаивало наблюдавшую за ней Жоржу, было отсутствие интереса к набору игрушечных медицинских инструментов.
В половине пятого девочка несколько ожила, повеселела и снова стала милой, общительной и спокойной, так что можно было подумать, что истерика за столом — не более чем обычный детский каприз.
Спускаясь по лестнице к машине, мать Жоржи задержалась и негромко, так, чтобы не слышала Марси, сказала:
— Она просто хочет показать нам, что обижена и расстроена. Она не понимает, почему от вас ушел папа. Ей сейчас нужно много внимания и много любви. Вот и все.
Но Жоржа знала, что дело обстоит гораздо хуже. Она не сомневалась, что Марси переживает из-за отца, оскорблена его уходом, но помимо этого ее грызет и нечто иное, неподвластное здравому смыслу и оттого пугающее.
Вскоре после отъезда дедушки и бабушки Марси вновь начала играть в «Маленького доктора», проявляя прежнюю возбужденность, и даже захотела взять набор в постель, когда пришло время укладываться спать. Сейчас одни инструменты валялись рядом с кроватью на полу, другие лежали на тумбочке. А в темной спальне девочка, похныкивая, бормотала во сне о докторах, сестрах и иголках.
Жоржа не смогла бы уснуть, будь Марси даже совершенно спокойна в эту ночь: тревога вызывает бессонницу куда эффективней, чем дюжина чашек кофе. И раз уж ей все равно не спалось, она напряженно вслушивалась в каждое произнесенное дочерью слово, надеясь услышать нечто такое, что помогло бы понять источник смятения девочки, а врачу — установить диагноз. После двух ночи Марси начала бормотать нечто совершенно новое, отличное от того, что она говорила раньше. Вдруг она резко перевернулась с живота на спину, отчаянно работая ручками и ножками, судорожно вздохнула и застыла. Потом тихонько, голосом, полным удивления и страха, затянула:
— Луна, луна, луна, луна, луна, луна...
Жоржа содрогнулась: то явно не было бессмысленным бормотанием спящего человечка.
Чикаго, Иллинойс
Брендан Кронин тихо спал под теплым одеялом и пледом, чему-то улыбаясь во сне. За окном зимний ветер раскачивал гигантскую сосну, выводил затейливые мелодии в водосточных трубах, громыхал кровлей и стонал под карнизом. Казалось, природа продувает ночь огромными механическими мехами. И, словно бы в такт порывам ветра, Брендан вдруг начал повторять во сне:
— Луна... Луна... Луна... Луна...
Лагуна-Бич, Калифорния
— Луна! Луна!
Доминик Корвейсис проснулся от собственного жуткого крика и боли в правой кисти. Он стоял на четвереньках в темноте возле кровати, отчаянно пытаясь высвободиться от чего-то вцепившегося в его руку. Наконец сонная одурь прошла, и он осознал, что его держит не что иное, как веревка, которой он сам же себя и привязал к спинке кровати.
Тяжело дыша, он нащупал выключатель и, щелкнув им, зажмурился от неожиданно яркого света, ударившего в глаза. С одного взгляда на сдерживающую его веревку ему стало ясно, что он умудрился развязать один из четырех узлов и слегка ослабить второй, прежде чем терпение его лопнуло и он принялся лихорадочно, как это и случалось обычно во время его сомнамбулических блужданий, тянуть и дергать веревку, стремясь во что бы то ни стало освободиться.
Доминик встал с пола и, откинув смятые простыни, сел на край кровати.
Он ничего не мог вспомнить из того, что ему снилось. Тем не менее он знал, что это был не один из предыдущих кошмарных снов, а совершенно новый, необычный, не менее страшный, только иного качества.
И выкрики, разбудившие его, были настолько назойливо-настойчивыми, настолько паническими, что он и сейчас словно бы слышал их наяву: «Луна! Луна!» Он вздрогнул и обхватил голову руками.
Луна. Что бы это могло значить?
Бостон, Массачусетс
Джинджер с пронзительным криком села в своей постели.
Лавиния, экономка Ханнаби, с тревогой сказала:
— Извините, доктор Вайс, я не хотела вас испугать. Но вам снился какой-то кошмар.
— Кошмар? — Джинджер совершенно не помнила, что ей снилось.
— О да! — подтвердила Лавиния. — И действительно страшный, судя по тому, как вы кричали. Я проходила по коридору и услышала. Сперва я хотела тотчас же войти, но потом подумала, что вы, видимо, спите, и не захотела вас будить. Но вы продолжали кричать, выкрикивая это слово снова и снова, и я решилась вас разбудить.
— Я кричала? И что же я кричала? — заморгала удивленно Джинджер.
— Вы кричали: «Луна! Луна! Луна!» — и таким испуганным голосом...
— Я ничего не помню.
— Луна! — заверила ее Лавиния. — Вы все время выкрикивали только одно это слово, да еще таким жутким голосом, что я было подумала, не убивают ли вас.
Часть II
Время открытий
Мужество — не в отсутствии страха, а в умении сопротивляться ему и совладать с ним.
Марк Твен
В чем жизни быстротечной соль?
Зачем страданья нам и боль?
Как мы попали в мир земной?
Кому обязаны судьбой?
Сомнений тяжких хоровод
День омрачает, сон крадет.
Приди же, откровенья свет,
И грез людских раскрой секрет!
Книга Печалей
Друг вполне может быть причислен к шедеврам природы.
Ралф Уолдо Эмерсон
Глава 4
26 декабря — 1 января
1
Бостон, Массачусетс
С 27 декабря по 5 января доктор Джинджер Вайс шесть раз побывала в квартире Пабло Джексона, и во время последнего визита он с помощью гипноза осторожно попробовал проникнуть за «Блокаду Азраила».
Всякий раз, когда Джинджер появлялась у двери старого фокусника, она казалась ему все более прекрасной и, конечно же, более обворожительной, умной и решительной. Именно такой он хотел бы видеть свою дочь. Джинджер разбудила в Пабло доселе не испытанные им отцовские чувства, теперь он просто не мог не защитить ее.
Он рассказал ей почти все, что узнал от Александра Кристофсона на рождественской вечеринке, но она не желала верить, что на ее память воздействовали какие-то неизвестные люди.
— Это звучит очень странно, — пожала плечами она. — Такие вещи не происходят с обычными людьми вроде меня, обывательницы из Бруклина. Я не замешана ни в каких международных интригах.
Единственное, о чем умолчал Пабло, было предупреждение отставного разведчика держаться от Джинджер подальше; знай она, что ему грозит опасность, она наверняка отказалась бы от его помощи, а ему этого не хотелось. Напротив, Пабло стремился стать частью ее жизни, заботиться о ней.
К их встрече 27 декабря Пабло приготовил кише и салат.
— Я никогда не имела никакого отношения к военным секретам или разработкам в области обороны. Среди моих знакомых нет иностранных агентов! — повторяла Джинджер, с аппетитом уплетая ужин. — Это просто нелепо!
— Не исключено, что вы столкнулись с чем-то не подлежащим огласке совершенно случайно, — возражал ей Пабло, — в самом обычном месте, но не в самое удачное время.
— Но послушайте, Пабло, если мне промыли мозги, на это ушло определенное время. Меня нужно было где-то содержать под охраной. Верно?
— Мне думается, на это ушло несколько дней, — согласился Пабло.
— В таком случае вы наверняка заблуждаетесь! — обрадовалась Джинджер. — Насколько я понимаю, блокировав память об увиденном, эти люди должны были бы заглушить и память о месте происшествия. Но тогда в моем прошлом возникло бы окно, разрыв во времени, в течение которого я подвергалась промывке мозгов.
— Ничего подобного! — воскликнул Пабло. — Они могли заполнить этот промежуток ложными воспоминаниями, а вы даже не догадываетесь об этом.
— Боже мой, в самом деле? Они и это могут? — изумилась она.
— Я надеюсь распознать эти ложные воспоминания, — успокоил Джинджер старик. — Для этого мне придется исподволь возвращать вас к минувшим событиям, день за днем, неделя за неделей, до тех пор, пока я не наткнусь на ложные данные. Полагаю, мне не составит особого труда определить их, поскольку им будет не хватать подробностей, мелких штришков, характерных для подлинных воспоминаний. Действуя по этой схеме, мы рано или поздно наткнемся на два-три дня, запомнившиеся вам лишь в общем, и таким образом вычленим источник проблемы, потому что это и будут как раз те дни, в течение которых вы находились в руках этих людей.
— Дошло! — восторженно воскликнула Джинджер. — Я, кажется, начинаю вас понимать. Первый день смазанных воспоминаний будет тем самым днем, когда я увидела нечто, чего мне видеть не следовало! А последний такой день будет днем, когда они закончили промывать мне мозги. В это чрезвычайно трудно поверить... Но, если мне действительно имплантировали эту блокаду памяти, а все мои неприятности — следствие бунта подавленных воспоминаний, тогда у меня нет никакого психического расстройства и есть шанс вновь вернуться к медицине. Нужно лишь докопаться до этих воспоминаний, вытащить их на свет божий, и все встанет на свои места.
Пабло сжал ее руку.
— Именно так оно и будет, я в этом уверен. Но все это далеко не просто, каждый раз, когда я буду наталкиваться на блокаду, вы, возможно, будете впадать в обморочное состояние, если не хуже... Я постараюсь быть очень и очень осторожным, но риск остается.
Первые два сеанса гипноза, во время которых они сидели в больших креслах у окна, состоялись 27 и 29 декабря и продолжались по четыре часа. Пабло восстановил день за днем последние девять месяцев, но не обнаружил признаков внедренных воспоминаний.
В воскресенье, 29-го, Джинджер предложила, чтобы Пабло задал ей несколько вопросов относительно Доминика Корвейсиса, писателя, чей портрет произвел на нее странное впечатление. Когда Пабло, погрузив ее в гипнотический сон, спросил, не встречалась ли она когда-нибудь с Корвейсисом, то услышал: «Да». Пабло попытался уточнить, при каких обстоятельствах произошла их встреча, но не получил вразумительного ответа. Наконец Джинджер сказала:
— Он швырнул мне в лицо соль.
— Корвейсис швырнул вам в лицо соль? — удивился Пабло. — Зачем?
— Не могу точно вспомнить.
— Где это случилось?
Джинджер насупилась, а когда он начал задавать новые вопросы, впала в кому. Пабло едва успел вернуть ее из этого состояния, заверив, что больше не будет спрашивать о Корвейсисе.
Стало абсолютно ясно, что эта встреча действительно имела место, но каким-то образом изъята из памяти Джинджер.
Во время следующих двух сеансов, состоявшихся 30 декабря и 1 января, Пабло восстановил события еще восьми месяцев жизни Джинджер, вплоть до конца июля позапрошлого года, однако так и не выявил ложных или сомнительных фактов, указывающих на постороннее вмешательство.
В четверг 2 января Джинджер попросила Пабло спросить ее о сне, который она видела предыдущей ночью: уже в четвертый раз после Рождества она кричала во сне слово «луна», причем настолько громко, что разбудила весь дом.
— Мне кажется, этот сон связан со временем и местом украденного из моей памяти события, — предположила она. — Может быть, под гипнозом я что-нибудь вспомню.
Однако под гипнозом она отказалась отвечать на вопросы и впала в глубокий сон, а это означало, что Пабло вновь коснулся «Блокады Азраила», надежно защищающей запретные воспоминания.
В пятницу Пабло и Джинджер не встречались: Пабло нужно было время, чтобы просмотреть литературу о различных блокадах памяти и подумать, как лучше действовать дальше.
Кроме того, он несколько часов посвятил прослушиванию магнитофонной записи проведенных сеансов, надеясь уловить какое-нибудь словечко или изменение голоса Джинджер, которое могло бы помочь отыскать ключ к загадке.
Ничего особенного Пабло не обнаружил, хотя и заметил, что голос Джинджер зазвучал несколько более возбужденно, когда он расспрашивал ее о событиях лета позапрошлого года. Во время сеанса Пабло не обратил на эти новые нотки никакого внимания, но теперь, прослушивая пленку, он заподозрил присутствие ложной информации в ее памяти.
Поэтому во время шестого сеанса, состоявшегося в субботу, 4 января, Пабло не удивился, когда наконец произошел долгожданный прорыв. Как и всегда, Джинджер сидела в кресле у окна, за которым шел изумительной белизны снег. Ее серебристые волосы отливали призрачным светом. Едва Пабло вернул ее в июль позапрошлого года, как брови Джинджер нахмурились, а голос зазвучал глуше и напряженней.
Он уже расспрашивал ее во время предыдущих сеансов о ее работе в клинике, вплоть до понедельника, 31 июля, когда она более семнадцати месяцев назад впервые пришла в отделение Джорджа Ханнаби. Джинджер в мельчайших подробностях описывала все, чем занималась до этого, — обустраивалась в новой квартире, разбирала вещи, покупала мебель. 17 июля она приехала в Бостон на автомобиле и на ночь остановилась в гостинице, поскольку в ее новой квартире не на чем было спать.
— На автомобиле? — уточнил Пабло. — Вы проделали на нем такой долгий путь, от самого Стэнфорда?
— Это был мой первый настоящий отпуск. Я люблю путешествовать на машине, и мне не хотелось упускать возможность побывать в новых местах. — Джинджер произнесла это весьма странным, убитым тоном, словно совершила путешествие в преисподнюю, а не по стране.
Итак, Пабло начал день за днем восстанавливать ее поездку. Внимательно выслушав рассказ о впечатлениях от Скалистых гор, Юты и Невады, он насторожился, когда речь зашла о вторнике, 10 июля, точнее, о ночи с 9-го на 10-е, которую Джинджер провела в мотеле: при упоминании о нем она вздрогнула.
— Как называется этот мотель? — спросил Пабло, подавшись всем корпусом вперед.
— Мотель «Спокойствие», — неуверенно произнесла Джинджер.
— «Спокойствие»? — переспросил Пабло. — Где он находится? Опишите, пожалуйста, это место.
— В тридцати милях от Элко, на федеральном шоссе № 80, — вцепившись в ручки кресла, прошептала Джинджер. Сбивчиво, неохотно описала она сам мотель и гриль-бар. Что-то явно пугало ее, каждый мускул ее тела напрягся.
— Значит, вечером девятого июля вы остановились в этом мотеле, — повторил Пабло. — Это было в понедельник. Хорошо. Итак, представьте, что сегодня понедельник, девятое августа. Вы приехали в мотель. Раньше вы там не останавливались. Какое теперь время дня?
Она не ответила, только задрожала еще сильнее и, когда он повторил вопрос, сказала, запинаясь:
— Я приехала не в понедельник. Это было в пятницу.
— В пятницу? — вздрогнул Пабло. — В предыдущую пятницу? Значит, все это время вы находились в мотеле? С шестого июля и до девятого? Четыре ночи в маленьком мотеле, в окрестностях которого нет ничего примечательного? Что же задержало вас там?
— Там было очень спокойно, — мертвым голосом произнесла Джинджер. — Ведь я была в отпуске, не забывайте. Мне нужно было отдохнуть, расслабиться, а это было самое подходящее для отдыха место.
Старый фокусник взглянул в окно, за которым медленно кружились пушистые снежинки, и задал следующий вопрос:
— Вот вы сказали, что при этом мотеле нет бассейна. Да и комнаты, судя по вашему описанию, далеко не шикарные, во всяком случае, это гостиница не того класса, в каких останавливаются на длительный срок. Так что же вы делали в этой дыре целых четыре дня, Джинджер?
— Как я уже сказала, я просто отдыхала. Отсыпалась, прочла пару книг, смотрела телевизор — у них на крыше прекрасная спутниковая антенна. — Она говорила так, словно читала текст по бумажке. — После двух лет напряженной работы в Стэнфорде мне необходимо было полное безделье на несколько дней.
— Какие же книги вы прочли в мотеле?
— Я... я не помню точно.
Кулаки ее все еще были сжаты, а все тело напряжено. На лбу выступили крупные капли пота.
— Джинджер, сейчас вы в номере мотеля, читаете. Вы меня понимаете? Вы читаете то, что читали тогда. Посмотрите на обложку и скажите, как называется эта книга.
— Я... здесь нет названия.
— Любая книга как-то называется.
— А эта нет.
— Не потому ли, что нет вообще никакой книги?
— Да. Я слегка расслабилась. Вздремнула, потом смотрела телевизор, прочла пару книг, — произнесла Джинджер тихим, бесцветным голосом. — У них прекрасная спутниковая антенна на крыше, поэтому можно смотреть любые передачи.
— Какие же именно вы видели?
— Новости. Фильмы.
— Какие фильмы?
— Я... я точно не помню, — поежилась она.
Теперь Пабло уже не сомневался, что она ничего точно не помнит просто потому, что ничего этого не делала. Да, она была в мотеле, об этом говорило то, с какой точностью она описывала его, но не могла вспомнить ни названий телепередач, ни названий книг. Ей внушили под гипнозом, что она занималась в мотеле тем-то и тем-то, с единственной целью — скрыть подлинные события. Даже если бы специалист по промыванию мозгов позаботился о детализации легенды, она не звучала бы столь же убедительно, как рассказ о подлинных событиях и фактах.
— Где вы ужинали? — спросил Пабло.
— В гриль-баре «Спокойствие». Это маленькое заведение со скромным выбором блюд, но готовят там вкусно, — тем же безжизненным ровным голосом объяснила Джинджер.
— И что же вы там ели, в этом гриль-баре?
— Я... я точно не помню.
— Но вы сказали, что готовят там вкусно. Как же вы можете судить о качестве приготовленных блюд, если не пробовали их?
— Ну, там так мило, уютно, хотя выбор блюд и невелик.
Чем настойчивее он добивался от нее подробностей, тем сильнее она напрягалась. Голос ее оставался бесстрастным, когда она произносила запрограммированные ответы на вопросы, но лицо искажалось и напрягалось от нервной перегрузки.
Пабло мог бы сказать Джинджер, что ее воспоминания о тех четырех днях в мотеле «Спокойствие» ложные. Он мог бы приказать ей стереть их, сдуть с памяти, как сдувают пыль со старой книги, и она выполнила бы его приказ. Потом он сообщил бы ей, что подлинные события закрыты «Блокадой Азраила» и нужно постараться откопать их. Но если бы она сделала это, то снова впала бы в кому, и ему понадобилось бы немало дней, а может быть, и недель, чтобы нащупать трещинки в этой прочной защите. Пока же он решил ограничиться точным определением времени, проведенного Джинджер в мотеле. Он перенес ее назад в пятницу 6 июля позапрошлого лета и спросил, когда она заполняла карточку гостя.
— Чуть позже восьми вечера, — ответила Джинджер нормальным голосом. — До захода солнца оставался еще час, но я чувствовала себя крайне уставшей. Мне хотелось поужинать, принять душ и лечь в постель.
Она детально описала мужчину и женщину за стойкой и даже вспомнила их имена: Эрни и Фэй.
— Вы зарегистрировались и пошли ужинать в гриль-бар. Опишите его, — попросил Пабло.
Джинджер в мельчайших деталях описала бар, но стоило Пабло коснуться момента, когда она покидала его, как она вновь заговорила монотонным голосом. Не вызывало сомнений, что ее воспоминания на определенном моменте обрублены и затем дополнены ложью.
— Расскажите мне о том, как вы ужинали в гриль-баре при мотеле «Спокойствие», минута за минутой.
Джинджер выпрямилась в кресле, ее сомкнутые веки задрожали, словно бы она оглядывалась по сторонам, войдя в гриль-бар; она разжала кулаки, сжимавшие ручки кресла, и встала, чем очень удивила Пабло. Она вышла на середину комнаты, словно по проходу между столиками, лицо ее разгладилось и обрело уверенное, спокойное выражение: теперь она целиком находилась в том, прошлом времени, предшествующем всем ее неприятностям, и ей нечего было опасаться.
Спокойным негромким голосом она объяснила:
— Я немножко задержалась в комнате, приводя себя с дороги в порядок, и уже почти стемнело. Снаружи окрестности залиты оранжевым светом заходящего солнца, и все помещение бара наполнено золотистыми отблесками. Я, пожалуй, займу местечко в углу возле окна.
Пабло осторожно шел рядом, поддерживая ее за локоть и ненавязчиво направляя к одной из кушеток с цветастыми подушечками.
— О, пахнет заманчиво: лук, специи, жареный картофель...
— Сколько человек в баре, Джинджер?
Она повернула голову, словно бы осматривая комнату:
— Повар и официантка, трое мужчин, видимо, водители грузовиков, возле стойки, еще трое — за столом, за другим столом толстяк священник и с ним какой-то парень, всего одиннадцать человек, считая и меня.
— Хорошо, — сказал Пабло. — Подойдем к столику у окна.
Джинджер двинулась дальше, улыбнулась кому-то, сделала шаг в сторону, обходя препятствие, и вдруг замерла, вздрогнув от удивления, и схватилась рукой за лицо.
— Ой! — вскрикнула она.
— В чем дело? — спросил Пабло. — Что случилось?
Джинджер отчаянно заморгала, улыбнулась и заговорила с кем-то, с кем случайно столкнулась тогда, в позапрошлом году, 6 июля, в гриль-баре «Спокойствие»:
— Нет-нет, со мной все в порядке, не беспокойтесь. Я уже все смахнула. — Она вытерла ладонью лицо. — Вот видите? — При этом она смотрела вниз, как если бы тот, к кому она обращалась, сидел за столом. Потом она приподняла голову: видимо, человек встал.
Пабло ждал, что она скажет дальше.
— Бросьте еще шепотку соли через плечо, иначе всякое может случиться. Мой отец обычно бросал не менее трех шепоток через плечо, когда просыпал соль. Так что, если бы вы делали, как он, вы бы просто засыпали меня солью, — произнесла она и пошла дальше, но Пабло остановил ее:
— Стоп! Подождите, Джинджер! Опишите этого мужчину!
— Молодой, тридцати двух — тридцати трех лет, среднего роста, худощавый, темноволосый, с темными глазами. Довольно симпатичный. Кажется, мягкий, застенчивый.
Доминик Корвейсис, вне всяких сомнений.
Джинджер снова пришла в движение. Пабло догадался, что она намеревается сесть за столик, и подвел ее к кушетке. Она села и посмотрела в окно, улыбаясь виду на невадскую равнину, залитую светом умирающего солнца.
Пабло внимательно следил за тем, как Джинджер обменивается любезностями с официанткой и заказывает бутылку пива. Вот пиво подано, и Джинджер начинает потягивать его, любуясь закатом. Пабло не торопил ее, потому что знал: приближается решающий момент, когда ее настоящие воспоминания сменятся ложными. Событие, свидетелем которого она невольно стала, произошло именно в это время, и Пабло было важно знать все, что случилось до него.
Наступили сумерки. Подошла официантка, Джинджер заказала тарелку овощного супа и чизбургер со специями. На Неваду опустилась ночь.
Вдруг Джинджер нахмурилась.
— Что это? — взглянула она с изумлением на воображаемое окно.
— Что вы видите? — насторожился Пабло.
— Что это за шум? — Джинджер с озабоченным видом вскочила с места. — Что это может быть? — озираясь по сторонам, спросила она. — Я не знаю, что это может быть, — продолжала взволнованно говорить она. Потом вдруг покачнулась, едва не упав, и вскрикнула: — Гевальт![11] — Джинджер протянула руку, опираясь на стул или на стол. — Трясет! Почему все так трясется?! — Она подпрыгнула от удивления. — Это что, землетрясение? Что происходит? Что это за звук? — Она вновь покачнулась, лицо ее исказилось страхом. — Дверь! — взвизгнула в ужасе девушка и резко замолчала, дрожа всем телом и хватая перекошенным ртом воздух, словно задыхаясь.
Пабло подхватил ее под мышки, она упала на колени и уронила голову.
— Что происходит, Джинджер?
— Ничего.
Она мгновенно переменилась.
— Что это за шум?
— Какой шум? — снова голос робота.
— Джинджер, что, черт побери, происходит? — сорвался Пабло.
— Я ужинаю, — с перекошенным от страха лицом, но ровным голосом отвечала Джинджер.
— Это ложные воспоминания!
— Просто ужинаю.
Он попытался заставить ее продолжить рассказ с того момента, когда она чего-то испугалась, но в конце концов вынужден был оставить эту затею, отступив перед «Блокадой Азраила».
Во всяком случае, определенный прогресс был достигнут. Они выяснили, что в пятницу 6 июля позапрошлого года Джинджер увидела нечто, чего видеть ей не следовало. Но, став невольной свидетельницей случившегося она почти наверняка была помещена в одну из комнат мотеля «Спокойствие», где ее подвергли промывке мозгов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нежелательной информации. С ней работали три дня — субботу, воскресенье и понедельник — и отпустили, вбив ей в голову нейтральные воспоминания, только во вторник.
Но кто же эти всемогущие незнакомцы? И что же она видела?
2
Портленд, Орегон
В воскресенье 5 января Доминик Корвейсис прилетел в Портленд и снял номер в гостинице рядом с домом, где он когда-то жил. Лил проливной дождь, и было очень холодно.
Остаток воскресного вечера он провел, сидя за столом у окна в гостиничном номере, отлучившись лишь однажды, чтобы поужинать в ресторане. Он то задумчиво глядел в окно, то вновь принимался изучать дорожный атлас. Вновь и вновь он мысленно восстанавливал маршрут своего путешествия в позапрошлое лето, которое он намеревался теперь повторить.
Как Доминик сказал Паркеру Фейну в рождественскую ночь, он был убежден, что вляпался в какую-то опасную историю, воспоминания о которой были кем-то стерты из его памяти. Послания неизвестного корреспондента указывали именно на такую версию, как бы странно она ни выглядела со стороны.
Два дня назад он получил третий конверт без обратного адреса, отправленный, судя по штемпелю, из Нью-Йорка. Теперь, устав изучать карту и глазеть в окно, Доминик вновь взял в руки этот конверт, вытряхнул содержимое и начал разглядывать его. На этот раз это были две моментальные фотографии, сделанные с помощью «Поляроида».
Первый снимок не произвел на него особого впечатления, хотя и несколько насторожил. На нем был запечатлен совершенно незнакомый ему человек: молодой полный священник с веснушчатым лицом, рыжими волосами и зелеными глазами. Он глядел в объектив, сидя на стуле возле письменного стола, в ногах у него стоял чемодан. Священник держался неестественно прямо, подняв голову, расправив плечи и положив руки на сжатые колени. Именно это выражение лица, почти мертвое, и насторожило Доминика: человек, глядевший на него с фотографии, конечно же, был жив, но глаза его были холодными и пустыми.
Вторая фотография поразила Доминика сильнее первой: запечатленная на ней женщина явно была ему знакома, хотя он и не мог вспомнить, где именно произошло их знакомство. При первом же взгляде на нее Доминик почувствовал сильное сердцебиение, похожее на то, которое испытал однажды, проснувшись после сомнамбулических блужданий. Женщине было под тридцать. Голубоглазая, с серебристыми волосами и правильными чертами лица, она могла бы показаться необыкновенно красивой, если бы не та же, что и у священника, безжизненность, те же пустые, мертвые глаза. Она лежала на узкой кровати, покрытая до самого подбородка простыней и привязанная к кровати ремнями. К ее руке, лежавшей поверх простыни, была подсоединена капельница.
Снимок навеял воспоминания об одном из его кошмарных снов, в котором какие-то люди кричали на него и тыкали лицом в раковину. Пару раз тот же сон начинался не в ванной, а в какой-то незнакомой комнате, где он тоже лежал на кровати. Теперь Доминик не сомневался, что и его сняли тем же «Поляроидом» при сходных обстоятельствах: с капельницей, подключенной к руке, и с безжизненным выражением лица.
Когда он показал фотографии Паркеру Фейну, художник сразу выдвинул ту же версию:
— Поджарь меня на адском огне и угости этим блюдом дьявола, если я ошибаюсь! — вскричал он. — Но это фотография женщины в трансе или наркотическом оцепенении. Ей явно промыли мозги, как и тебе. Боже мой, это дело с каждым днем приобретает все более загадочный и интригующий оборот! Вообще-то следовало бы пойти в полицию, но на чьей она стороне? А вдруг ты перебежал дорогу правительственному ведомству? В любом случае ясно, что не ты один влип в дурную историю, дружище. Этот священник и эта женщина тоже замешаны в ней. Сдается мне, что все гораздо более серьезно, чем я предполагал.
И сейчас, сидя за столом в гостиничном номере, Доминик спрашивал, глядя на лежащие перед ним фотографии:
— Кто вы? Как вас зовут? Что с нами произошло?
Снаружи над ночным Портлендом с грохотом сверкнула молния, словно космический извозчик поторапливал ею ленивый дождь, и тысячи капель забарабанили по стенам, окнам, крыше гостиницы, словно копыта ошпаренных кнутом лошадей по мостовой.
Позже, укладываясь спать, Доминик тщательно привязал себя к кровати нейлоновой веревкой, предварительно обмотав запястье клейкой лентой, чтобы не поранить кожу. Веревка была значительно прочнее обычной, поскольку предназначалась для альпинистов. Доминик решил использовать именно ее, ибо уже имел горький опыт: в ночь на 28 декабря он перегрыз во сне бечевку и таким образом освободился. Нейлоновая же веревка была тверда, как медный кабель.
В ту ночь в Портленде он трижды просыпался, мокрый от пота и борьбы с удерживавшей его в постели привязью, с бешено колотящимся от страха сердцем.
— Луна! Луна! — как заведенный повторял он.
3
Лас-Вегас, Невада
После Рождества Жоржа Монтанелла отвезла Марси к доктору Луису Бесанкорту. Там девочка закатила такую истерику, что не только расстроила врача и напугала мать, но и привела их обоих в замешательство.
— Никаких врачей! — закричала Марси, едва оказалась в приемной. — Они сделают мне больно!
Она визжала, плакала и пыталась вырваться и убежать.
Обычно достаточно было легкого шлепка, чтобы расшалившаяся или заупрямившаяся Марси образумилась. Однако на этот раз Жоржа добилась обратного эффекта: Марси стала кричать и плакать пуще прежнего.
Лишь с помощью опытной сестры удалось завести ребенка в кабинет, но к этому времени Жоржа была уже не на шутку встревожена странным поведением дочери. Доктор Бесанкорт тоже не сумел успокоить девочку: не помогли ни шутки, ни ласковое обхождение. Она не давала осмотреть себя, кричала, колотила доктора кулачками, отбивалась ногами, и в конце концов мать и медсестра вынуждены были держать ее за руки и за ноги, чтобы дать возможность доктору произвести осмотр. Ее ужас достиг высшей степени, когда он извлек офтальмоскоп, чтобы осмотреть глаза: как и на Рождество, девочка описалась. После этого, однако, она успокоилась и замолчала, хотя и продолжала едва заметно дрожать и была смертельно бледна. Ее странный отчужденный вид вновь навел Жоржу на мысль об аутизме.
Доктор Бесанкорт не сообщил Жорже ничего утешительного: говорил что-то насчет нервного и психического расстройства и порекомендовал положить Марси на обследование в больницу «Санрайз».
В больнице Марси выкидывала такие коленца, по сравнению с которыми ее выходки у доктора Бесанкорта казались невинными шалостями. Вид врачей и сестер приводил ее в паническое состояние, которое переходило в истерический припадок, заканчивавшийся полным оцепенением, из которого она выходила лишь через несколько часов.
Жоржа взяла отпуск в казино и поселилась на четыре дня в больнице, где для нее поставили рядом с кроватью дочери раскладушку. Она не знала ни минуты покоя. Даже после успокаивающего укола Марси металась во сне, рыдала и все время повторяла: «Луна! Луна...» К воскресенью 29 декабря Жоржа сама нуждалась в медицинской помощи.
Однако в субботу утром свершилось чудо: неестественный страх у Марси исчез. И, хотя она и продолжала выказывать недовольство в связи с госпитализацией и настаивать, чтобы ее отвезли домой, ей уже не казалось, что стены надвигаются на нее и вот-вот раздавят. В обществе врачей она чувствовала себя все еще скованно, однако уже не содрогалась от ужаса при их появлении и позволяла им себя осматривать. Все еще бледненькая, издерганная и настороженная, девочка впервые за все время пребывания в больнице с аппетитом съела завтрак.
Днем, когда завершился последний осмотр и Марси, сидя в постели, обедала, доктор Бесанкорт разговаривал с Жоржей в коридоре. Глядя на расстроенную мать преданным собачьим взглядом добрых влажных глаз, он говорил, озабоченно потирая свой нос-картошку: