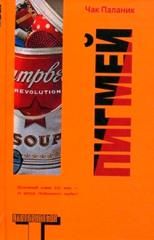Незнакомцы Кунц Дин
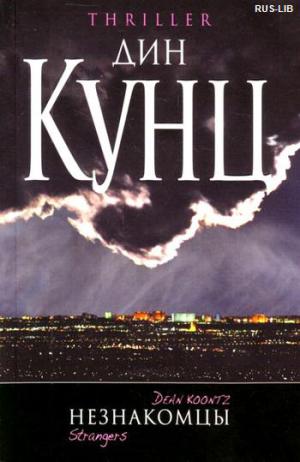
— Но ведь он вмешался в дела полицейских во время несения ими службы.
— Это несерьезно. — Зоннефорд осторожно снял крышку и начал копаться в механизме. — Если бы он не бросился на помощь Толку, тот уже давно был бы покойником. Мы влили в него четыре с половиной литра крови.
— В самом деле? Значит, в истории болезни Толка нет ошибки?
— Ошибки нет, — орудуя отверткой, подтвердил Зоннефорд. — У взрослого человека на килограмм веса приходится семьдесят миллилитров крови. Толк весит сто килограммов, значит, в нем должно быть не менее семи литров. Литр в него влили еще по дороге, в машине, а когда поставили ко мне, потеря крови составляла шестьдесят процентов.
Он отложил отвертку и взял маленький ключ.
— Вы хотите сказать, что фактически он потерял более семидесяти процентов крови к тому времени, когда его вынесли из кафетерия? Но... разве человек в подобной ситуации может выжить?
— Нет, — отрезал Зоннефорд невозмутимо.
Отец Стефан почувствовал приятное волнение.
— И обе пули попали в мягкие ткани, не повредив ни одного органа. Не задели ли они кость или ребро?
Хирург разобрал катушку и задумчиво уставился на разложенные на столе детали.
— Если бы пули такого калибра задели кость, она бы раскололась на кусочки. Ничего подобного я не обнаружил. Но, с другой стороны, если они не срикошетили, ударившись о кость, почему они не прошили его насквозь и не оставили огромного выходного отверстия? Ведь я обнаружил их в мышечной ткани!
Отец Вайцежик задумчиво смотрел на опущенную голову собеседника.
— У меня такое чувство, что вы не до конца откровенны со мной. Почему вы не хотите сказать правду? — наконец спросил он.
Зоннефорд медленно поднял голову:
— А почему у меня такое чувство, что вы тоже что-то от меня утаиваете, святой отец? Какова истинная причина вашего визита?
— Touche[10], — поднял руки отец Стефан.
Зоннефорд вздохнул и сложил инструменты в футляр.
— Хорошо. Входные отверстия свидетельствуют, что одна из пуль ранила Толка в грудь, а именно — в нижнюю часть грудины, которая от удара должна была бы треснуть или разлететься на осколки, которые, в свою очередь, должны были поранить жизненно важные сосуды и органы подобно шрапнели. Однако этого не произошло, по всей видимости.
— По всей видимости? Как прикажете понимать ваши слова? Либо это случилось, либо нет.
— По входному отверстию пули я знаю, что она ударилась о грудину, святой отец. Раны не оставляют сомнения в том, что одна из пуль поразила Толка в грудь и прошила ее, как игла, застряв в мягких тканях спины. Но кость осталась целой и невредимой, вот в чем загадка. Более того, входное отверстие от второй пули указывает на то, что должно быть повреждено четвертое ребро. Однако и этого не случилось.
— А если вы ошиблись? — нарочно подзадорил его провокационным вопросом отец Стефан. — Может быть, пуля прошла между ребер?
— Нет. — Зоннефорд отвел от собеседника взгляд, в котором все еще читалось сомнение. — Таких ошибок я не допускаю. Пули находились именно там, где и должны были бы находиться, столкнувшись с костью, пробив ее и застряв в мышцах. Однако я не обнаружил поврежденных тканей между входным отверстием и застрявшими пулями. Но это невозможно! Пули не могут прошить грудь человека, не оставив следа.
— Это прямо какое-то маленькое чудо.
— Отнюдь не маленькое, а чертовски большое чудо, как мне кажется.
— Если была повреждена только одна артерия и одна вена, мог ли Толк потерять столько крови?
— Нет. Эти травмы не вызвали бы столь сильного кровотечения.
Хирург опустил глаза, в которых отец Вайцежик, однако, успел заметить затаенный страх. Но чего он боялся? Если он думал, что стал свидетелем чуда, разве этому не следует радоваться?
— Доктор, — продолжал отец Стефан, — я понимаю, что ученому, тем более врачу, трудно признать, что он видел нечто необъяснимое с позиций современной науки, полученных им знаний и вообще прямо противоречащее всем его воззрениям. Но я умоляю вас рассказать мне все, что вы видели. Что вы от меня скрываете? Почему Уинтон Толк при столь незначительных ранах потерял так много крови?
Зоннефорд откинулся на спинку кресла.
— В операционной, когда ему начали вливать кровь, я определил с помощью рентгеновского аппарата местонахождение пуль и приготовился к их извлечению. В ходе операции я обнаружил небольшое отверстие в главной брыжеечной артерии и еще одно — в одной из межреберных вен. Уверенный в том, что повреждены и другие сосуды, которые я обязательно обнаружу позже, я зажал оба задетых пулями сосуда и стал зашивать артерию, кровоточившую сильнее вены. Потом...
— Что потом? — спросил отец Вайцежик с плохо скрытым нетерпением.
— Потом, зашив артерию, я собрался было штопать вену, но ранка уже затянулась.
— Затянулась, — повторил за ним священник, удовлетворенно и глубоко вздохнув: он так и предполагал.
— Затянулась, — в свою очередь повторил хирург и наконец посмотрел отцу Стефану в глаза. По его взгляду священник понял, что доктор Зоннефорд признал факт чуда. — Поврежденная вена затянулась сама по себе, святой отец. И это видели мои ассистенты и все сестры. Я снял зажимы, и кровь снова потекла по вене, и ни капли не просочилось сквозь стенки. А позже, когда я извлек пули, мышечные ткани срослись на моих глазах.
— Может быть, вам показалось?
— В том-то и дело, что нет, — упрямо стоял на своем Зоннефорд. — Мышцы действительно срослись у меня на глазах. Невероятно, но я все это наблюдал. Я не могу доказать, святой отец, но я точно знаю, что пули разворотили Толку грудь и раздробили ребра. От такого удара осколки кости не могли не порвать все внутри. Раны были ужасные, смертельные, они не могли быть иными. Но, пока его везли в больницу, они зажили сами по себе. А раздробленные кости срослись. Это, возможно, покажется вам весьма странным, но я мог бы и не зашивать артерию, она тоже затянулась бы самостоятельно, как и вена, я в этом не сомневаюсь.
— А что думают сестры и ассистенты?
— Самое забавное, что мы почти и не говорим об этом. Может быть, мы просто перестали верить в чудеса в наш рациональный век.
— Если это так, то это очень печально, — покачал головой отец Вайцежик.
С затаенным страхом в серых водянистых глазах Зоннефорд спросил:
— Святой отец, если Бог есть, а я не уверен в этом, но если все-таки Он существует, почему Он спас именно этого полицейского?
— Уинтон хороший человек, — ответил отец Вайцежик.
— Ну и что из того? Я видел, как умирали сотни хороших людей. Почему Он спас именно этого человека, а не кого-то другого? Почему Он не спасает других хороших людей?
Отец Вайцежик передвинулся вместе с креслом поближе к хирургу.
— Вы были откровенны со мной, доктор, и я отплачу вам той же монетой. За всем случившимся я чувствую конкретную силу. Она здесь, среди нас: это Дух Святой, вселившийся в Брендана... человека... священника, который первым пришел на помощь Толку в кафетерии.
— Но вы вряд ли пришли бы к такому заключению, не имея...
— Доказательства имеются. Брендан связан с еще одним чудом, — сказал отец Стефан. Не называя имени девочки, он поведал хирургу о ее чудесном выздоровлении.
Лицо Беннета Зоннефорда, однако, еще более помрачнело, когда он выслушал эту историю, что несколько огорчило отца Вайцежика, и он сказал:
— Доктор, может быть, я чего-то не понимаю, но мне кажется, у вас есть все основания радоваться. Вам выпала редкая удача, вы стали свидетелем настоящего чуда, творимого рукой Господа. — Он протянул доктору Зоннефорду руку, и тот охотно пожал ее. — Так скажите мне, Беннет, отчего вы приуныли?
Зоннефорд прокашлялся и сказал:
— Я родился и воспитывался как лютеранин, но вот уже двадцать пять лет я атеист. Но отныне...
— Я понимаю, — произнес отец Стефан. И, чрезвычайно довольный, он приступил к борьбе за душу Беннета Зоннефорда в его причудливо декорированном кабинете, даже не подозревая, что еще до конца этого дня от его эйфории не останется и следа и что он испытает горькое разочарование.
Рино, Невада
Зеб Ломак никогда не думал, что закончит жизнь самоубийством, да еще и на Рождество, но к этой ночи его мучения стали настолько невыносимыми, что он мечтал лишь об одном: скорее положить им конец. Он зарядил дробовик, положил его на грязный кухонный стол и поклялся, что нажмет на курок, если не сможет до полуночи отделаться от этой проклятой ерунды с Луной.
Его эксцентричное увлечение Луной началось позапрошлым летом, хотя сперва оно и казалось довольно невинным. В конце августа того года он вышел с банкой пива на задний двор своего маленького уютного домика и залюбовался вечерним небом. В середине сентября того же года он купил мощный телескоп и пару книг по астрономии.
Неожиданный интерес к звездам озадачил Зебедию: за все пятьдесят прожитых лет его ничто, кроме карт, особо не увлекало. Он искал удачи в Рино, Лейк-Тахо, Лас-Вегасе, маленьких городах вроде Элко или Булхед-Сити, играя в покер с туристами и местными заядлыми картежниками. Карты он не просто любил, он обожал их — сильнее, чем женщин, выпивку и еду. Деньги не имели для него большого значения, Зеб получал удовольствие от самой игры.
До тех пор, пока не купил телескоп и не спятил окончательно.
Первые два месяца он лишь просто любовался небом и почитывал книжки по астрономии; потом купил еще несколько книг, но все равно это оставалось для него развлечением в свободное от игры время. Но где-то перед прошлым Рождеством он охладел к звездам и не в шутку увлекся только одной Луной, после чего с ним стали происходить необъяснимые вещи. Новое хобби вскоре пленило его сильнее, чем карты, и ради него Зеб, случалось, даже отказывался от запланированного посещения казино. К февралю он рассматривал поверхность Луны каждую ночь, если небо не затягивали тучи. А к апрелю в его подборке книг о Луне насчитывалось уже около пятисот наименований, стены же и потолок спальни были оклеены цветными фотографиями Луны, вырезанными из журналов и газет. Он забросил карты и начал жить на сбережения: невинное увлечение Луной превратилось в наваждение.
В сентябре его коллекция книг выросла до полутора тысяч томов и уже с трудом помещалась в доме. Днем он либо читал о Луне, либо рассматривал ее изображения, сам не понимая, что находил в ее изрытой кратерами поверхности, которую изучил даже лучше, чем свои пять комнат. А по ночам он изучал спутницу Земли в телескоп, пока у него не начинало рябить в глазах.
До того как пасть жертвой безумного увлечения, Зеб Ломак был здоровым, поджарым и подвижным мужчиной. Но в последнее время он забросил гимнастику и стал есть все подряд: пирожные, мороженое, всяческие бутерброды — у него не хватало времени, чтобы приготовить настоящий обед. Дальше — больше. Луна уже не зачаровывала его, а вселяла беспокойство, наполняя не столько изумлением, сколько страхом, поэтому он постоянно был возбужден, его успокаивала лишь еда. Он обмяк, обрюзг, но сам не замечал происходящих с ним изменений.
В начале октября он думал о Луне постоянно, видел ее ночью во сне и повсюду натыкался на ее изображение. Теперь его обуяла идея оклеить фотографиями Луны весь дом, и он лихорадочно вырезал снимки из астрономических журналов, книг и газет, причем не только цветные, но и черно-белые. Как-то во время одной из редких прогулок он увидел огромный плакат со снимком лунной поверхности, сделанным астронавтами, и купил пятьдесят копий — как раз хватило на потолок и стены гостиной. Зеб также приклеил плакаты липкой лентой на окна, так что каждый дюйм комнаты, за исключением двери, был декорирован многократно повторяющимся видом. Он вынес из гостиной мебель, превратив ее в планетарий с неменяющейся экспозицией. Порой он ложился на пол и смотрел на окружающие его луны, испытывая одновременно благоговейный трепет и пронзительный страх, природу которого объяснить не мог.
Лежа вот так на полу в рождественскую ночь, окруженный со всех сторон изображением Луны, он вдруг заметил на одной из фотографий сделанную фломастером надпись, которой раньше не было. Поперек картинки было написано лишь одно слово: «Доминик». Он узнал свой почерк, но не мог вспомнить, чтобы наносил это имя на Луну. Потом его взгляд упал на другой плакат — на нем также имелась надпись, на этот раз другая: «Джинджер». Рядом он увидел еще одно имя — «Фэй», и еще одно — «Эрни». Зеб вскочил на ноги и принялся ходить по комнате, проверяя остальные плакаты, но ничего больше не обнаружил.
Мало того, что он не помнил, чтобы писал эти имена, он не мог припомнить никого из своих знакомых, кого бы так звали. Правда, он имел дело с двумя Эрни, но ни с одним из них не поддерживал отношений, и четко выписанные буквы этого имени на плакате были не меньшей загадкой, чем появление трех других. Но чем дольше всматривался Зеб в эти ровным счетом ничего не говорившие ему имена, тем острее ощущал беспокойство. У него возникло странное чувство, что на самом-то деле он все-таки знал этих людей и что они сыграли в его жизни чрезвычайно важную роль, более того, что его здоровье и жизнь самым тесным образом зависит от того, вспомнит он их или нет.
В нем бродили смутные, полузабытые воспоминания о чем-то очень важном для него, они распирали Зеба подобно тому, как разбухает воздушный шар, и тогда казалось: еще миг, и он все вспомнит — и этих четверых, чьи имена загадочным образом появились на Рождество на стенах, и причину его основанного на страхе увлечения Луной. Но вместе с пробуждающимися воспоминаниями в нем нарастал и панический ужас, заставлявший его покрываться потом и приводивший в дрожь.
Он отвернулся от плакатов, пронзенный страхом перед просветлением памяти, и побрел на кухню, испытывая настоятельную потребность заморить нервный озноб пищей. К его удивлению, полки холодильника оказались пусты, точнее, заполнены лишь грязными мисками и пустыми пластиковыми упаковками из-под продуктов, двумя пустыми молочными пакетами и перепачканной вытекшим и засохшим желтком коробкой из-под яиц. В морозилке, кроме мороза, тоже ничего не было.
Когда же он в последний раз наведывался в супермаркет? Неделю назад? Месяц? Увлечение Луной лишило понятие времени какого-либо значения. А когда он в последний раз ел? Ведь вроде была банка колбасного фарша, но когда же он ее прикончил? Сегодня утром, вчера или позавчера? Вспомнить это Зебу не удалось.
Потрясенный таким поворотом событий, Зебедия Ломак впервые за последние недели взглянул вокруг себя и от отчаяния застонал. Впервые он увидел — и осознал — весь кошмар своего существования, ранее затушеванный его всепоглощающей страстью к Луне. Пол был почти сплошь покрыт липкими пустыми банками из-под фруктовых соков, пакетами из-под молока и картофельной соломки, смятыми конфетными упаковками и полчищами тараканов — они ползали и бегали между пакетами и банками, лезли на стены, копошились на полках и настороженно шевелили усами в раковине.
— Боже, — прохрипел Зеб, — что происходит? Во что я превратился? Что со мной стряслось?
Он провел ладонью по лицу и вздрогнул от удивления, обнаружив бороду. Он всегда был гладко выбрит, и ему казалось, что и сегодня утром он брился. Жесткие курчавые волосы на лице так напугали его, что он кинулся в ванную, чтобы взглянуть в зеркало. Он увидел незнакомца: сальные спутанные лохмы, бледное болезненное лицо, крошки хлеба в грязной бороде, дикий взгляд. От собственной вони у него вдруг перехватило горло: он явно не мылся уже несколько недель.
Он заболел и нуждался в помощи. Он запутался в жизни. Нужно срочно кому-то позвонить и попросить ему помочь.
Но звонить он не пошел, испугавшись, что его упекут навеки в сумасшедший дом, как упекли его папашу, когда Зебу было всего восемь лет: допившись до чертиков, он понес несусветицу о каких-то ползучих гадах, вылезающих из стен, и врачи увезли его в больницу. Папаша Зеба так и провел в желтом доме остаток своих дней. После этого Зеб стал опасаться за собственное здоровье и теперь, глядя в зеркало, решил, что сперва нужно привести себя в божеский вид и убраться в доме, иначе его запрут в больничной палате и выкинут ключ.
Вытерпеть собственное отражение, пока он побреется, Зеб не мог и поэтому решил начать с уборки. Стараясь не смотреть на луны, притягивающие его подобно настоящей Луне с ее приливно-отливным магнетизмом, он стремительно прошел в спальню, открыл гардероб, порылся в нем и извлек из-за пиджаков свой «ремингтон» 12-го калибра и коробку с патронами. Не поднимая головы, он вернулся на кухню, зарядил ружье и положил его на заваленный мусором кухонный стол. Потом вслух приказал себе:
— Выброси все дурацкие книжки о Луне, сорви со стен плакаты, вымой кухню, побрейся и прими душ. После этого ты, может быть, сообразишь, что с тобой творится. А пока ты всего этого не сделаешь, нечего и думать о том, чтобы обратиться к кому-то за помощью.
Весь этот монолог был произнесен при лежащем на столе охотничьем ружье. Хорошо, что он стряхнул с себя дурман лунофобии и проголодался, но если этот кошмар снова затянет его, то еще неизвестно, опомнится ли он во второй раз. А поэтому, если он не найдет в себе силы противиться чарам лун на стенах своего дома, лучше недолго думая взять ружье со стола, вставить ствол в рот и спустить курок.
Лучше умереть, чем жить так дальше.
Лучше умереть, чем жить взаперти в дурдоме, как его покойный отец.
Вернувшись в комнаты, Зеб начал собирать книги, не поднимая глаз от пола. У некоторых из книг когда-то были яркие обложки с фотографиями Луны, но он вырезал картинки. Набрав стопку книг, Зеб вышел с ней во двор, запорошенный снегом, и ссыпал книги в бетонную яму для сжигания мусора. Дрожа от холода, он бегом вернулся в дом за новой стопкой, стараясь при этом не глядеть на небо, чтобы не видеть зависшее в черноте светило.
Его неудержимо тянуло вернуться во двор с телескопом и продолжить изучение Луны, бороться с этим желанием ему было так же трудно, как наркоману с тягой к очередному уколу героина, но Зеб держался.
Одновременно в нем нарастали воспоминания, связанные с четырьмя забытыми им людьми: Домиником, Джинджер, Фэй и Эрни. У него было чувство, что он найдет разгадку своего увлечения Луной, лишь только вспомнив, что же это за люди. Он сосредоточился на их именах, чтобы забыть на время о Луне, и, похоже, ему это удалось, поскольку он перетаскал в яму почти три сотни книг.
Но едва Зеб чиркнул спичкой и наклонился, чтобы поджечь их, как обнаружил, что яма пуста. Ошеломленный, он в ужасе уставился на нее, потом бросил коробок и бегом вернулся в дом. Распахнув дверь кухни, он вбежал в нее и замер, увидев то, чего больше всего боялся: стопки мокрых книг лежали на полу, перепачканные золой. Значит, он сначала отнес их в яму, а потом, уже не помня себя, под воздействием Луны перетаскал обратно в дом.
Зеб заплакал, но стиснул зубы и вновь начал таскать книги в яму с упорством грешника, расплачивающегося в аду за земные грехи. Когда он решил, что снова заполнил яму, и стал шарить по карманам в поисках спичек, он вдруг понял, что носил книги не к тому месту, где хотел их сжечь, а от него. Луна не выпускала его из своей мертвой хватки.
Снег перед домом искрился лунным серебром. Сам того не желая, Зеб поднял голову и взглянул на почти безоблачное черное небо.
— Луна, — произнес он.
Теперь он знал, что он уже мертвец.
Лагуна-Бич, Калифорния
Для Доминика Корвейсиса Рождество мало чем отличалось от обычных дней. У него не было ни жены, ни детей, ради которых стоило бы как-то выделять его — покупать подарки и прочее. Не было у него и родственников, с которыми он мог бы разделить праздничную трапезу: индейку и мясной пирог. Приглашения немногочисленных знакомых, в их числе, конечно же, и Паркера Файна, он обычно отклонял, чтобы не чувствовать себя пятым колесом в телеге. Однако он никогда и не скучал на Рождество, вполне довольствуясь редкой возможностью почитать хорошую книгу.
Но в это Рождество Доминик был слишком рассеян для чтения, терзаемый загадочным посланием, полученным накануне, и настоятельной потребностью в таблетке валиума, с которой он упорно боролся. Даже страх перед приступом сомнамбулизма не заставил его вчера принять успокаивающее и снотворное, и он был настроен воздерживаться от лекарств и в дальнейшем, как ни трудно это для него было.
В конце концов, не полагаясь больше на силу воли, он выбросил все таблетки в унитаз. В течение дня возбуждение его стремительно нарастало и к вечеру достигло уровня, который он испытывал до того, как стал принимать транквилизаторы.
В семь часов Доминик прибыл в живописный модернистский особняк Паркера на склоне холма и согласился откушать домашнего яичного ликера с корицей. Непривычно было видеть художника чинным, ухоженным, подстриженным, с расчесанной бородой и в строгом костюме. Однако он был не в состоянии долго сохранять соответствующую торжеству благообразность, сдерживая свою кипучую натуру.
— Какое чудесное Рождество! — восторгался он. — Сегодня в моем доме царят мир и любовь, можешь мне поверить. Мой драгоценный братец позволил себе только сорок или пятьдесят едких и завистливых реплик по поводу моего успеха, что почти вдвое меньше, чем он отпускает в мой адрес в не столь торжественные дни. Моя святейшая единоутробная сестрица Карла всего лишь один раз назвала свою невестку Дорин сучкой, но и это вряд ли можно поставить ей в вину, поскольку Дорин к тому времени уже успела навесить на Карлу ярлык «безмозглой истерички и психопатки». В самом деле, сегодня все чертовски внимательны и любезны. Никто не распускает руки, можешь себе представить. И даже муж Карлы, хоть и напился в стельку, как обычно, не буянил и не падал с лестницы, как в пошлом году, хотя и норовил отколоть какой-нибудь номер.
— Я намерен отправиться в путешествие, — сказал Доминик, когда они отошли к окну, оставшись вдвоем. — До Портленда я долечу самолетом, а там возьму напрокат машину. Я повторю тот маршрут, что проделал позапрошлым летом, от Портленда до Рино, через Неваду и Юту по шоссе № 80, а потом заеду в Маунтин-Вью.
Доминик сел в кресло, однако Паркер оставался на ногах, явно взволнованный услышанным.
— Что произошло? — спросил он. — Зачем тебе это нужно? Ты в здравом уме? Похоже, что нет. Похоже, у тебя откуда-то появилась идея, что эта поездка каким-то образом связана с переменами, происшедшими с тобой в позапрошлом году. Снова бродил ночью?
— Пока нет, но сегодня, кажется, мне этого не избежать, потому что я выбросил все таблетки. Они мне не помогали. Я лгал. Я начал привыкать к ним, Паркер. Я думал, что уж лучше сидеть на таблетках, чем постоянно думать о том, какие фокусы я вытворяю по ночам. Но теперь со всем этим покончено. Вот, взгляни! — Он протянул Паркеру два послания от неизвестного доброжелателя. — Загвоздка, оказывается, не только во мне и в моей психике. Дело представляется куда более серьезным и странным.
Паркер взял у него из дрожащей руки первую записку, прочитал ее и тупо уставился на друга, не в силах вымолвить ни слова от потрясения.
— Я нашел это вчера в своем почтовом ящике на почте. На конверте не было обратного адреса. А другое письмо, если так его можно назвать, пришло ко мне домой. В нем было всего одно слово: «Луна».
Он рассказал, как напечатал это слово сотни раз на компьютере, как шептал его во сне, потом протянул Паркеру второй листок бумаги.
— Но если ты рассказал о Луне только мне, как же об этом мог узнать тот, кто послал тебе эту записку? — спросил Паркер.
— Кто бы это ни был, — ответил Доминик, — он осведомлен о моих ночных блужданиях. Может быть, потому, что я обращался к врачу...
— Уж не хочешь ли ты сказать, что за тобой наблюдают?
— В некотором смысле именно так. Если не постоянно, то время от времени. Однако остается загадкой, каким образом наблюдающему стали известны такие вещи, как многократная запись слова «Луна» на компьютере, или то, что я бормочу его ночью. Не стоял же он, в самом деле, рядом с моей кроватью! Однако он точно знает, что кроется за всей этой чертовщиной.
Паркер наконец присел на край кресла.
— Найди его, и все станет ясно.
— Нью-Йорк слишком велик, чтобы начинать там поиски, — сказал Доминик. — Но, когда я получил первое письмо — о том, что мне следует покопаться в своем прошлом, — я сообразил: ты был прав, утверждая, что надлом моей психики связан с предыдущими переменами во всем моем поведении. А начались они именно во время моего путешествия из Портленда в Маунтин-Вью. И если повторить в точности тот же маршрут, останавливаясь в тех же мотелях и питаясь в тех же придорожных ресторанах, то не исключено — что-нибудь прояснится... Моя память может получить толчок.
— Но как ты мог забыть нечто чрезвычайно важное?
— А может, я вовсе ничего и не забывал. Может быть, меня лишили воспоминаний.
Решив оставить объяснения «на потом», Паркер спросил:
— Кто бы ни был этот парень, зачем ему посылать тебе записки? Ведь, насколько я понял, ты придумал версию, где тебе противостоит какая-то загадочная группа людей, и этот парень — один из них, не так ли?
— Возможно, он не полностью разделяет их позицию. Возможно, он против того, что сделали со мной, чтобы я все забыл.
— Сделали с тобой? Что ты хочешь этим сказать?
Доминик нервно покрутил в руках рюмку с ликером.
— Я не знаю. Но этот анонимный корреспондент явно хочет, чтобы я понял: у моих проблем не только психологическая подоплека. Мне кажется, он хочет помочь мне докопаться до истины.
— Так почему бы ему просто не позвонить тебе и не выложить все начистоту?
— Мне кажется, он не хочет рисковать. Он, видимо, участвует в какой-то тайной операции, и, если обратится ко мне открыто, его сообщники об этом узнают, и ему тогда несдобровать.
Паркер несколько яростно взлохматил пятерней шевелюру.
— Получается, что какая-то всеведущая тайная организация села тебе на хвост. Иезуиты, масоны и ЦРУ в одном лице? Ты и вправду думаешь, что тебе промыли мозги?
— Ну, если тебе так угодно, можно сказать и так. Чтб бы я ни забыл, мне помогли это забыть, это уж точно. И что бы я ни видел или ни пережил, это было нечто потрясающее, нечто страшное, поэтому-то воспоминания об этом и копошатся до сих пор в моем подсознании, давая о себе знать по ночам и через компьютерные послания. Даже промывание мозгов не смогло полностью стереть это событие из моей памяти! Стал бы кто-то из членов этого секретного общества рисковать головой из-за пустяка! Значит, игра стоит свеч.
Пробежав еще раз записки, Паркер вернул их Доминику и отхлебнул из рюмки.
— Черт побери! Похоже, ты прав, хотя мне это и не нравится. Мне не хочется в это верить. Это похоже на плод разыгравшейся писательской фантазии, словно бы ты обкатываешь на мне круто закрученный сюжет. Но как бы то ни было, я затрудняюсь дать тебе определенный ответ.
Только теперь Доминик сообразил, что слишком сильно сжимает свою рюмку с ликером. Он поставил ее на столик и положил руки на колени.
— У меня его тоже нет, — сказал он. — Но, кроме этой версии, ничто не объясняет связь между моим проклятым лунатизмом, переменами, происшедшими со мной позапрошлым летом во время поездки из Портленда в Маунтин-Вью, и двумя записками.
— Но что это может быть, Доминик? — озабоченно нахмурился Паркер. — Во что ты встрял во время ее?
— Понятия не имею.
— А ты не задумывался о том, что правда может оказаться слишком неприятной, чреватой опасными последствиями? Может, лучше бросить всю эту затею?
— Но, если я не узнаю правду, я так и буду блуждать по ночам всю жизнь. Во сне я убегаю от воспоминаний о случившемся со мной в пути позапрошлым летом, и, не выяснив, что же все-таки произошло, я никогда не успокоюсь. Более того, я могу сойти с ума. Да-да, именно сойти с ума, как ни напыщенно это звучит. Если я не узнаю правду, я начну думать об этом загадочном происшествии постоянно, во сне и наяву, пока в конце концов мне ничего не останется, как вставить себе в рот револьвер и спустить курок.
— Избави Бог!
— Я говорю вполне серьезно.
— Я знаю. Да поможет тебе Господь, дружище.
Рино, Невада
Зеба Ломака спасло облако. Оно закрыло Луну до того, как та успела окончательно овладеть им. Получив неожиданную передышку на время короткого затемнения царственного светила, Зебедия тотчас же сообразил, что стоит на морозе без пальто и, как загипнотизированный, пялится на ночное декабрьское небо. Если бы облако не прервало его забытье, он так бы и смотрел на Луну, пока та не скрылась бы за горизонтом, после чего, окончательно завороженный Луной, вернулся бы в обклеенную ее фотографиями комнату и лежал бы там, вперив взгляд в лик древнего божества, олицетворением которого у древних греков была Артемида, а у римлян — Диана, лежал, пока не умер бы от голода.
Зеб издал истошный вопль и побежал в дом, но поскользнулся и упал в сугроб, потом еще раз упал, споткнувшись о ступеньку крыльца, на четвереньках вполз в прихожую и, привалившись спиной к двери, перевел дух. Но и в доме он не был в полной безопасности. Закрыв глаза, он принялся срывать со стен фотографии и плакаты и швырять их на пол, и без того заваленный мусором и банками. Он не видел испещренного кратерами лика Луны, но все равно чувствовал его: ощущал бледный свет сотен лун на своем лице, их округлость, когда он рвал их на кусочки, что было, несомненно, безумием, поскольку это были всего лишь картинки, они не могли испускать свет или тепло, но тем не менее он все это чувствовал. Он открыл глаза и тотчас же был пленен до боли знакомым небесным телом.
«Все, — подумал Зеб, — теперь точно упекут в психушку до конца жизни. Как отца».
Подобно отдаленной вспышке молнии, эта мысль пронзила мозг Зеба Ломака, не дав ему окончательно помутиться. Не теряя даром ни секунды, он отшвырнул скомканный плакат и бросился на кухню, где на грязном обеденном столе его ждало заряженное ружье.
Чикаго, Иллинойс
Отец Стефан Вайцежик, человек неробкого десятка, не раз приходивший на помощь другим священникам, не привык к поражениям и встретил его, нужно признать, во всеоружии.
— Как же ты смеешь не верить после всего, что я тебе рассказал? — несколько обескураженно вопрошал он.
— Отец Стефан, мне очень жаль, — отвечал Брендан Кронин. — Но по сравнению со вчерашним днем мое отношение к существованию Бога ничуть не изменилось.
Разговор происходил в спальне на втором этаже уютного дома из красного кирпича, принадлежавшего родителям Брендана: здесь, в тихом ирландском квартале Бриджпорт, молодой священник отдыхал по указанию отца Вайцежика после перестрелки в кафетерии. Брендан в белой сорочке и серых слаксах сидел на краешке двуспальной кровати, устланной довольно потертым желтым плюшевым покрывалом. Уязвленный упрямством своего помощника, отец Стефан беспрерывно ходил взад-вперед по комнате, от трюмо к комоду, от окна к кровати и снова к трюмо, словно пытался убежать от чувства досады на самого себя за свое поражение.
— Сегодня вечером я беседовал с безбожником, почти уверовавшим в Бога после невероятного исцеления Толка. Но на тебя даже это не производит впечатления!
— Я рад за доктора Зоннефорда, — кротко отвечал Брендан, — но его возродившаяся вера не воспламеняет ту, что угасла во мне.
Это нежелание должным образом воспринять недавние чудесные события было не единственной причиной раздражения отца Вайцежика: его выводило из себя и умиротворенное настроение молодого священника. Если уж у него не появлялось желания вновь уверовать в Господа, то ему по крайней мере следовало бы убиваться и страдать по поводу утраты веры. Вместо этого Брендан, похоже, совершенно не унывал в связи со своим жалким душевным состоянием, а, напротив, по сравнению с предыдущей их встречей разительно переменился, обретя непоколебимое спокойствие.
— Именно ты, Брендан, исцелил Эмми Халбург и Уинтона Толка, — настойчиво продолжал приводить свои доводы отец Стефан. — Да, именно ты, силой стигматов на твоих ладонях — стигматов, посланных тебе Богом как знак.
Брендан взглянул на ладони, теперь не отмеченные никаким особым знаком, и все так же кротко ответил:
— Я полагаю, что каким-то образом действительно излечил и Эмми, и Уинтона. Но не силой Бога, действовавшего через меня.
— Кто же, как не Господь, мог даровать тебе силу исцелять людей?
— Этого я не знаю. Но через меня действовал не Бог. Я не ощущаю божественного присутствия, святой отец.
— Боже мой, какие еще доказательства Его присутствия тебе нужны? Может, Ему следует лично явиться к тебе со своим жезлом правосудия, со всеми архангелами и представиться?
Брендан улыбнулся и пожал плечами:
— Святой отец, я понимаю, что эти удивительные события трудно объяснить иначе, как с позиции религии, однако не могу избавиться от чувства, что за всем этим стоит нечто большее, обладающее большей силой, чем Бог.
— И что же это? — с вызовом спросил отец Стефан.
— Я не знаю. Нечто чрезвычайно значительное, удивительное и величественное... но не Бог. Вот вы говорили, что те кольца — стигматы. Но если бы на самом деле это было так, почему бы им не проявиться в форме, характерной для христианской символики? Почему кольца? Какая здесь связь с посланием Христа?
Когда три недели назад Брендан начал курс нетрадиционной психотерапии в больнице Святого Иосифа, он так был подавлен утратой веры, что стал быстро худеть. Сейчас же он перестал терять вес и, хотя и весил на тридцать фунтов меньше, чем обычно, уже не казался изможденным и замученным, как после своей шокирующей выходки во время мессы 1 декабря. Вопреки духовному падению, его лицо лоснилось, а в глазах вновь появился былой блеск.
— Ты чувствуешь себя великолепно, не так ли? — спросил отец Стефан.
— Да, хотя и не понимаю почему.
— И твою душу больше ничто не тревожит?
— Ничто.
— Несмотря на то, что ты так и не нашел пути к Богу?
— Увы, — признал Брендан. — Возможно, это как-то связано со сном, который приснился мне прошлой ночью.
— Снова черные перчатки?
— Нет, они мне пока не снятся. Прошлой ночью я гулял во сне в каком-то месте, наполненном прекрасным золотистым сиянием, настолько ярким, что я ничего вокруг себя не мог различить, но при этом у меня совершенно не болели глаза. — В голосе кюре появилась особая, почти благоговейная интонация. — Во сне я все шел и шел, не ведая, где я, и не понимая, куда иду, но предчувствуя встречу с чем-то необычайно значительным и невообразимо прекрасным. Я не просто сам приближался к этому предмету или явлению, меня влекло туда, влекло настолько властно, что, казалось, этот безмолвный зов сотрясает меня. Сердце мое готово было выскочить из груди, и мне было страшно, правда, совсем чуть-чуть. И то был вовсе не дурной страх, святой отец, вовсе нет. Я просто с замирающим сердцем шел сквозь золотистый свет к чему-то изумительному, чего я не видел, но ощущал.
Завороженный проникновенным голосом Брендана, отец Вайцежик даже присел на край кровати.
— Это, несомненно, видение, обращение к тебе во сне Бога. Он зовет тебя назад к вере, призывает вернуться к несению службы.
— Нет! — затряс головой Брендан. — Нет. В этом сне не было ничего религиозного, ни малейшего намека на божественное присутствие. Иного рода трепет наполнял меня, радость, отличная от радости служения Господу или веры в Него. Я четырежды пробуждался за эту ночь, каждый раз на моих ладонях были круги. И каждый раз, засыпая, я снова видел тот же сон. Происходит нечто чрезвычайно необычное и важное, святой отец, и я участвую в этом. Но, что бы то ни было, ни моя прежняя вера, ни опыт, ни знания не готовили меня к этому.
«Не был ли то призыв дьявола? — подумалось вдруг отцу Вайцежику. — Возможно, сатана, узнав о том, что душа священника в опасности, одел свой омерзительный облик в обманчиво привлекательный золотистый свет, дабы сбить молодого служителя Господа с истинного пути».
Не отступаясь от своего твердого намерения вернуть кюре в лоно церкви, но лишь временно терпя поражение, отец Стефан Вайцежик решил объявить перемирие, а потому сказал:
— Итак, что же теперь? Ты не готов надеть свой католический воротничок и вернуться к выполнению своей миссии. Следует ли мне понимать это так, что пора связаться с Ли Келлогом, иллинойским архиепископом, и попросить его утвердить проведение психиатрической экспертизы? Ты этого хочешь?
— Нет, — улыбнулся Брендан. — Мне уже не кажется, что в этом будет какой-то прок. Если вы не возражаете, я хотел бы вернуться в свою комнату при церкви и подождать там, как будут развиваться события дальше. Конечно, как разуверившийся священник я уже не могу выслушивать исповеди или служить мессу. Но зато я вполне могу хоть что-то делать, например, помогать вам с документацией.
Отец Вайцежик вздохнул с облегчением: он ожидал, что Брендан пожелает вернуться к мирской жизни.
— Конечно же, ты можешь жить в своей комнате и для тебя найдется немало работы — можешь не сомневаться, без дела не засидишься. Однако, Брендан, скажи мне: ты действительно думаешь, что при определенном стечении обстоятельств ты вновь обретешь путь к Богу?
— Я больше не ощущаю враждебности к Богу, — кивнул Брендан. — Я просто не ощущаю его в себе. Посмотрим, как сложатся обстоятельства.
Все еще расстроенный и разочарованный отказом Брендана усмотреть присутствие Бога в излечении Эмми и Уинтона, отец Вайцежик тем не менее обрадовался тому, что его помощник будет у него под рукой, а следовательно, еще имеется шанс вернуть его к вере.
Брендан проводил отца Стефана вниз, и возле двери двое мужчин обнялись, словно отец и сын, — так, во всяком случае, могло показаться стороннему наблюдателю.
Уже на крыльце, под жуткое завывание порывистого ветра, подходящего скорее для Дня Всех Святых, чем для Рождества, Брендан сказал:
— Не знаю почему, но у меня такое чувство, что нас ждет какое-то удивительное приключение.
— Обретение, или вторичное обретение, веры всегда удивительное приключение, Брендан, — произнес отец Вайцежик, после чего, удовлетворенный с трудом одержанной победой, со спокойной совестью удалился.
Рино, Невада
Жалобно стеная и судорожно хватая ртом воздух, но не сдаваясь натиску лунного дурмана, Зеб Ломак храбро пробирался через горы гнилого мусора и полчища тараканов, устилающих пол кухни, к столу. Наконец он достиг цели, схватил ружье, всунул ствол в рот — и только тогда сообразил, что не дотянется до спускового крючка. Желание задрать голову и взглянуть на чарующие луны на стенах и потолке было столь велико, что казалось: кто-то тянет его за волосы, силой принуждая оторвать взгляд от кишащего насекомыми пола. Он зажмурился в отчаянной попытке защититься от наваждения, но невидимый враг принялся настойчиво разлеплять ему веки. Охваченный паническим страхом перед перспективой угодить, как отец, в сумасшедший дом, он нашел в себе силы противостоять гипнотическому зову Луны. Не открывая глаз, он рухнул в кресло, сбил с ноги ботинок, стянул носок, двумя руками вновь вставил ствол ружья в рот, стиснув его зубами, поднял босую ступню и пальцем коснулся холодного спускового крючка. Воображаемый лунный свет столь явственно щекотал кожу, а магнитная сила Луны столь требовательно и властно будоражила его кровь, что он открыл-таки глаза, увидел сонм лун на стенах и выкрикнул: «Нет!» — прямо в отверстие ствола. И, уже впадая в транс под воздействием чар Луны, он из последних сил надавил ступней на собачку — и тут распухающий шар памяти наконец лопнул в его сознании, и он вспомнил все: и позапрошлое лето, и Доминика, и Джинджер, и Фэй, и Эрни, и молодого священника, и всех остальных, кто был тогда в мотеле «Спокойствие» на федеральном шоссе № 80, и — о боже! — Луну!
Быть может, сдержать движение ступни Зебедия Ломак уже просто не мог, а возможно, ожившая память привела его в такой ужас, что он нарочно дернул ногой, желая ускорить развязку, но, как бы то ни было, пуля 12-го калибра с грохотом вырвалась из ствола, снеся Зебу Ломаку затылок, и для него (но лишь только для него одного!) кошмар закончился.
Бостон, Массачусетс
Всю вторую половину рождественского дня Джинджер Вайс провела за чтением «Сумерек в Вавилоне», и, когда в семь вечера пора было спускаться вниз на обед с семейством Ханнаби, она с большим трудом заставила себя отложить книгу в сторону. В не меньшей, а возможно даже, что и в большей степени, чем увлекательный сюжет, ее пленила фотография автора: властный взгляд и смуглое привлекательное лицо Доминика Корвейсиса будили в ней волнение, граничащее со страхом, и она не могла побороть странное ощущение, что однажды уже встречалась с этим человеком.
Забыть лицо Доминика Корвейсиса не помог и обед с хозяевами дома, их детьми и внуками, и оттого впечатление от застолья несколько скомкалось. В десять часов, когда можно уже было встать из-за стола, никого не обидев, она еще раз пожелала всем счастливого Рождества, здоровья и счастья и вернулась в свою комнату.
Она начала читать с того места, на котором остановилась, и, стараясь как можно реже рассматривать фотографию автора, к четырем часам утра дочитала роман до конца. В доме воцарилась глубокая тишина. Джинджер положила книгу на колени и уставилась на до боли знакомое лицо на обложке. Проходила минута за минутой, а она продолжала изучать фотографию, все больше убеждаясь в том, что где-то уже видела этого мужчину, который, в чем она уже почти и не сомневалась, каким-то необъяснимым образом был связан с ее недавними напастями. Некоторое время она гнала прочь эти мысли, пытаясь отнести их на счет того же психического расстройства, которое лежало в основе ее внезапных припадков автоматизма, однако охватившее ее возбуждение неуклонно нарастало и наконец достигло такой степени, что Джинджер, окончательно утратив самообладание и дрожа мелкой дрожью, решила перейти к действию.
Потихоньку выбравшись из комнаты и оглядываясь по сторонам, она спустилась вниз, прошла в темноте огромного дома на кухню, включила свет и сняла трубку настенного телефона. В Калифорнии был час ночи, слишком поздно, чтобы звонить Корвейсису в Лагуна-Бич, но ей было достаточно узнать его номер в справочном бюро, тогда бы она по крайней мере смогла спокойно уснуть и связаться с ним утром. Но полученный ответ не только не удивил, а скорее еще больше напугал ее: в телефонном справочнике номер писателя отсутствовал.
Джинджер выключила свет, пробралась на цыпочках назад в свою комнату и там решила утром написать и отправить экспресс-почтой письмо издателю Корвейсиса с просьбой связаться с ней немедленно.
Возможно, это безрассудный порыв, возможно, она никогда и не встречалась с Корвейсисом и он не связан с ее странным несчастьем. Не исключено, что он примет ее за ненормальную. Но даже если шансы на удачу — один на миллион, то и тогда ей стоит попробовать, ибо в случае выигрыша она будет спасена. А ради этого стоит рискнуть показаться дурой.
Лагуна-Бич, Калифорния
Между тем Доминик, не подозревавший о том, что «Сумерки в Вавилоне» уже связали его с глубоко встревоженной женщиной из Бостона, оставался в доме Паркера до полуночи, обсуждая с другом возможные варианты подоплеки гипотетического заговора таинственных темных сил, направленных против него. Несмотря на досадную нехватку информации, необходимой, чтобы свести концы с концами, уже сам обмен мнениями и предположениями смягчал впечатление от вырисовывающейся страшноватой картины.
Они сошлись на том, что Доминику не следует вылетать в Портленд и начинать свою одиссею, пока он не выяснит, продолжаются ли его ночные блуждания теперь, после того как он прекратил принимать лекарства, а если да — то в какой форме. Ведь если сомнамбулизм не возобновится, вопреки его ожиданиям, он может путешествовать спокойно, не опасаясь потерять контроль над собой вдали от дома. Но если ночные блуждания повторятся, ему потребуется пара недель, чтобы научиться сдерживать себя во время сна, и лишь потом можно будет отправляться в Портленд.
Кроме того, выждав некоторое время, он имеет шанс получить новые письма от незнакомого корреспондента, а это, в свою очередь, либо сделает поездку вообще ненужной, либо сузит ее до определенного района или участка пути, где что-то увиденное либо испытанное поможет Доминику вспомнить стертые из его памяти детали.
В полночь, когда Доминик засобирался домой, заинтригованный художник, провожая его до парадной двери, спросил:
— Ты уверен, что будет разумно остаться ночью одному?
Вступив на дорожку, изрезанную острыми тенями пальмовых листьев, подсвечиваемых декоративными чугунными фонарями, Доминик обернулся к другу и твердо сказал:
— Возможно, это и не совсем разумно, но другого выхода нет.
— Ты позвонишь мне, если понадобится помощь?
— Обязательно.
— И прими все меры предосторожности, о которых мы говорили.
Вернувшись домой, Доминик принял меры. Первым делом он вынул пистолет из тумбочки, переложил в ящик рабочего стола, запер его на ключ и спрятал ключ в морозильник под пачку мороженого — уж лучше оказаться безоружным перед грабителями, чем открыть из пистолета стрельбу во сне. Затем он отрезал от мотка веревки кусок длиной десять футов, почистил зубы, разделся и привязал себя веревкой за руку к изголовью кровати, сделав для надежности четыре узла. В предыдущие свои лунатические путешествия Доминик, правда, умудрялся совершать ряд довольно сложных операций, но было маловероятно, что он справится во сне с узлом, развязать который было нелегко даже бодрствуя. Во сне он, безусловно, не сможет должным образом сосредоточиться и в конце концов проснется.
Подобное самоограничение было чревато определенным риском. Например, вспыхни в доме пожар или случись землетрясение, он мог погибнуть от дыма или оказаться погребенным под обломками рухнувшей стены. Но приходилось рисковать.
На электронных часах было без чего-то час, когда Доминик выключил ночник и с веревкой на правом запястье скользнул под одеяло. Уставившись в темный потолок, он мысленно спросил у Бога, во что же все-таки его втянули позапрошлым летом на федеральном шоссе № 80, но, так и не дождавшись ответа, заснул.
Телефон на тумбочке молчал. Если бы его номер был в телефонном справочнике, как раз в этот момент раздался бы звонок от находящейся за сотни миль отсюда одинокой и напуганной молодой женщины. И этот несостоявшийся телефонный разговор мог бы не только коренным образом изменить события предстоящих недель, но и спасти не одну жизнь.