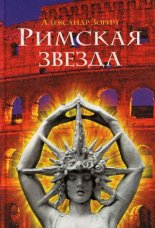Страсти по Максиму. Горький: девять дней после смерти Басинский Павел

Разве забыть когда-нибудь эту ночь в деревушке Везенац – сошли с женевского парохода с Потресовым как высеченные мальчишки, обожженные, униженные, и в темноте расхаживали из конца в конец деревни, озлобленно выкрикивали, кипели, стыдились самих себя, – а по ночному небу над озером и над горами ходили молнии кругом, не разражаясь в дождь. До того было обидно, что минутами хоть расплакаться. И чертовский холод опускался на сердце».
Можно спорить с историко-художественной версией Солженицына, так же как можно спорить с версией, что причиной ленинской нетерпимости была душевная травма, нанесенная казнью брата Дмитрия Ульянова. Но в любом случае сектантская нетерпимость Ленина и его страсть к постоянным расколам внутри партии – это факты известные.
В частности, это подтверждается его перепиской с Горьким в период пребывания писателя на Капри и создания так называемой «каприйской школы» для рабочих-эмигрантов из России, организованной им вместе с А.В.Луначарским, Г.А.Алексинским и другими. Все они, по мнению Ленина, были «махистами»21, «ревизионистами», посягнувшими на учение Маркса, которое Ленин не просто считал единственно верным, но единственно верным считал и свое понимание марксизма. Впрочем, как раз в этом вопросе (борьбе с «махистами») он оказался солидарен с Плехановым. Но это ни о чем не говорит. Когда лидер секты освобождается от соперников, он может прибегнуть к помощи самого заклятого врага. Это тоже логика сектантского поведения: «отсекать» для своей пользы врага от чужой «части», использовать его, внося раскол и в его «часть» тоже. Таким образом сектант убивает двух зайцев.
Впоследствии в цикле статей в газете «Новая жизнь», объединенных названием «Несвоевременные мысли», Горький не раз употребит это слово – «сектантство». Но есть подозрение, что гнев его был разогрет еще и тем, что в политической перспективе сектантская политика Ленина оказалась продуктивней горьковского идеализма и веры в объединение демократических сил. Ленин взял власть. Он сумел ее удержать. И это благодаря тому, что, пока Горький с Богдановым и Луначарским занимались «богостроительством» и прочими душеспасительными вещами, Ленин ковал свою партию. Свою секту. И хотя, как считает Солженицын, к началу мировой войны и Февральской революции партия Ленина была в плачевном состоянии, уж точно единственным непререкаемым ее лидером был он, Ленин.
Об отношениях Горького и Ленина в советские годы написаны тысячи страниц. И почти все это, за редким исключением, невообразимая риторика о сложной «дружбе» вождя революции и писателя, изредка омрачаемой какими-то темными разногласиями между ними. Когда советская власть кончилась и были опубликованы «Несвоевременные мысли» Горького, родилась демагогия совсем другого сорта: о Горьком, якобы противостоявшем Ленину, но, увы, не сумевшем справиться с ним и вынужденном уехать в эмиграцию.
На самом деле и друзьями они никогда не были, и в эмиграцию от Ленина Горький не уезжал, потому что нельзя назвать эмиграцией оплаченную бессрочную командировку от Наркомпроса.
Все было проще и сложнее…
Надпись на венке от Горького и Андреевой покойному Ленину – «Прощай, друг» – была, конечно, ритуальной. Но не был Горький и врагом Ленина в 1917—1921 годах. Конечно, он был нравственно потрясен и раздавлен волной «красного террора». Конечно, Горький и в страшном сне не мог представить, что чаемая им русская революция выльется в массовое самоистребление народа, гибель интеллигенции и методическое уничтожение большевиками своих политических оппонентов. Конечно, он «мечтал» о другом. О «культурной роли» революции. Об освобождении энергии демократии для перестройки жизни в духе «коллективного разума».
Если Ленин был сектантом, то Горький был еретиком. Он неоднократно называл себя «еретиком» в письмах и часто писал о том, что любит еретиков как духовный тип.
Православный словарь так объясняет слова «ересь», «еретик»: «учение (и последователь его), противное точной церковной догматике». Корень слов греческого происхождения и означает по-гречески «личный произвол, захват истины, стремление противопоставить религиозной догме свое субъективное мнение».
Не нам судить, что с церковной точки зрения опаснее – сектантство или еретичество, тем более что между ними есть прямая связь. Не будем забывать, что не только для Ленина, который, по собственному признанию, «бесился» при словах «Бог», «церковь», но и для Горького церковная точка зрения не являлась авторитетной. Слова «сектантство» в отношении Ленина и «еретичество» в отношении Горького не следует понимать буквально. Скорее это образная характеристика. Горький был еретиком в том смысле, что всегда внутренне противился догме, всякой догме. И даже если он внешне подчинялся ей, душа и разум его протестовали. Существует легенда, будто бы Ягода, прочтя предсмертные дневники Горького, вздохнул: «Как волка ни корми, он всё в лес смотрит».
В этом и состоит, так сказать, «контрапункт» непонятного союза Горького с Лениным. В отличие от союза со Сталиным, это был «брак» во всех отношениях добровольный. Ленин не угрожал Горькому и его «семье», Ленин не вынуждал Горького вступать в партии и ехать в Америку, Ленин мог только просить Горького о финансовой поддержке большевиков и т.д. И, наконец, Ленин до революции был в сравнении с Горьким фигурой, практически неизвестной широким массам.
Но – удивительно! – письма Ленина к Горькому каприйского периода (1907—1913 годы) и письма Ленина к Горькому послеоктябрьского времени (1919—1921 годы) по тональности своей почти не отличаются. Отличия есть, но они объективного происхождения. Ленин в женевско-парижской эмиграции и Ленин, лихорадочно бившийся за большевистскую власть в России после Октября, конечно, не одно и то же. Так же и Горький «каприйский» и Горький «петроградский» сильно отличались. Горький после Октября – это уже не идеалист, создавший на Капри паломническую атмосферу, странно напоминавшую атмосферу Ясной Поляны. Это старик, который харкает кровью и вопреки очевидности пытается спасти остатки культуры, вообще – цивилизованной жизни.
Но по тональности некой «музыки» отношений Ленина и Горького в этих письмах ничего не изменилось…
Странная это была музыка!
С церковной точки зрения, еретик и сектант не так далеко отстоят друг от друга. Ересь может привести к созданию секты, а всякая секта есть ересь, и т. д. Но во внецерковном смысле еретик и сектант как бы противостоят друг другу. Еретик стремится вырваться за пределы «абсолютной истины», утверждая свой произвол, а сектант, напротив, ревностно охраняет свою «абсолютную истину», претендуя на обладание ею. Для еретика всякая окончательная правда есть ложь, от которой он отказывается, как только она объявляет себя окончательной, а сектант, наоборот, ищет окончательной правды, которая всё в мире строго расставила бы по своим местам. Еретик бежит от догмы, сектант стремится к ней.
Конечно, и Ленин не был исключительно сектантом, и Горький не всегда поступал как еретик. Но первый был сектантом, а второй – еретиком, так сказать, par excellence, по преимуществу.
Почему же их притягивало друг к другу? Почему, как бы ни относиться к очерку Горького о Ленине, Горький искренне горевал о смерти «друга» и даже «плакал» о нем, как плакал при известии о смерти Толстого?
В их отношениях вообще немало загадочного. Большая часть их переписки каприйского периода – это жестокая перепалка, выражаясь по-ленински, «драчка». Но при этом они считают друг друга «товарищами», обращаются друг к другу «дорогой мой человек», «дружище» и т. п. Не надо быть крупным психологом, чтобы понять: внутри одной партии Горький и Ленин были несовместны. Они давили один на другого своими «авторитетами», оба претендовали на лидерство, пусть и понимая его по-разному. Внутри партии это были два сома в одном бассейне. Но если у Горького, кроме бассейна, были и другие водоемы для питания и нереста, то у Ленина, кроме его партии, не было решительно ничего. Поэтому, по всем сектантским законам, он должен был ненавидеть Горького. А между тем странное подобие дружбы действительно существовало, это невозможно отрицать. Может быть, их притягивало друг к другу по каким-то объективным законам, как притягивает друг к другу всякие очень крупные тела, планеты или корабли.
Для Ленина Горький одновременно и партийный фракционер, и великий писатель. Как фракционер (Ленин часто повторяет это словечко – «фракция», возможно, чтобы напомнить Горькому его status quo) Горький виноват перед Лениным бесконечно. Он посягнул на сектантскую этику! Мало того, что вместе с другими большевиками – большевиками! – Богдановым и Луначарским – он «ревизует» марксизм да еще создает в этом духе школу для рабочих, куда – это просто возмутительно! – приглашает Ленина читать лекции. Но он выносит сор из избы! Он объявляет о своих «богостроительских» идеях в печати и даже – это уж вовсе за пределами сектантского понимания! – присылает в любимое детище Ленина, газету «Пролетарий», статью «Разрушение личности», где опять-таки солидаризуется с «ревизионистскими» идеями Богданова. Богданов в это время находится в Женеве и выслушивает от Ленина «мнение» не печатать статью Горького. Богданов, как и Ленин, соредактор «Пролетария» (третий – И.В.Дубровинский). Богданов возмущен. Не напечатать Горького?! Горького!!!
Богданов требует «третейского суда», говоря партийным языком, «тройки»… и проигрывает. Дубровинский – на стороне Ленина.
И вот Ленин, нимало не стесняясь, сообщает обо всем этом «другу»: «Когда я, прочитав и перечитав Вашу статью, сказал А. А-чу (Богданову. – П.Б.), что я против ее помещения, тот стал темнее тучи. У нас прямо нависла атмосфера раскола. Вчера мы собрали нашу редакционную тройку в специальное заседание для обсуждения вопроса».
Вот как получается. В расколе виноват Горький.
Богданов возмущен, Горький «изумлен». Получив и от Богданова письмо и уже понимая, что в родной партии цензура покруче царской будет, он отвечает Богданову: «Дорогой и уважаемый Александр Александрович! До Вашего письма получил я три листа, свирепо исписанных Ильичом и – был изумлен – до смерти! Ибо странно мне и, не скрою, смешно видеть себя причиной «драчки», как Ильич выражается».
Статья Горького не была напечатана в «Пролетарии»22. Ленин фактически перекрыл Горькому как идеологу выход в партийную печать.
«Разрушение личности» (1908 г.) не просто программная статья Горького этого времени, но и единственная его философская работа. И хотя в «Пролетарии» не было философского отдела и с первого же номера газета объявила, что будет держаться философского «нейтралитета» (на этом настоял опять-таки Ленин, понимая, что «махистов» в большевистской верхушке много, а он один), для Горького-то могло быть сделано исключение. Пусть и с редакционной оговоркой, пусть даже и с ленинской критикой в том же номере. Но так может думать нормальный журналист, а не руководитель сектантского издания. Для Ленина допущение Горького – как идеолога, а не писателя – в святая святых большевистской прессы было невозможно. Это нарушало баланс авторитетов, где главным идейным авторитетом мог быть только Ленин.
Горький пытался примирить «эмпириомониста» Богданова, «религиозного марксиста» Луначарского с Лениным, не понимая (или все-таки понимая?), что тем самым только раздражает Ильича. Примирение, объединение – это ведь идеологическая стратегия, а стратегия Ленина всегда была направлена на раскол. Горький-«примиренец», таким образом, вытеснял Ленина как идеолога раскола, и Ленин безошибочным сектантским чутьем почувствовал грозящую с этой стороны опасность.
Прямо устранить Горького из партии он, конечно, не мог. К тому же именно от Горького и через Горького шли в большевистскую кассу финансовые потоки. Каким бы ни был Ленин аскетом, но жизнь в Париже и Женеве была не дешевой. Как финансовый источник, как «разводящий» финансовые потоки (между прочим, в сотрудничестве с Богдановым) Горький вполне устраивал Ленина. Горький был посвящен в истории экспроприации на Кавказе, когда большевики грабили местных богачей. Цинизм, с которым его партийные товарищи получали деньги, видимо, не смущал Ленина. Вот только один пример финансовой махинации, в которой был замешан и Горький.
Семья Н.П.Шмита принадлежала к известной в России купеческой династии Морозовых (по материнской линии Н.П.Шмит приходился племянником Савве Тимофеевичу Морозову). Студент Московского университета, к 1905 году после ранней смерти матери и отца он стал, как старший в семье, опекуном сестер Екатерины и Елизаветы и распорядителем всего семейного состояния. Николай Шмит и его сестры с сочувствием относились к революционным событиям 1905—1907 годов. Через Л.Б.Красина и Горького ими были пожертвованы крупные суммы денег в пользу большевиков. При посредничестве Горького на деньги Шмита вооружались рабочие дружины. Одним из очагов декабрьского восстания в Москве стала мебельная фабрика на Пресне, принадлежавшая семье Шмитов. В начале 1906 года Николай Шмит был арестован. Ему предъявлялось обвинение в непосредственной причастности к революционным событиям. Но суд откладывался. После четырнадцатимесячного предварительного заключения Шмит был убит в тюрьме при загадочных обстоятельствах.
Незадолго до ареста Шмит устно высказал намерение передать свое состояние большевикам. Очевидцем этого устного заявления Шмита был Горький. Но юридически оформить передачу денег было невозможно. Сложность была в том, что младшая сестра и брат, в силу своей молодости, могли вступить во владение своим наследством только через опекуна. Тогда большевистский ЦК выработал особый план. Было решено организовать фиктивный брак младшей сестры, с тем чтобы через мужа как можно быстрее получить наследство Шмита. В разработке этого плана принимали участие Горький и М.Ф.Андреева.
Фиктивным мужем Елизаветы стал A.M.Игнатьев. При этом был фактический муж – А.Р.Таратута. Старшая сестра, Екатерина, была замужем за адвокатом Н.Андриканисом. Она стала оспаривать план большевиков по присвоению наследства ее брата.
Дело осложнялось еще и тем, что на наследство Шмита претендовали не только большевики, но и меньшевики, и группа «Вперед». В конце концов победили большевики, но история вышла грязная, а кроме того, она дошла во всех подробностях до Охранного отделения.
Итак, как финансист партии (а также как «великий писатель») Горький Ленина совершенно устраивал. Но как идеолог – да еще и партийный – Горький был для Ленина, повторяем, смертельно опасен. Если бы стратегией большевистской элиты стало объединение, в этой новой стратегии для Ленина просто не было бы места, ибо раскол был его главным делом.
Бесконечно посылая Горькому в письмах поклоны как «великому писателю» и даже соглашаясь с тем, что «художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии», бесконечно справляясь о здоровье Горького (живет на одном из самых дорогих европейских курортов – Капри) и целуя руку М.Ф. (Марии Федоровне Андреевой), Ленин только и делает, что отсекает, отсекает и отсекает Горького от своей партии.
С Богдановым и Луначарским был другой разговор. Эти не так опасны. Эти хотя и элита партии, но в сравнении с Лениным рядовые «вожди». С тем же Богдановым, которого Ленин нещадно бил за «эмпириокритицизм», он тем не менее солидаризировался по вопросу о бойкоте Думы. Луначарский ему просто «симпатичен». А вот Горький – это вождь фактический, настоящий! Ленин прекрасно понимал, какой это колоссальный авторитет и какая угроза его сектантскому вождизму. Поэтому он не давал Горькому ни малейшего шанса реально влиять на партийную идеологию. Финансы – ради бога! «Мать»? Слабовато. (Ленин не скрывает этого.) Но – «своевременная книга»! Да даже о новой повести Горького «Исповедь», напичканной размышлениями о Боге и являющейся манифестом «богостроительства», Ленин отзывается почти равнодушно23. Надумал было написать ему сердитое письмо, да раздумал. Или написал, но не послал. «Зря не послали!» – сердится Горький, не понимая (или понимая?), с кем он имеет дело.
С лидером секты. Матерым. Непререкаемым. Бескомпромиссным. Но только в том, что касается вопросов секты. Во всем остальном это «душа-человек»!
Горький злится ужасно. «Все вы склокисты!» – пишет он Ленину. «Меньшевики выиграют от драки!» Затем пытается урезонить Ленина простыми человеческими словами, опять-таки не понимая (или понимая, но поступая вопреки пониманию, может быть, назло Ленину?), что сектанта переубедить нельзя. С сектантом можно говорить как с нормальным человеком до тех пор, пока речь не зашла о делах сектантских. Об охоте, о рыбалке, о литературе, о мировой культуре… Но как только вы коснулись дел секты, тогда вы или сектант, подчиняющийся решению лидера, или вас отсекают прочь. Или… устраняют. Впрочем, в случае философских распрей Ленина с Горьким в этой крайней мере не было необходимости. Но уже в 1918 году готовящийся в лидеры большевистской секты Иосиф Сталин напишет в партийной печати в связи с «Несвоевременными мыслями», что Горького «смертельно потянуло в архив».
«Знаете что, дорогой человек, – с лукавой наивностью пишет Ленину Горький. – Приезжайте сюда, до поры, пока школа еще не кончилась, посмотрите на рабочих, поговорите с ними. Мало их. Да, но они стоят Вашего приезда. Отталкивать их – ошибка, более чем ошибка».
Несколько раз Ленин прямо отказывался приехать на Капри. Это было уже почти неприлично. И это при том, что Ленин прекрасно знал разницу между Горьким и «барином» Плехановым. Знал о горьковском такте, чуткости, о том, что его не только не станут унижать, но, напротив, Горький расстарается, чтобы Ленин на Капри чувствовал себя как можно комфортнее. Обычному человеку не понять этой нечеловеческой сектантской логики. Но она работала у Ленина безупречно. И она никогда его не подводила.
«Дорогой A.M.! Насчет приезда – это Вы напрасно. Ну, к чему я буду ругаться с Максимовым24, Луначарским и т.д. (Да зачем же непременно «ругаться»? – П.Б.) Сами же пишете: ершитесь промеж себя – и зовете ершиться на народе. Не модель. А насчет отталкиванья рабочих тоже напрасно. Вот коли примут наше приглашение и заедут к нам (в Париж, где была ленинская школа для рабочих. – П.Б.), — мы с ними покалякаем, повоюем за взгляды одной газетины, которую некие фракционеры ругают (давно я это от Лядова и др. слышал) скучнейшей, малограмотной, никому не нужной, в пролетариат и социализм не верящей.
Насчет нового раскола некругло у Вас выходит. С одной стороны, оба – нигилисты (и «славянские анархисты» – э, батенька, да неславянские европейцы во времена вроде нашего дрались, ругались и раскалывались во сто раз почище!), а с другой, раскол будет не менее глубок, чем у большевиков и меньшевиков. Ежели дело в «нигилизме» «ершей», в малограмотности и пр. кое-кого, не верящего в то, что он пишет, и т.п., – тогда, значит, не глубок раскол, и даже не раскол. А ежели глубже раскол, чем большевики и меньшевики, – значит, дело не в нигилизме и не в не верящих в свои писания писателях. Некругло выходит, ей-ей! Ошибаетесь Вы насчет теперешнего раскола и справедливо25 говорите: «людей понимаю, а дела их не понимаю».
Но что это за «газетина»? И что это за «фракционеры», которые называют ее «скучнейшей, малограмотной, никому не нужной, в пролетариат и социализм не верящей»?
Поразительно! Ленин настолько обозлен, что даже не стесняется признаться Горькому, что пользуется наушничеством «Лядова и др.», которые уже донесли ему мнение Горького о «Пролетарии». Он даже не спорит с Горьким. Выкрикивает какие-то слова, из которых можно понять одно: или я, или никто! или со мной, или ни с кем!
Встреча Горького с Лениным в присутствии Богданова на Капри все-таки состоялась. Горький Ленина «дожал». Да и неприлично уже было снова отказывать «великому писателю». Тем более писателю, который (об этом в следующей главе) написал целое произведение, где изобразил большевистских сектантов святыми. Который создал для большевиков новое «евангелие».
В очерке Горького о Ленине эта встреча описана в смягченных тонах. Но и здесь можно почувствовать леденящее дыхание сектантства.
«После Парижа мы встретились на Капри. Тут у меня осталось очень странное впечатление: как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях.
Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне:
– Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность примирения с махистами, хотя я вас предупреждал в письме: это – невозможно! Так уж вы не делайте никаких попыток.
По дороге на квартиру ко мне и там я пробовал объяснить ему, что он не совсем прав: у меня не было намерения примирять философские распри, кстати – не очень понятные мне. К тому же я, от юности, заражен недоверием ко всякой философии, а причиной этого недоверия служило и служит разноречие философии с моим личным, «субъективным» опытом: для меня мир только что начинался, «становился», а философия шлепала его по голове и совершенно неуместно, несвоевременно спрашивала:
«Куда идешь? Зачем идешь? Почему – думаешь?»
Некоторые же философы просто и строго командовали:
«Стой!»
Кроме того, я уже знал, что философия, как женщина, может быть очень некрасивой, даже уродливой, но одета настолько ловко и убедительно, что ее можно принять за красавицу. Это рассмешило Владимира Ильича.
– Ну, это – юмористика, – сказал он. – А что мир только начинается, становится – хорошо! Над этим вы подумайте серьезно, отсюда вы придете, куда вам давно следует прийти.
Затем я сказал ему, что А.А.Богданов, А.В.Луначарский, В.А.Базаров – в моих глазах крупные люди, отлично, всесторонне образованные, в партии я не встречал равных им.
– Допустим. Ну, и что же отсюда следует?
– В конце концов, я считаю их людьми одной цели, а единство цели, понятое и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философические противоречия…
– Значит – все-таки надежда на примирение жива? Это – зря, – сказал он. – Гоните ее прочь и как можно дальше, дружески советую вам! Плеханов тоже, по-вашему, человек одной цели, а вот я – между нами – думаю, что он – совсем другой цели, хотя и материалист, а не метафизик.
Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал, как-то по-детски. Замечательно: даже и это детское уныние, также как его удивительный смех, – не нарушали целостной слитности его характера.
Был на Капри другой Ленин – прекрасный товарищ, веселый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям.
Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина и немало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех – «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться и детской наивностью «простых сердец».
Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нем:
– Так смеяться может только честный человек».
В письмах к Богданову Горький признавался, что он любит Ленина. А в очерке о Ленине утверждает, что Богданов в Ленина был просто «влюблен». Между тем, вот образчик разговора Ленина с Богдановым:
«– Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит – ясно излагает», я думаю, что лучше этого он ничего не сказал. Вы, товарищ Богданов, излагаете неясно. Вы мне объясните в двух-трех фразах, что дает рабочему классу ваша «подстановка» и почему махизм – революционнее марксизма?
Богданов пробовал объяснять, но он говорил действительно неясно и многословно.
– Бросьте,– советовал Владимир Ильич. – Кто-то, кажется – Жорес, сказал: «Лучше говорить правду, чем быть министром», я бы прибавил: и махистом».
Богданов говорил «многословно», потому что Богданов, в отличие от Ленина, был философом. Он был автором трехтомного труда «Эмпириомонизм», нескольких других книг по философии и множества статей. Горький, эрудиция которого многих поражала, был восхищен эрудицией Богданова.
Ленин ничего не говорит от себя, но при этом рубит фразы так, словно он единственный обладатель абсолютной истины. Таковым он себя и считал, и этой истиной был марксизм. Богданов был «ищущим» материалистом. Марксизм не был для него догмой, Богданов искал новые пути в материалистической философии. И вот это сектанта Ленина злило в Богданове. Потому что если кто-то начинает «искать», вся пирамида секты может рухнуть.
Так, может, Горький лгал, когда писал о любви к Ленину, своей и Богданова? Думается, нет. Настоящий сектантский вождь тем и отличается, что умеет влюблять в себя людей. Чем? А вот своей «цельностью», своим «аскетизмом», своей беспредельной преданностью секте. Наконец, особенным «магнетизмом», о котором не случайно пишет Горький. Думается, Ленин завораживал Горького именно всем этим, хотя его сектантство он распознал мгновенно.
Горький не остался в долгу у Ленина. Книга «Материализм и эмпириокритицизм», предложенная издательству «Знание», по настоятельному письму Горького к Пятницкому была отвергнута так же, как Ленин отверг «Разрушение личности». Книга целиком была посвящена критике «махизма», критике Богданова отводилась отдельная глава. И хотя имя самого Горького в ней ни разу не было упомянуто, цель книги была понятна.
В этот раз Горький не стал поступать как «рыцарь» (что было ему свойственно) и, даже не прочитав рукописи книги Ленина, написал Пятницкому:
«…Относительно издания книги Ленина: я против этого, потому что знаю автора. Это великая умница, чудесный человек, но он боец, и рыцарский поступок его насмешит. Издай «Знание» эту его книгу, он скажет: дурачки, – и дурачками этими будут Богданов, я, Базаров, Луначарский».
Слово «боец» следовало бы заменить на слово «сектант», ибо настоящий боец не смеется над рыцарским поступком.
Но гораздо важнее часть письма, где Горький объясняет, почему его философские симпатии на стороне Богданова, а не Ленина. «…Спор, разгоревшийся между Лениным – Плехановым, с одной стороны, Богдановым—Базаровым и К0, с другой,– очень важен и глубок. Двое первых, расходясь в вопросах тактики, оба веруют и проповедуют исторический фатализм, противная сторона – исповедует философию активности. Для меня – ясно, на чьей стороне больше правды…»
«Материализм и эмпириокритицизм» (с трудом, но Ленин все-таки издал свою книгу) был направлен против корня мировоззрения Горького – Человека. «Всё – в человеке, всё – для человека». А у Ленина? «Быть материалистом значит признавать объективную истину, открываемую нам органами чувств. Признавать объективную, т.е. не зависящую от человека и от человечества, истину (курсив мой. – П.Б.) значит так или иначе признавать абсолютную истину». Как это – «не зависящую от человека»?! Ведь именно это Горький и отрицал всю жизнь! Человек способен на всё. Он может даже «построить» Бога.
Ведь логика «богостроительства», если не вдаваться в философские детали, в целом проста. «Бог умер» (Ницше). Но Бога необходимо возродить, построить, опираясь на коллективную волю и коллективный разум человечества. Надо внести в окружающий мир с его бессмысленностью новый, человеческий смысл. Надо заполнить страшный «провал», где отныне, со «смертью Бога», образовалась «пустота», или, выражаясь экзистенциалистским языком, «Ничто». Поэтому Бог – это партия («Мать») или народ («Исповедь»), но в любом случае это человеческий коллектив, который, не признает «абсолютной истины».
А Ленин? «Для Богданова (как и для всех махистов) признание относительности наших знаний исключает самомалейшее допущение абсолютной истины. Для Энгельса из относительных истин складывается абсолютная истина. Богданов – релятивист. Энгельс – диалектик».
Энгельс, может быть, и «диалектик», но эта диалектика органически была противна мироощущению Горького. Именно через отрицание мира как суммы ветхих «относительных истин» стремится Горький к новой абсолютной истине, но созданной уже Человеком. Он еретик. А сектант Ленин предлагает ему встать «по стойке смирно» перед Энгельсом.
Книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» возмутила Горького еще и по тону своему. Это был не философский спор, а выволочка лидера фракции «зарвавшимся» фракционерам. Даже непонятно было, зачем Ленин столько читал, готовясь к написанию книги, зачем привлекал столько авторитетных философских имен. Ведь цель книги была сразу обозначена в подзаголовке – «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии». Если «реакционной», то о чем спорить?
В предисловии к первому изданию было сказано однозначно: «Целый ряд писателей, желающих быть марксистами, предприняли у нас в текущем году настоящий поход против философии марксизма. Сюда относятся прежде всего «Очерки по (? Надо было сказать: против) философии марксизма», СПб., 1908, сборник статей Базарова, Богданова, Луначарского, Бермана, Гельфонда, Юшкевича, Суворова; затем книги: Юшкевича– «Материализм и критический реализм», Бермана– «Диалектика в свете современной теории познания», Валентинова – «Философские построения марксизма».
Что касается меня, то я тоже – «ищущий» в философии. Именно: в настоящих заметках я поставил себе задачей разыскать, на чем свихнулись люди, преподносящие под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путаное и реакционное».
Это стиль не философской полемики, а партийной выволочки.
Получив книгу Ленина, изданную в Москве в 1909 году издательством «Зерно», Горький был в ярости.
«Получив книгу Ленина, – писал он Богданову, – начал читать и – с тоской бросил ее к черту. Что за нахальство! Не говоря о том, что даже мне, профану, его философические экскурсии напоминают, как ни странно – Шарапова и Ярморкина26, с их изумительным знанием всего на свете, – наиболее тяжкое впечатление производит тон книги – хулиганский тон!
И так, таким голосом говорят с пролетариатом, и так воспитывают людей «нового типа», «творцов новой культуры». Когда заявление «я марксист!» звучит как «я – Рюрикович!» – не верю я в социализм марксиста, не верю! И слышу в этом крике о правоверии своем – ноты того же отчаяния погибели, кои столь громко в «Вехах»27 и подобных надгробных рыданиях.
Все эти люди, взывающие городу и миру: «я марксист», «я пролетарий», – немедля вслед за сим садящиеся на головы ближних, харкая им в лицо, – противны мне, как всякие баре; каждый из них является для меня «мизантропом, развлекающим свою фантазию», как их поименовал Лесков. Человек – дрянь, если в нем не бьется живое сознание связи своей с людьми, если он готов пожертвовать товарищеским чувством – самолюбию своему.
Ленин в книге своей – таков. Его спор «об истине» ведется не ради торжества ее, а лишь для того, чтоб доказать: «я марксист! Самый лучший марксист это я!»
Как хороший практик – он ужаснейший консерватор. «Истина незыблема» – это для всех практиков необходимое положение, и если им сказать, что, мол, относительна всякая истина, – они взбесятся, ибо не могут не чувствовать колебание почвы под ногами. Но беситься можно и добросовестно – Ленину это не удалось. В его книге – разъяренный публицист, а философа – нет: он стоит передо мной как резко очерченный индивидуалист, охраняющий прежде всего те привычки мыслить, кои наладили его «я» известным образом, и – теперь будет и уже, и хуже. Вообще – бесчисленное количество грустных мыслей вызывает его работа – неряшливая, неумелая, бесталанная.
Рекомендую А<лександру> Алекс<андровичу> (Богданову. – П.Б.) эпиграф к статье по поводу книги Ленина:
«– Что это он как говорит?
– Библии начитался.
– Ишь его, дурака, угораздило».
(«Однодум» Лескова)»
К этой характеристике почти нечего добавить, кроме того, что нужно все-таки сделать поправку на адресата. Письмо писалось для Богданова, против которого была направлена книга Ленина.
Эти слова – приговор еретика, вынесенный сектанту. Это взрыв возмущения человека «ищущего» против догматика, рыцаря истины против насильника ее. Но поразительно! – это не мешало Горькому любить Ленина.
«Люблю его – глубоко, искренно, а не понимаю, почему взбесился человек, какие ереси (курсив мой. – П.Б.) узрел?» – писал он Богданову. И ему же: «Мне кажется, что Ленин впадает в декаданс и влечет за собой не только разных юнцов, но и людей серьезных». И ему же: «Товарищ Л<енин> уважает кулак – мы, осенью, получим возможность поднести к его носу кулачище, невиданный им. Он, в конце концов, слишком партийный человек для того, чтобы не понять, какая скверная роль впереди у него».
Это была уже прямая угроза, которая говорит о том, что Ленин не напрасно боялся Горького. В том же письме Богданову Горький заявляет: «Наша задача – философская и психическая реорганизация партии, мы, как я это вижу, в силах задачу сию выполнить – к выполнению ее и должна быть направлена вся масса нашей энергии». Вот так!
В истории конфликта Ленин – Горький – Богданов политическую победу одержал Ленин. Каприйская рабочая школа раскололась и закрылась. С 1910 года личные отношения Горького с Богдановым (Малиновским) были порваны по причинам не вполне понятным.
С Лениным Горький поддерживал отношения и вел переписку вплоть до своего отъезда из России в 1921 году. Но это не было дружбой. Скорее союзом крупных исторических фигур, коими они себя, конечно, осознавали. Любил ли Ленин Горького, сказать трудно, если не считать любовью банальные письменные заботы о здоровье и советы лечиться у лучших швейцарских врачей («Пробовать на себе изобретения большевика – это ужасно!»). Но Горький Ленина любил. «С гневом», как признался Горький Ромену Роллану, но любил. Так же, как любил Толстого, Шаляпина и других русских людей. С изумлением каким-то любил, словно не понимая: откуда они берутся такие?
Евангелие от Максима28
Повесть «Мать» – одно из самых слабых в художественном отношении и самых загадочных с точки зрения творческой судьбы произведений Горького. Таким образом, сотворив из этой повести своего рода культовую для «социалистического реализма» вещь, коммунистические идеологи совершили двойную ошибку. И в художественном и в смысловом планах «Мать» является произведением невнятным даже для взрослого читателя, не говоря о школьниках, которым навязывалась эта повесть в советских учебных программах.
Сам Горький прекрасно знал цену этой повести и не слишком высоко ее ставил. Тем не менее, если «вынуть» «Мать» из творчества Горького, обнажится серьезная пустота и многое в судьбе Горького станет непонятным. Дело в том, что «Мать» – это единственная (и провалившаяся) попытка написать новое евангелие, евангелие для пролетариата.
Дореволюционная критика догадалась об этом сразу, да и мудрено было не догадаться. Ведь «Мать» писалась Горьким в расчете на пусть и образованных, но все же простых рабочих. Для них, крещенных, воспитанных в православной вере, с детства ходивших в местную церковь в какой-нибудь из рабочих слобод и уже потому знавших евангельский текст, была специально создана эта повесть. Для советских школьников, церковь не посещавших и евангелия не читавших (за это строжайше наказывали юных пионеров и комсомольцев, а еще больше могли наказать их родителей), «Мать» превращалась в своего рода tabula rasa, «чистый лист», на котором советская идеология выводила какие-то собственные письмена, не имевшие к смыслу этой вещи почти никакого отношения.
Только «погрузив» «Мать» в евангельский контекст, можно понять, зачем Павел Власов однажды приносит в дом картину с христианским сюжетом.
«Однажды он принес и повесил на стенку картину – трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро.
– Это воскресший Христос идет в Эммаус! – объяснил Павел.
Матери понравилась картина, но она подумала: «Христа почитаешь, а в церковь не ходишь…»
Кто эти трое людей? Дореволюционный читатель не нуждался в дополнительных объяснениях. Сюжет «Христос на пути в Эммаус» использовался многими художниками и был известен всякому образованному рабочему. Кроме Христа на картине двое его учеников, один из них – по имени Клеопа. Христос уже распят, и жители Иерусалима уже знают о чудесном исчезновении Его тела из гроба и о явлении возле гроба Ангела, который возвестил о Его Воскресении. Явившись своим ученикам в виде простого путника, Христос сделал так, чтобы они не узнали Его. Он стал расспрашивать их о случившемся в Иерусалиме. Ученики удивлены, ибо об исчезновении тела Христа говорит весь город. Они рассказывают Иисусу его собственную историю. Из их рассказа Христос понимает, что даже ученики Его так и не верят до конца в Божественность Его происхождения и в чудо Воскресения.
«Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании».
В Эммаусе, селении, находившемся в шестидесяти стадиях (древняя мера длины. – П.Б.) от Иерусалима, Христос остался с учениками на ночлег. Там, преломив хлеб и благословив учеников, Он открылся им и тотчас стал невидимым. После этого ученики отправились к одиннадцати апостолам и рассказали им о чуде. Когда они рассказывали это, Христос вновь явился им, но они, «смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа».
«Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня».
Поев с учениками печеной рыбы и сотового меда, Христос снова напомнил им тайну Своего происхождения и объяснил смысл всей истории человеческой. После этого они отправились в Вифанию, где Христос стал отдаляться от учеников и возноситься на небо.
Так рассказывает об «эммаусском» сюжете евангелист Лука.
Для «Матери» Горького этот сюжет не просто один из главных. Это ключ, без которого повесть «не открывается».
Павел Власов приносит картину именно в то время, когда началось его духовное перерождение из простого рабочего в революционера. Но это же, с точки зрения Горького, означало и перерождение из человека неверовавшего в верующего. Только религией Павла становится «новое христианство» – социализм. Это христианство истинное, не искаженное церковной догматикой и не поставленное с помощью церкви на службу «хозяевам жизни».
С матерью Павла, главной героиней повести Пелагеей Ниловной, происходит перерождение иного рода. В отличие от сына, отшатнувшегося от веры и переставшего ходить в церковь, Ниловна глубоко верующий и церковный человек. На протяжении повести Ниловна «прозревает». Но меняет она не веру, а взгляд на христианство. Фактически она как бы переходит из одной «конфессии» в другую, из православия в «новое христианство», или социализм. За это время сын ее становится не просто коммунистом, но партийным лидером, одним из «апостолов» новой веры. Недаром имя у Власова апостольское – Павел.
Апостол Павел был наследственный римский гражданин, который зарабатывал изготовлением палаток. (Его настоящее имя – Савл, данное в честь царя Саула.) Он был воспитан в строгой фарисейской традиции, даже участвовал в убийстве диакона Стефана, забитого камнями. Направляясь в Дамаск, чтобы преследовать бежавших туда христиан, Павел имел видение света, павшего с небес и ослепившего его. Он услышал голос Христа, который укорял его: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» После этого началось духовное перерождение Павла. Он принял христианство и стал великим христианским миссионером среди язычников, за что и удостоился (хотя не был личным учеником Христа) первоапостольского звания сразу после Петра и вместе с ним. Павел знаменит своими посланиями римлянам, коринфянам, галатам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам, фессалоникийцам, евреям, которые входят в Евангелие как канонические тексты наряду с Евангелиями от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.
А чем занимается Павел Власов с товарищами? Сочинением, изготовлением и распространением революционных листовок. Это тоже послания, но уже от новых духовных лидеров, перехвативших апостольскую инициативу и решивших вернуть христианству его первозданный облик.
Когда Пелагея Ниловна понимает это, все для нее становится на свои места. Чтобы быть вместе с «детьми» (так она называет Павла и его товарищей), ей не только не нужно отрекаться от Христа, но напротив – необходимо Его заново обрести, но уже вне церковных стен. В конце романа Пелагея арестована за распространение листовок. В это время ее сын находится в ссылке. Одно из двух: или Пелагея станет «прихожанкой» новой «церкви», которую вместе с другими сильными духовными лидерами создал ее сын (называется она «коммунистическая партия», еще точнее – РСДРП), или (что более вероятно ввиду ее преклонных лет) она останется сочувствующей «детям» и посильно помогающей им в распространении новой веры. Павел после ссылки (или побега из нее), скорее всего, из простого миссионера выбьется в «вожди». Мать будет его поддержкой. Кстати, мать Ленина до конца своих дней поддерживала Володю материально, немедленно посылая ему деньги, когда он нуждался.
Но гадать о том, что случится после ареста Ниловны, можно бесконечно. Горький задумывал повесть «Сын» как продолжение «Матери», но не написал ее. Это говорит о том, что «власовский» сюжет больше не давал пищи его художественному вдохновению. Прототипом Павла Власова был сормовский рабочий-революционер Петр Заломов, один из главных организаторов первомайской демонстрации в Арзамасе 1902 года. Предшественник Павла Власова в творчестве Горького – Нил из пьесы «Мещане», характер сильный, волевой, но малоинтересный. Продолжением «власовского» сюжета стал Петр Кутузов в «Жизни Клима Самгина» – уверенный в себе большевик, знающий ответы на все вопросы и потому особенно ненавистный Климу. «Эхом» Власова можно считать и Якова Лаптева, крестника Егора Булычова, в поздней пьесе Горького «Егор Булычов и другие». В этой гениальной пьесе, своего рода лирической исповеди Горького, Лаптев фигура все-таки «проходная», в том числе и в буквальном смысле: он лишь временами «проходит» через булычовский дом, а свою бурную революционную деятельность развивает где-то в другом месте, о котором Горький лишь глухо намекает. Почему? Пьеса замышлялась в 1930 году, была написана в 1931-м и предназначена для постановки в театре имени Евг.Вахтангова. Никаких цензурных препятствий для того, чтобы изобразить революционную деятельность Лаптева или, по крайней мере, дать ему мощно, «во весь голос» высказаться в пьесе, для Горького не существовало.
Ответ на этот вопрос мы найдем в пьесе «Достигаев и другие», написанной в 1932 году как своеобразное продолжение «Булычова». «Достигаев», пожалуй, самая слабая вещь Горького, созданная по слишком очевидному заказу из Кремля. Это произведение о том, как неустрашимый гэпэушник Лаптев арестовывает «осиное гнездо» «вредителей», возникшее в доме Булычова после его смерти. Через дом своего крестного Лаптев в этот раз не «проходит». Он входит в него как один из хозяев новой жизни, которым, увы, решил творчески «поклониться» Горький. К чести Горького, это его единственное законченное художественное творение в данной области.
Наиболее мощной попыткой «склонить» Горького-художника, а не только публициста, стало недвусмысленное предложение Сталина написать о нем книгу или хотя бы очерк, вроде воспоминаний о Ленине. И Горький даже взялся было за эту работу в конце 1931 года, стал изучать специально подготовленные для него материалы о вожде. Но дело ограничилось кратким описанием истории Грузии, на этом чернила Горького, так сказать, «иссякли». На дальнейшие попытки приставленных к Горькому литературных и издательских чиновников уговорить писателя взяться за книгу о Сталине Горький делал «глухое ухо». Эту «миссию» выполнил французский писатель-коммунист Анри Барбюс, создавший о Сталине оглушительно бездарную книгу с очевидными подтасовками фактов. Оказывается, Сталин не только «исправлял» все ошибки Троцкого в гражданской войне, но и октябрьский переворот был его заслугой! В книге угодливо описывался аскетизм Сталина, жившего в маленькой квартире в Кремле, и, конечно, не было ни слова о том, чего Анри Барбюс не мог не знать: какие раблезианские пиры закатывали для Сталина и его окружения на даче Горького в Горках.
Горький-художник «дрогнул», но выстоял. Тем не менее эхо «Матери» проносится по всей его последующей жизни. Нельзя, хотя бы раз заставив свое перо служить сектантским целям, затем до конца «отмыть» его. Это возможно только через глубокое раскаяние, а Горький каяться не умел да и не желал. Таков был тип его духовной личности.
Для нас совершенно очевидно, что на протяжении жизни Горький последовательно разочаровывался во «власовском» сюжете. Иного и быть не могло. Горький был подлинный художник и не мог не чувствовать собственной фальши, как Шаляпин не мог бы не услышать фальшивую ноту в своем голосе. «Мать» была первым опытом партийного заказа, который в 1906—1907 годах, когда писалась эта вещь, отчасти совпадал с мироощущением самого Горького. Он захотел (и заставил себя) уверовать в РСДРП и конкретно в большевиков как в «апостолов» новой веры и созидателей новой церкви. Эта новая церковь должна была проповедовать не смирение перед жизнью, но активное вторжение в нее. И все это для конечной победы «коллективного разума».
В повести «Исповедь», написанной после «Матери» и без всякого внешнего заказа, Горький показывает, на какие чудеса способен «коллектив». Незримая энергия, исходящая из толпы богомольцев, излечивает обезноженную девушку. Странствуя по Руси, Пешков мог наблюдать подобные случаи в действительности, хотя бы и в Рыжовском монастыре, где он встретился с Иоанном Кронштадтским. Но если толпа способна на такие чудеса, то какие волшебства может творить организованное и сознающее свою мощь человечество? Вот примерный абрис новой веры Горького, его «богостроительства», зачатки которого мы найдем в ранней пьесе «На дне», где Сатин обожествляет «коллективного» Человека.
Однако насколько искренен был Горький в собственной вере? Как художник, он чувствовал, что «Мать» не удалась, а в «Исповеди» самое слабое место – это описание рабочей слободки, где обитают рабочие-«богостроители».
Горький уже знал, что «найти» Бога нельзя. Но можно ли Его «построить»? Скорее всего, внутренне он сомневался в этом, как сомневался во всем в этом мире.
И тогда Горький решился на трюк с «иллюзией».
Это была самая страшная и роковая ошибка на его духовном пути!
- Господа! Если к правде святой
- Мир дороги найти не сумеет,
- Честь безумцу, который навеет
- Человечеству сон золотой!
Эти стихи Бомарше в переводе В.С.Курочкина, шатаясь и держась руками за косяки, декламирует пьяный Актер в «На дне» незадолго до того, как повеситься. По сути, это и стало «самоубийственной» религией Горького, а первым сигналом этого была повесть «Мать». Изображая революционеров «апостолами», то есть святыми, Горький лукавил и знал об этом. Но может быть… как-нибудь… и выйдет так, что рабочие, прочитав евангелие от Максима, в самом деле станут новыми святыми и подвижниками? Ведь вера чудеса творит!
После Октябрьской революции эти «святые» по первому приказу Зиновьева явятся в его дом с обыском. И если б не Ленин, который своей гвардии не сдавал, они, может быть, «шлепнули» б его. Вот и вся иллюзия.
Разумеется, «Мать» по содержанию шире внешнего, да и внутреннего заказа, который выполнял Горький. Есть в этой повести художественно сильные места, в основном связанные с действительно непростым образом Пелагеи Ниловны. В описании рабочей слободки, быта рабочих сегодняшний внимательный читатель обнаружит отнюдь не только «свинцовые мерзости», но и, например, то, что поведение рабочих-революционеров не одобряют наиболее пожилые и квалифицированные рабочие фабрики. Что вся «революционность» Павла Власова не имела бы смысла, если бы на фабрике была возможность создания профсоюза, который защищал бы экономические интересы рабочих…
Вообще, с точки зрения «правды жизни» «Мать» достаточно емкое и интересное произведение. Но нельзя забывать, что в судьбе Горького именно «Мать» сыграла роковую роль, явив собой первый образец партийной (читай: сектантской) художественной литературы. Будущих разрушителей России эта повесть изображала «апостолами», святыми, на долгие годы «канонизируя» их. Это было первое несомненное духовное поражение Горького, от которого он не смог оправиться до конца жизни. Коготок увяз – всей птичке пропасть.
Наконец вспомним, что «проповедовал» новый «апостол» Павел Власов и чему в течение десятилетий учили школьников.
Вот его знаменитая речь на суде.
«– Мы – социалисты. Это значит, что мы враги частной собственности, которая разъединяет людей…»
Допустим, это позиция социального идеалиста, хотя – как можно быть врагом чужой собственности?
Но дальше Павел говорит:
«…мы хотим теперь иметь столько свободы, чтобы она дала нам возможность со временем завоевать всю власть».
Какой же это идеализм? Это слова политика.
Вспомним самое начало речи Павла:
«– Человек партии, я признаю только суд моей партии…»
Нет другого суда, ни юридического, ни человеческого, ни божеского – кроме суда членов своей секты!
«Мы стоим против общества, интересы которого вам приказано защищать, как непримиримые враги его и ваши, и примирение между нами невозможно до поры, пока мы не победим».
И за все это Павел Власов получил высылку «на поселение», откуда в любой момент мог бы убежать.
И последнее. Наброски к неосуществленной повести «Сын», рассказы «Романтик» и «Мордовка», написанные в 1910 году, оставляют впечатление безнадежного поражения «власовского» сюжета. И в той и в другой вещи фигурируют молодые рабочие-революционеры (в «Мордовке» даже имя героя – Павел), но акцент смещен в область неразделенной либо неудавшейся любви.
Короче говоря: «пролетарского писателя» из Горького не получилось. То, что впоследствии его назвали «великим пролетарским писателем», было подменой, но подменой, которую он подготовил сам. Вакантное место истинно пролетарского писателя мог занять только один человек – Андрей Платонов, который называл рабочий класс своей духовной родиной. Но именно его-то Сталин решительно вычеркнул из списка советских писателей. В творчестве Горького рабочая тема занимает мало места и не породила ничего выдающегося в художественном отношении. Гораздо ярче в творчестве Горького звучит тема, с одной стороны, босячества, а с другой – купечества. Такова была парадоксальная природа горьковского таланта.
ДЕНЬ ВОСЬМОЙ: В ОГНЕ РЕВОЛЮЦИИ
Лучше гореть в огне революции, чем гнить в помойной яме монархии.
Горький. «Революция и культура»
Революция была ему тяжела. Убытки революции приводили его в ужас.
Виктор Шкловский. «Удачи и поражения Максима Горького»
Крушение гуманизма
19 января 1918 года в газете «Знамя труда» была опубликована статья Александра Блока «Интеллигенция и революция». В ней поэт романтически приветствовал революцию (после октябрьского большевистского переворота) и обвинял интеллигенцию в трусости и непоследовательности, в ее нежелании разделить ответственность за кровь.
Статья вызвала бурю возмущения в стане недавних соратников Блока. Особенно возмущалась Зинаида Гиппиус. В лучшем случае Блока жалели как «овцу заблудшую».
В 1921 году, когда Блок умирал от болезней, вызванных недоеданием, а также состоянием глубочайшей депрессии, большевики во главе с Лениным «отблагодарили» поэта тем, что на своем заседании отказались выпустить его в Финляндию на лечение, хотя на этом многократно настаивал Горький, а накануне заседания о выезде Блока непосредственно с Лениным разговаривал нарком просвещения Луначарский. Зато разрешили выехать Федору Сологубу, Константину Бальмонту и Михаилу Арцыбашеву. Затем Блока «отпустили», но стали затягивать с разрешением на выезд его жене Л.Д.Менделеевой, хотя понятно было, что ехать один Блок не в состоянии. Пока «рассматривали вопрос», Блок скончался.
Казалось бы, обстоятельства смерти Блока, которого Ахматова назвала «наше солнце, в муке погасшее», несовместимы с его взглядами на революцию 1917—1918 годов (статья «Интеллигенция и революция», поэмы «Скифы» и «Двенадцать»). Напомним, что в конце «Двенадцати» во главе революционного патруля Блок поставил Христа «в белом венчике из роз».
В контексте блоковской статьи «Интеллигенция и революция» Горький конечно же «интеллигент». Но выбор Горького был опять-таки «еретический». В то время, когда к коммунистам переметывались писатели из лагеря прежних врагов, от крупного поэта-символиста Брюсова до незначительного беллетриста Ясинского, который до революции печатался в суворинском «Новом времени» (одно это участие стоило «нововременцу» М.О.Меньшикову жизни), Горький вдруг рассорился со своими партийными товарищами, публично назвал октябрьский переворот «авантюрой», которая «погубит Россию», и напечатал в газете «Новая жизнь» цикл обличительных статей против власти.
После 1917 года все партийцы проходили перерегистрацию. Горький не стал ее проходить, то есть фактически вышел из партии и затем в нее уже никогда не возвращался. Его отношения с «дружищем» Лениным, которого Горький атаковал просьбами-требованиями, портились день ото дня, потому что Ленин относился к интеллигенции в лучшем случае равнодушно. Например, он предлагал разрешить петроградским профессорам иметь лишние комнаты для кабинета или лаборатории, мотивируя это тем, что Питер стал город «архипустой». (Правильно: из «буржуйских» квартир голодного Петрограда бежали все, кто мог: за границу, во внутренние, более сытые губернии.) В худшем случае Ленин считал мозг нации просто «г…»(о чем, не смущаясь, написал Горькому в связи с В.Г.Короленко) и лично распоряжался использовать интеллигенцию в виде заложников, «живого щита», например, во время наступления на Петроград Юденича. Председателем Петросовета до 1926 года (когда пришел С.М.Киров) был ленинский ставленник Григорий Зиновьев, человек (и Ленин это знал) редкой трусости, лживости и двуличности.
Расстрелянный по распоряжению Зиновьева поэт Николай Гумилев встретил смерть с такой спокойной улыбкой, что палачи его были потрясены. Когда в 1937 году Зиновьева вели на расстрел, он, по воспоминаниям заместителя Ягоды Ежова, не мог идти сам, пришлось нести его на носилках, при этом он кричал и умолял «позвонить товарищу Сталину».
Но, как утверждал Ленин, в апреле 17-го, когда он вернулся в Россию из эмиграции, у него было только два верных соратника – «Надя (Крупская. – П.Б.) и Зиновьев». Поэтому он сделал преданного Зиновьева фактическим хозяином Северной области, отдав в его распоряжение и «град Петров», и миллионы жизней, а также «дружища» Горького, которого Зиновьев в 1921 году начал методично травить, а до этого в его квартире устроил обыск.
Перечитывая статью Блока «Интеллигенция и революция» уже сегодня, после ознакомления с письмами Короленко к Луначарскому, «Несвоевременными мыслями» Горького, бунинскими «Окаянными днями» и многими другими публицистическими и художественными произведениями о революции тем не менее вновь убеждаешься: это великая статья! В ней нет и тени фальши, нет ни одной попытки спрятаться от истины или солгать. Но, говоря об этой статье, нужно помнить, насколько «интимно» переживал Блок революцию, как своеобразен был его взгляд на тогдашние события не только в России, но и во всем мире. Статьи Блока, как и поэмы этого времени, нужно рассматривать как «лирические величины», как страстный человеческий документ бесчеловечной эпохи.
Дело в том, что Блок взял на себя ответственность интеллигенции за революцию. А за революцию интеллигенция, конечно, была ответственна. Но не хотела этого признать, как не признал этого Горький.
В отличие от Горького, раз и навсегда отказавшегося от фаталистического взгляда на историю, Блок был фаталистом и смотрел на революцию как на процесс почти природный, подобный вихрю или землетрясению. К ней нелепо приступать с требованиями морали. Она «легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных», но это все – «частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот все равно всегда – о великом».
Взгляд Горького на революцию был более конкретен. Он видел не просто поток, но гибнущих художников, ученых, поэтов (и Блока) и на этом фоне – рыхлого, похожего на истеричную бабу Зиновьева, который раскатывал по Петрограду в автомобиле царя.
Кроме того, Горький мог публично не признавать, но не мог не чувствовать внутренней личной вины за Октябрь 17-го. Ведь большевиков к власти привел отчасти и он.
В логике рассуждений Блока о революции, казалось бы, был один шаг до этики коммунистов: «лес рубят – щепки летят», «цель оправдывает средства». Но Блок, говоря о «стихийном» характере революции, предлагал видеть ее грядущую цель: «Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью».
А это уже не «фатализм». Это уже по-горьковски. Как Горький, Блок верил, что старое целиком отомрет и на смену ему явится не только новое общество, но и «новый человек». Но в то же самое верил и Горький. В реальности все это предопределяло грандиозный эксперимент над человеком как Божьим творением, оправдывало операцию (хирургическую, страшную) по отсекновению «старой», «ветхой» морали.
Вот выразительный пример.
В № 3 журнала «Октябрь» за 1930 год был напечатан очерк Михаила Пришвина «Девятая ель», написанный под впечатлением его поездки на территорию бывшего Гефсиманского скита недалеко от Троице-Сергиевой лавры. Кстати, именно в Гефсиманском скиту похоронены русские философы Константин Леонтьев и Василий Розанов. С конца двадцатых годов там размещался «дом инвалидов труда с примыкающим к нему исправительным домом имени Каляева»29. «Оба эти учреждения революционной силой внедрились в святая святых старой России…» – писал Пришвин.
Цель заведения объяснил Пришвину заведующий: «Сила коллектива в будущем затянет всех в работу (в том числе и инвалидов труда? – П.Б.), нищие и всякого рода бродяги исчезнут с лица земли».
Судя по описанию Пришвина, «коллектив» этого исправительного учреждения был весьма пестрый: нищие, бродяги, калеки, умственно и физически неполноценные люди, проститутки, беспризорные, воры. Все они вместе трудились и «перековывались» в «людей будущего».
Если вспомнить, что монастыри на Руси издавна служили прибежищем для нищих, сирых, убогих, станет понятна зловещая ирония истории. Всякая попытка радикально изменить то, что создавалось веками, оборачивается не созданием нового, но дурной пародией на старое. В данном случае это была пародия на Святую Русь, в которую так отчаянно хотелось «пальнуть пулей» блоковским красногвардейцам из «Двенадцати».
Но было бы неверно говорить, что Блок этого не понимал. Понимал. В наброске письма-отклика на стихотворение Владимира Маяковского 1918 года «Радоваться рано», где тот призывал к разрушению дворцов и прочего «старья», Блок верно заметил, что «разрушение так же старо, как строительство, и так же традиционно, как оно». «Разрушая постылое, мы так же скучаем и зеваем, как тогда, когда смотрели на его постройку. Зуб истории гораздо ядовитее, чем Вы думаете, проклятия времени не избыть».
Все же Блока мучила скорее невозможность разрушения старого (это «проклятие времени»), чем попытки его разрушения. Здесь он был в гораздо большей степени «революционер», чем Горький, который бросился как раз спасать «старье» от разрушения и разграбления.
Блок призывал «всем сердцем» слушать «музыку революции», но это было, как правильно заметил Горький, похоже на заклинание сил тьмы. В конце концов сам Блок признал, что «музыки революции» он не слышит. Да и трудно было расслышать «музыку» за криками казнимых людей, за стонами умирающих от голода детей, а с другой стороны – за фырканьем зиновьевского автомобиля.
«Я спрашивал у него, – вспоминал Горький, – почему он не пишет стихов. Он постоянно отвечал одно и то же:
– Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?»
Нет, Горький слышал звуки. Но это была не музыка, а постоянные, порой назойливые просьбы о дополнительных пайках, жалобы на бывших партийных товарищей Горького и мольбы о спасении жизни друзей и родственников, попадавших в застенки ЧК не только за реальную вину перед новой властью, но и просто в качестве заложников (потом этот безотказный способ воздействия на противника позаимствуют у Ленина и Троцкого террористические «красные бригады», а затем и весь мировой терроризм).
«Новых звуков давно не слышно, – твердил Блок, говоря о своей «музыке». – Все они притушены для меня, как, вероятно, для всех нас… Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве».
Кощунственно в отношении чего или кого? Блок говорил опять-таки о «музыке», которой ему, как поэту, стало недоставать в революции. По словам Горького, Блок был человеком «бесстрашной искренности», который умел чувствовать «глубоко и разрушительно». В момент разрушения России «еретик» Горький, может быть, даже из чувства внутреннего противостояния фатальной исторической реальности, хотел быть созидателем и собирателем «камней». Как остроумно заметил Виктор Шкловский (уже в 1926 году, но имелось в виду явно революционное время), «у него развит больше всего пафос сохранения культуры, – всей. Лозунг у него – по траве не ходить. Горький как ангар, предназначенный для мирового полета и обращенный в склад Центросоюза».
Наоборот, Блок весь желал отдаться полету, мировой стихии (не как горьковский Буревестник, внешне, а внутренне, через «музыку»). Но он не слышал ветра, не видел стихии, а слышал стоны и жалобы и видел «железную» поступь новой власти.
Горький, хотя был не в силах помочь всем и спасти культуру, был в лучшем положении, чем Блок. Он оказался на своем месте. А вот Блок был просто «не нужен» новой действительности. Современность «выдавливала» его из себя, как организм «выдавливает» чужеродный объект. Отсюда (помимо элементарного голода) и блоковская депрессия.
Вот сценка – разговор Горького с Блоком в Летнем саду:
«С ним ласково поздоровалась миловидная дама, он отнесся к ней сухо, почти пренебрежительно, она отошла, смущенно улыбаясь. Глядя вслед ей, на маленькие, неуверенно шагавшие ноги, Блок спросил:
– Что вы думаете о бессмертии, о возможности бессмертия?
Спросил настойчиво, глаза его смотрели упрямо. Я сказал, что, может быть, прав Ламенне30: так как количество материи во вселенной ограниченно, то следует допустить, что комбинации ее повторяются в бесконечности времени бесконечное количество раз. С этой точки зрения возможно, что через несколько миллионов лет, в хмурый вечер петербургской весны, Блок и Горький снова будут говорить о бессмертии, сидя на скамье в Летнем саду. Он спросил:
– Это вы – серьезно?
Его настойчивость и удивляла, и несколько раздражала меня, хотя я чувствовал, что он спрашивает не из простого любопытства, а как будто из желания погасить, подавить некую тревожную, тяжелую мысль.
– У меня нет причин считать взгляд Ламенне менее серьезным, чем все иные взгляды на этот вопрос.
– Ну, а вы, вы лично, как думаете?
Он даже топнул ногою. До этого вечера он казался мне сдержанным, неразговорчивым.
– Лично мне больше нравится представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так называемую «мертвую материю» в психическую энергию и когда-то, в неизмеримо отдаленном будущем, превратит весь «мир» в чистую психику.
– Не понимаю – панпсихизм, что ли?
– Нет. Ибо ничего, кроме мысли, не будет, все исчезнет, претворенное в чистую мысль; будет существовать только она, воплощая в себе все мышление человечества от первых проблесков сознания до момента последнего взрыва мысли.
– Не понимаю, – повторил Блок, качнув головою.
Я предложил ему представить мир как непрерывный процесс диссоциации материи. Материя, распадаясь, постоянно выделяет такие виды энергии, как свет, электромагнитные волны, волны Герца и так далее, сюда же, конечно, относятся явления радиоактивности. Мысль – результат диссоциации атомов мозга, мозг создается из элементов «мертвой», неорганической материи. В мозговом веществе человека эта материя непрерывно превращается в психическую энергию. Я разрешаю себе думать, что когда-то вся «материя», поглощенная человеком, претворится мозгом в единую энергию – психическую. Она в себе самой найдет гармонию и замрет в самосозерцании – в созерцании скрытых в ней, безгранично разнообразных творческих возможностей.
– Мрачная фантазия, – сказал Блок и усмехнулся. – Приятно вспомнить, что закон сохранения вещества против нее.
– А мне приятно думать, что законы, создаваемые в лабораториях, не всегда совпадают с неведомыми нам законами вселенной. Убежден, что, если б время от времени мы могли взвешивать нашу планету, мы увидали бы, что вес ее последовательно уменьшается.
– Все это скучно, – сказал Блок, качая головою. – Дело – проще; все дело в том, что мы стали слишком умны для того, чтобы верить в Бога, и недостаточно сильны, чтоб верить только в себя. Как опора жизни и веры существуют только Бог и я. Человечество? Но разве можно верить в разумность человечества после этой войны и накануне неизбежных, еще более жестоких войн? Нет, ваша фантазия… жутко! Но я думаю, что вы несерьезно говорили».
На самом деле «фантазия» Горького предваряла философские открытия двадцатого века: В.И.Вернадского и Тейяра де Шардена. А вполне религиозная мысль Блока следовала в русле «метафизического эгоизма» Константина Леонтьева. Но Леонтьев и Шарден – фигуры несовместимые. А Блок и Горький как будто нашли один другого. Как будто весь мир замкнулся на Летнем саду, где беседуют эти двое, и вслушивается в их разговор. Блоку один шаг до веры в Бога, Горькому – до окончательного признания богом Человека. Но только ни один, ни другой не делают этих шагов.