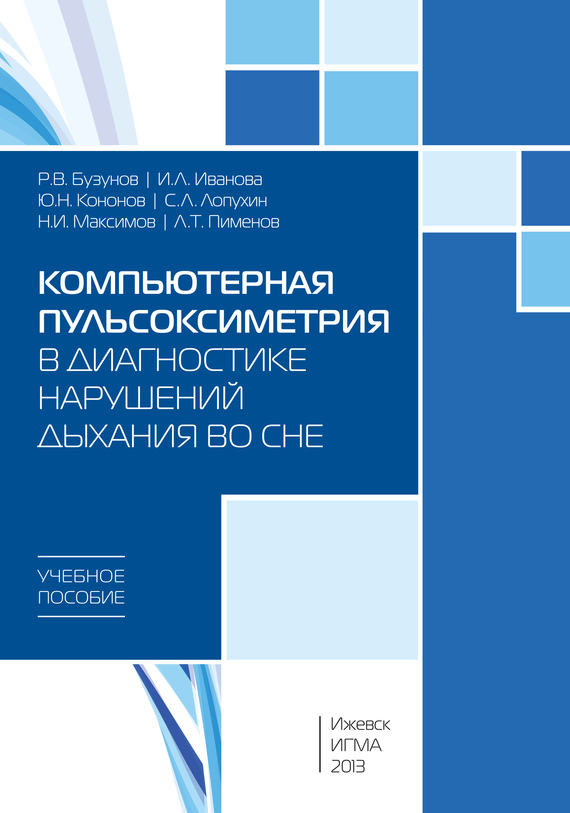Найти Элизабет Хили Эмма

С этими словами он зажег свечу и поставил на полу между нами.
– Пришлось оплатить кое-какие счета. Но в любом случае долго я здесь не задержусь.
В дрожащем свете свечи Фрэнк показался мне похожим на вампира, и я отпрянула.
– Ух ты! – Он удивленно выгнул брови и расхохотался. – Прямо-таки фильм ужасов с участием Бориса Карлоффа. Не бойся, я не собираюсь перерезать тебе горло, – он подтянул к себе один из чайных ящиков. – Просто я хотел показать тебе вот это.
Внезапно мне сделалось страшно. Вдруг это нечто неприличное? Я даже не представляла, что это может быть, но, наверное, потом я могла бы рассказать родителям. Вспомнив, как щелкнул, встав на место, засов на входной двери, я незаметно передвинулась ближе к выходу.
– Я больше не могу держать у себя эти вещи, – сказал он. – Можешь выбрать себе любую.
Я уже было открыла рот, чтобы отказаться, но Фрэнк снял с ящика крышку и вытащил меховую накидку, которую затем развернул для меня перед пламенем свечи. Ее увеличенная в несколько раз тень тотчас заняла свободное пространство над камином.
– В гостинице у нее с собой был только один чемодан, – пояснил он. – Все ее остальные вещи здесь. Я и подумал, вдруг ты захочешь взять их себе. Тебе ведь нравилось, когда она давала их тебе поносить. Тем более что сейчас они тебе впору.
Его глаза скользнули по мне, начиная откуда-то с талии, и я машинально прикрылась руками. Мне как будто сделалось больно в том месте, куда упал его взгляд.
– Фрэнк, – спросила я, – Сьюки умерла?
Он поморщился, а его пальцы еще крепче сжали мех. Несколько мгновений он смотрел на пламя свечи.
– Мне не следовало уезжать в Лондон, после того как эта чертова ненормальная пробралась в дом.
– Что?
– Да-да, та ненормальная. Несколько месяцев назад она однажды вечером каким-то образом пробралась в дом и напугала жену.
– И она выбежала с криком? Я имею в виду Сьюки. Она выбежала на улицу?
– Да, соседка пожаловалась, но в любом случае тем вечером мне нужно было уехать в Лондон. Сьюки вновь обнаружила в доме сумасшедшую. И снова испугалась. Когда она вечером отправилась к вам домой на ужин, она вроде бы как была относительно спокойна, но когда вернулась, заявила, что не может оставаться в доме. Она вбила себе в голову, что должна переехать к родителям. Скажу честно, мы с ней даже слегка повздорили из-за Дугласа. Мне не нравилось, что он живет у вас. В конце концов я уговорил твою сестру снять номер в привокзальной гостинице. Тем более что там мне были должны за кое-какие услуги. Мы решили, что она пробудет там до выходных, пока я не разберусь со своими делами, а потом в субботу она сядет в поезд и приедет ко мне в Лондон. Когда Сьюки не приехала, я переполошился, а когда не застал ее в гостинице, то решил, что она, ничего мне не сказав, вернулась к вам.
Нет, к нам Сьюки не вернулась. Она ушла из гостиницы, бросив там чемодан, полный одежды, и исчезла. Я опустилась на колени и заглянула в ящик. Там лежали вещи, которые она не взяла с собой. Белое с зеленым платье с подплечниками. Красный матросский костюм с юбкой в складку. Нарядный джемпер с перламутровой пуговицей на спине. Она сама связала его себе, увидев подобный в каком-то голливудском фильме. Все ее лучшие, выходные наряды. Эти вещи она собирала и любила.
Фрэнк пошел принести что-нибудь выпить, я же перебросила вещи Сьюки через спинку его кресла и принялась вытаскивать из ящика остальные. Скоро ящик был пуст, на его дне осталась лишь пыль. Пыль и что-то еще, похожее на крошечную створку ракушки. Я взяла это нечто в руки и поднесла к пламени свечи. И едва не уронила, как только поняла, что это такое. Обломок ногтя, покрытый розовым лаком. Я сумела разглядеть белую полоску с обратной его стороны, где он, должно быть, согнулся, прежде чем обломаться. Я представила, как ломается мой собственный ноготь, и мои пальцы непроизвольно сжались в кулак. Не знаю, чей это был ноготь, Сьюки или чей-то еще, но было в нем нечто странное, нечто зловещее. Услышав, что Фрэнк возвращается, я положила его в спичечный коробок и сунула его в карман.
– Что ты там нашла? – спросил он, нахмурив брови. Не иначе как он заметил, что я что-то прячу, словно ищейка, которая учуяла запах.
– Ничего, – ответила я, засовывая спичечный коробок глубже в карман и снимая со спинки стула нарядное приталенное голубое платье. – Ты его узнаёшь?
Фрэнк сказал, что нет, не узнаёт, и тогда я напомнила ему, что это было любимое платье Сьюки, которое она надевала, когда шла на танцы. Именно в нем она была, когда с ним познакомилась. Было видно, что Фрэнк озадачен.
– Честное слово, не помню, – сказал он и даже протянул руку, чтобы пощупать ткань. – Расскажи мне что-нибудь еще. Например, когда она надевала другие вещи.
Я вытаскиваю из вороха вещей рубашку в серую полоску, кладу ее себе на колени и разглаживаю руками. Я не хочу, чтобы она была мятой. Не помню, носила ее Сьюки или нет. Она мягкая и симпатичного кроя, но слишком большая по размеру. Я снова смотрю в чемодан. Твердый чемодан, какие обычно берут с собой в самолеты. Одежда перехвачена эластичным ремнем, в нем запуталась пара брюк коричневого цвета. Но это точно не брюки моей сестры. Я уверена, что все это мне снится. Комната, в которой я нахожусь, не того цвета. Окно – какой-то странной формы. Не узкое и высокое, а широкое. В него проникает свет с улицы, отчего оно кажется длинным плоским прямоугольником. Вся мебель стоит не там, где ей положено быть, – и шкаф, и комод, и туалетный столик. Они все темнеют не в тех углах. Многие вещи завернуты в газету, и мне не видно, что это такое. Я надеваю рубашку, думая о том, когда же я наконец проснусь, но в следующий миг в комнату входит женщина. Наверное, это моя мать, только она почему-то на нее не похожа.
– Доброе утро, – говорю я. Правда, по непонятной причине эти слова даются мне с трудом. Мой рот плохо приспособлен произносить согласные звуки.
– Вообще-то уже вечер. И что ты, собственно, делаешь? Что это за стук? Не иначе как у тебя здесь припрятана бутылка джина или что-то типа того. Я думала, что ты уже давно в постели.
– Я ужасно устала, – говорю я.
– Да, день был долгий, – она убирает волосы с моего лба и помогает мне лечь в постель. Кстати, постель уже теплая, как будто в ней кто-то до меня спал.
И эта женщина явно не моя мать. Наверное, это одна из пропавших женщин, о которых пишут в газетах. Может, я тоже такая.
– Ты до сих пор покупаешь рыбу в той же лавке?
К чему я это спросила? Слова раздражают меня, но звук моего голоса соответствует спутанности моих мыслей.
– Нет, – коротко отвечает она.
Не знаю, поняла ли она меня. Я протягиваю к ней руку и задеваю локтем стакан. Женщина успевает его подхватить, иначе он упал бы на пол. Однако налитая в него жидкость выплескивается. Внутри находится что-то вроде законсервированного трупика, как когда-то у нас в школе. Кролики в формальдегиде. Животы распороты, чтобы были видны внутренности. Мне кажется, мой нос улавливает химический запах и легкую гнилостную нотку.
– Это омерзительно. Что это здесь делает? – спрашиваю я.
– Твои зубы? – в свою очередь спрашивает она.
В дверь просовывает голову незнакомая мне девочка.
– Что происходит? Какой-то ночной пир? Может, мне приготовить горячий шоколад?
– Ты тоже куда-то пропала и тебя ищут? – спрашиваю я.
Девочка смотрит на женщину. У той сконфуженный вид, как будто ее поймали на чем-то постыдном.
– Да-да, приготовь нам горячего шоколада, Кэти, – говорит незнакомка девочке, а затем шепотом заговаривает со мной. Говорит мне, что она моя дочь, что это ее дом, что я живу здесь вместе с ней. Она заявляет, что уже поздно и пора спать, что здесь я в полной безопасности, никто никуда не пропадал и никого не ищут.
– Неправда, – говорю я. – Неправда.
Я хлопаю себя по бокам, однако не могу нащупать карманы. Их закрывает стеганое одеяло. Я прикасаюсь к нему, затем запускаю руки под подушку и вытаскиваю оттуда какие-то вещи. Моим ногам слишком жарко, и их прошибает пот.
– Неправда, – повторяю я, роясь в вещах. Женщина убирает одеяло, и теперь я могу подобраться к запискам в карманах моей пижамы. Я не знаю, что именно я ищу, однако перебираю листки и нахожу имя Элизабет. Оно написано сразу на нескольких. Значит, пропала она. У меня словно камень падает с души.
Девочка возвращается с кружками, и я делаю глоток. Напиток сладкий, вернее, даже приторный и липкий, как растопленная губная помада.
– Так что там с Элизабет? – спрашивает она и улыбается.
– Ради всего святого, Кэти. Только не это, – говорит женщина. – Я сегодня уже наслушалась разговоров на эту тему. Или ты нарочно?
Девочка продолжает улыбаться. У нее острое, похожее на лисичку личико, и, глядя на него, я почему-то начинаю нервничать.
– Прежде чем снова уснуть, тебе неплохо бы сходить на горшок, – советует женщина.
Она берет у меня из рук кружку и убирает с меня одеяло. Мои потные ноги тотчас начинают мерзнуть.
– Где горшок? – спрашиваю я.
Она пальцем показывает мне, где это, и я иду туда, мимо зеркала в коридоре. На мне рубашка Патрика. Нужно будет переодеться во что-то другое, но я не знаю, где моя комната. Здесь почему-то все не так. В груди у меня шевелится какое-то нехорошее предчувствие. Я делаю шаг к двери. На ней надпись «Туалет здесь», как будто кто-то знал, что я забреду сюда в поисках горшка. Я не знаю, то ли мне быть благодарной, то ли это какой-то подвох. За дверью новый указатель, он приклеен липкой лентой к стене. На нем изображена стрелка, указывающая направо. На самой последней двери крупными буквами написано «ТУАЛЕТ». Значит, я пришла правильно. Стягиваю с себя пижамные штаны, и на пол из карманов летят клочки бумаги. Я пытаюсь поднять их с пола, но у меня не получается вновь запихать их в карманы, потому что штаны мои спущены, и тогда я кладу их на радиатор рядом со мной. На них на всех написано имя Элизабет.
– Элизабет, – говорю я, спуская воду. – Элизабет пропала.
Мне почему-то приятно произносить эти слова, хотя внутри меня и начинает нарастать беспокойство. Я непременно должна ее отыскать. Должна придумать план действий. Должна записать его и, по мере выполнения, отмечать то, что я уже сделала.
Единственная бумага, которая попадается мне на глаза, – это газета на столике в коридоре, «Эхо», но я не уверена, подойдет ли она мне. Я пытаюсь прочесть заголовки, и в этот момент первая страница падает на стол. Я беру газеты с собой в гостиную, где усаживаюсь в кресло и расправляю страницы у себя на коленях. Рядом со мной на подушке лежит что-то узкое и твердое. Оно гладкое, блестящее, и на нем множество кнопок с цифрами. Я заворачиваю этот предмет в газету и ищу яблоки, но нигде их не вижу, поэтому заворачиваю ручку, а потом связку ключей.
– Мама! – раздается голос Хелен. Она стоит рядом со мной. – Неудивительно, что я никогда не могу найти пульт.
Она вытаскивает из газеты какой-то предмет, и одна страница падает на пол.
Я поднимаю ее и обворачиваю ею свою руку.
– Где яблоки, Хелен? – спрашиваю я. – Мне кажется, нам нельзя больше тянуть. Нужно срочно обернуть их и сложить в кладовку, иначе они не протянут до весны.
Раньше я любила заворачивать яблоки в газету. Это одно из тех поручений, какие взрослые с радостью дают детям. Я как сейчас помню резкий запах типографской краски, смешанный с не менее резким запахом яблок. Помнится, в какой-то год мы заворачивали их вместе – родители и я. Мы стояли в кухне, посреди стола высилась стопка газет. Яблоки лежали в лохани на одном его конце, ящики стояли на другом. На улице, за стенами нашей теплой, уютной кухни ветер шелестел ветками живой изгороди, в плите постепенно догорали угли. Лампочка под потолком то и дело мигала, как будто в нее попал мотылек – и теперь трепетал крыльями и закрывал свет.
Мама заворачивала яблоки быстрее всех нас. Медленнее всех работал Дуглас. У него была дурацкая привычка читать старые газеты. Он не мог удержаться, даже если до этого прочел все статьи от корки до корки. Примерно месяцем раньше в отеле «Норфолк» была зверски убита женщина, так что страницы пестрели статьями на эту тему. Дуглас наверняка их все изучил, хотя вслух в этом не признался. Еще писали, что в Британию с визитом прибыл одиннадцатилетний король Ирака и что в нашем городе должен выступить с речью Клемент Эттли [8]. Дуглас рассмеялся, когда я спросила у него, не родственники ли они.
– Ого, оказывается, власти наконец построили новые дома по ту сторону улицы, – сказал он, поднимая газету к мигающей лампе.
– Они закончили строительство еще в начале года, – заметила мама. – У тебя февральская газета. Думаю, там уже живут люди.
– Ага, живут. Фрэнк перевозил туда семью из Сноуминстера, – встряла я в их разговор, – а это было в марте.
– Ему понравилось? – спросила мама каким-то отрешенным голосом, хотя и сделала большие глаза. Она указала на потолок, после чего прижала палец ко рту, напоминая мне, что в присутствии отца имя Фрэнка не должно звучать.
Я закатила глаза.
– Фрэнк сказал, что ему поручили перевозить вещи еще до того, как там все было готово. Нужно было присмотреть за домами, разбить садовые участки и все такое прочее. Он говорит, что там все очень хорошо и красиво.
Дуглас посмотрел на меня, затем отвернулся.
– И когда это было? – спросил он, заворачивая наконец яблоко в газетный лист. – До того, как народ начал туда переезжать, или до того, как закончили строительство на всей улице?
– Понятия не имею. Я только знаю, что он помогал с садовыми участками. По собственной инициативе.
– Это как же?
– Привез земли, затем все хорошенько перекопал и даже помог посадить овощи.
– Вот уж никогда не замечал в нем садоводческую жилку. И какие же овощи он помогал сажать?
Отец, скрипя досками, начал спускать по лестнице. Надо сказать, что половицы скрипели под его ногами как-то по-особенному, совсем не так, как под мамиными, Дугласа или моими. Доски как будто стонали под его весом. Спустившись в кухню, отец схватил очередной ящик, чтобы отнести его на чердак.
– О чем вы здесь без меня говорили?
– О новых домах, – ответила мама. – Там, наверное, хорошо жить.
Отец фыркнул и зашагал вверх по лестнице.
– Там рядом с домами большие участки, – сказала мама. – Это так удобно, когда в доме живет семья. Может, и ты когда-нибудь будешь жить в таком доме, Мод. Когда выйдешь замуж.
На какой-то миг эти ее слова показались мне непристойными. Меня бросило в жар, лицо и руки стали липкими от пота. Запах яблок внезапно показался таким густым, что мне едва не сделалось дурно. Типографская краска налипла на потные пальцы, которые потом размазали ее по яблоку у меня в руках. И хотя я вытерла его о джемпер, у меня было такое ощущение, будто я вымазала его чем-то грязным и его теперь уже нельзя есть.
Дуглас читал страницу с объявлениями. Я наблюдала за ним, пока не заполнила с верхом целый ящик, после чего потянула за край газеты.
– Зачем тебе читать объявления? – спросила я у него.
Дуглас вырвал газету у меня из рук.
– Потому что я прочел все остальное.
Мама велела мне оставить его в покое и заниматься своим делом.
– Я заполнила вдвое больше ящиков, чем вы.
Дуглас улыбнулся и, положив газету на стол, сказал, что пойдет отнести отцу на чердак очередной ящик. Отделив страницу от кипы газет, я плотно завернула в нее яблоко и тщательно разгладила все бумажные складки. Я даже смогла прочесть, что там написано. По словам начальника Почтового ведомства, почта до сих пор испытывает трудности после шести лет войны, при этом количество заявок на установку телефона достигло трехсот тысяч. Мне тотчас вспомнилась миссис Уиннерс и как она разозлится, когда узнает, что вскоре перестанет быть единственной обладательницей телефонного аппарата на нашей улице. Я уже было открыла рот, чтобы сказать это маме, когда заметила рядом с черенком яблока крупный заголовок: «Женщины, свяжитесь со своими мужьями».
Это была очередная история про убийство в отеле «Норфолк». По словам репортера, город был охвачен паникой после того, как чуть дальше по побережью было обнаружено еще одно тело. Местные жители опасались, что жертвами жестокого убийцы могут стать новые женщины. По мнению автора статьи, полицейских, расследующих эти преступления, осаждают мужья, чьи жены, как потом выяснилось, просто сбежали. Скоропалительные браки военных лет привели к еще более скоропалительным разрывам отношений. В статье автор призывал женщин сообщить своим мужьям, что они живы и здоровы, потому что в свете недавних убийств было важно, чтобы они не числились пропавшими без вести.
Я перечитала статью. Что, если Сьюки тоже ее читала? При этой мысли во мне шевельнулась надежда. Что, если она всего лишь прячется от Фрэнка? Воодушевленная этой мыслью, я взялась перебирать газеты дальше. Вскоре нашла еще несколько заметок о том, как мужчины и женщины покидали свои семьи, не сказав ни слова. А еще мне попалось адресованное редактору письмо одного читателя, в котором рассказывалось о том, что пропавшая жена этого мужчины просто жила на другом конце города под вымышленным именем. Муж лишь потому обнаружил ее местонахождение, что она покупала рыбу в той же лавке, что и прежде.
Значит, бывает и такое, подумала я. Сьюки могла сбежать от нас, сбежать от Фрэнка. Увы, паника, о которой сообщал первый репортер, оказалась заразительной. Что, если Сьюки сейчас лежит где-нибудь в кустах на побережье мертвая? Что, если убийца отправил на тот свет не двух женщин, а трех?
Глава 15
Если я поверну сначала налево, потом опять налево, то окажусь на кухне. Я уже записала это. Я точно не знаю, где сейчас нахожусь, но, по крайней мере, смогу отыскать кухню. Здесь чувствуется мыльный запах, и он напоминает о моих визитах к Сьюки и о женщине, которая что-то вынимала из белого буфета. Она вертится туда-сюда, наклоняется, чтобы закрыть дверцу буфета, заталкивает кучу простынь и полотенец в корзину для грязного белья и подносит ее к самому лицу. Создается впечатление, что у нее отвалилась голова и теперь она несет ее поверх кучи белья.
– Я нашла эти записки у тебя в карманах, – говорит она, выпрямившись и кивая на ворох бумажных квадратиков на комоде. – Они тебе нужны? – Она все еще напоминает голову, лежащую на куче грязного белья. – Что ты будешь есть на завтрак?
– Мне нельзя есть, – говорю я. – Так сказала мне та женщина.
– Какая женщина?
– Та женщина, – отвечаю я.
Боже, как же мне надоело постоянно все объяснять…
– Та женщина, которая здесь работает. – Ведь правильно? – Она же здесь работает.
– О чем ты говоришь?
– Ты же ее знаешь… Да-да, знаешь. Она здесь работает. Всегда в заботах. Всегда сердится. Всегда торопится.
– Наверное, ты говоришь обо мне, мама.
– Нет, – отвечаю я. – Нет. – Но, возможно, я на самом деле говорю о ней. – Как тебя зовут?
Голова над кипой белья улыбается и отвечает:
– Меня зовут Хелен.
– О, Хелен, – говорю я. – Я собиралась тебе сказать. Девушка, которую ты взяла на работу, ничего не делает. Вообще ничего. Я за ней наблюдала.
Хелен наклоняет голову набок, и похоже, что она вот-вот скатится на пол.
– О ком ты говоришь? О какой девушке?
– Ну, о той девушке, – отвечаю я. – Она оставляет грязные тарелки в раковине и разбрасывает одежду по всей комнате.
Хелен улыбнулась и прикусила губу.
– Очень точная характеристика, мама; это Кэти.
– Меня не интересует, как ее зовут, – говорю я. – Я просто хочу, чтобы ты знала, какая она. Мне думается, ты должна предложить ей уйти. Если тебе так уж нужна помощница по хозяйству, найди кого-нибудь еще. В твоем возрасте я всегда делала все по дому сама без чьей-либо помощи. Но сейчас молодежь считает, что им все должно даваться легко.
– Мама, ты говоришь о Кэти, – отвечает мне Хелен. – О Кэти. Твоей внучке.
– Нет. Не может быть, – бормочу я в ответ. – Не может быть.
– Может, мама. Она моя дочь и твоя внучка.
Хелен ставит корзину с бельем на стол, и я вижу, как голова у нее вновь прирастает к шее. Она трясет большим куском материи, и в корзину падают несколько носков, а я чувствую свежий аромат чистоты, как будто иду к Сьюки. Я с удовольствием вдыхаю его. Мне кажется, будто я пережила какое-то сильное потрясение, но не могу вспомнить точно какое. Я хожу по кухне и то открываю, то закрываю ящики. Один из них набит оранжевыми шарами, словно яйцами экзотической птицы, только они не гладкие, а шершавые, точно скомканная газета. Я хочу разгладить одно из яиц и обнаруживаю, что оно сделано из пластика и на одном конце у него ручки. Не могу представить, что за птица несет такие яйца. Я спрашиваю Хелен, и она с гримасой на лице отвечает:
– О господи, мне надо с ними что-нибудь сделать. Просто ума не приложу, как это я ухитряюсь каждый раз забывать свою сумку. – Она мгновение смотрит на меня, потом с улыбкой добавляет: – Болезнь-то, наверное, заразная.
Передняя дверца открывается, Хелен берет расплющенное яйцо и сует его в ящик. Она что-то бормочет, но я не слышу что. Что-то об одежде на полу. Я смотрю на носки в корзине.
– Привет, бабушка, – говорит Кэти. Она вошла и остановилась рядом со мной с протянутыми руками. – Это я.
– Привет, – отвечаю я.
– Значит, ты все-таки знаешь, кто я такая?
– Конечно, я знаю, кто ты такая, Кэти, не глупи.
Внучка смеется и поворачивается к матери.
– Она выздоровела!
– О чем таком вы говорите? – спрашиваю я, глядя на Хелен. – Твоя дочь сошла с ума.
– О, бабушка, – произносит Кэти, обняв меня. – Один из нас, несомненно, сошел с ума.
Она отходит от меня, и я следую за ней в коридор. Справа небольшое помещение. Там находится ванная, а немного дальше спальня. Я пробираюсь в спальню, чтобы узнать, что там такое. Кое-какие вещи в ней кажутся мне знакомыми. Они принадлежат мне, я уверена. Большой шкаф для одежды очень сильно и приятно пахнет деревом. Запах мне тоже знаком. И мне хорошо известно, как приятно сидеть в том стареньком невзрачном кресле. Я прикасаюсь к его истертым подлокотникам, провожу пальцами по трещинкам в древесине. Оно такое старое и такое милое, но как же страшно ощущать его ветхость, словно ты внезапно обнаруживаешь, что близкий тебе человек из молодого и крепкого вдруг стал совсем дряхлым. Помню, как в первый раз заметила, что моя мать состарилась. Мы смотрели в окно на улицу, кто-то должен был прийти, и я глянула на ее руку, лежащую на подоконнике. И с ужасом увидела на ней глубокие морщины и выступающие вены. Ее рука в то мгновение показалась мне ненастоящей, каким-то унизительным искажением реального облика родного мне человека.
Вот какой мне представляется эта мебель теперь. Сборищем каких-то самозванцев, вещей, принявших чужой, не принадлежащий им облик. Я словно прошла сквозь зеркало, как в той истории… забыла, как она называется. И теперь не могу понять, где нахожусь. Я смотрю на свои записи и нахожу в них те, что указывают дорогу на кухню. Следую записанным рекомендациям. Возможно, там я найду маленькую бутылочку или пирожок с наклейкой «Съешь меня». Вместо них я нахожу там Хелен.
– Хелен, – говорю я. – Вещи в той комнате лгут.
– Лгут?
Я открываю рот, но уже не помню, что хотела сказать.
– Почему мое кресло стоит в той маленькой комнате? – спрашиваю я.
– Потому что это твоя комната, мама.
Я поворачиваю голову, чтобы искоса взглянуть на Хелен.
– Нет, неправда. Скажи мне правду. Куда ты дела мои вещи? Кто их тебе отдал? Что ты с ними делаешь?
– Ты привезла их с собой. Это же твоя комната, мама.
– Как такое возможно? Где мы находимся? – спрашиваю я. – Это не мой дом. Ведь так?
Но почему-то в моем голосе нет уверенности. Это чужой дом, но я бывала здесь раньше. Возможно, он все-таки мой, в данный момент я не могу вспомнить никакой другой дом и никакие другие комнаты, чтобы можно было сравнить их со здешними.
– Это мой дом, – говорит Хелен. – Давай выпьем чаю. Я приготовила тебе тосты.
Я сижу в столовой. Она входит с подносом, широко улыбается мне и ставит поднос на стол.
– Но, Хелен, как же моя комната может находиться в твоем доме? – спрашиваю я. – Это ведь неправильно. Мне кажется, что это неправильно.
– Мама, ты теперь живешь со мной. Помнишь? Мы сложили все твои вещи и перевезли сюда. Здесь твоя новая комната. И ты говорила, что она тебе нравится. Все под рукой, ты сама сказала. Ванная прямо рядом справа, и не нужно взбираться по лестнице.
– Да, да, все очень хорошо, Хелен, – отвечаю я. – Но мне нужно вернуться домой. Не могу же я всегда оставаться здесь.
– Нет, мама, пока ты должна жить здесь, – говорит она, наливая молоко в чашку. Улыбка у нее на лице все такая же широкая, но я вижу, что она не смотрит мне в глаза.
– Я не могу. А что, если позвонит Элизабет? Она же не знает, где я и как меня найти. Пожалуйста, Хелен, пожалуйста, отвези меня домой.
– Пей чай, а об этом мы поговорим немного позже.
Я поднимаю чашку. Она наблюдает за тем, как я пью, и говорит:
– Я могу купить пирог в магазине. – В глазах ее появляются хитринки; она пытается скрыть их за улыбкой, но я-то прекрасно вижу. – Какой тебе купить пирог?
Я прошу у нее пирог с кофейным вкусом. Я не люблю пироги с кофейным вкусом, поэтому никто не сможет заставить меня их есть. Она убирает поднос. Уносит его куда-то или кому-то передает. Американцам в НААФИ? [9]Чтобы угощать их завтраками с колбасой и бобами? Интересно, а мне принесет она хоть чуть-чуть?
Ее плащ-дождевик лежит на столе. Значит, не только я многое забываю. Просовываю ладонь в петлю на рукаве и поднимаю руку, а потом пью чай и наблюдаю, как болтается ее плащ. Здесь еще находится газета. Я складываю ее в крошечный треугольник, стараясь сделать углы как можно более острыми.
Мимо двери проходит девушка, она собирает вещи с полок в коридоре. Это та самая девушка, которую наняла Хелен. Я уверена, что она нечиста на руку. Она ворует вещи, мелкие вещи; правда, я точно не знаю какие. И передает их той сумасшедшей. Я уже говорила Хелен, но та мне не верит. Мне необходимо выяснить, где девица встречается с сумасшедшей, и тогда у меня будут доказательства и мы сможем ее уволить. Со своего места я прекрасно вижу, как она надевает пальто, набивая карманы нашими вещами. Я встаю и хватаю свою сумку. Дверь хлопает, но я почти сразу же открываю ее снова и следую за ней по тропинке.
На повороте она останавливается. Я тоже останавливаюсь и делаю вид, будто рассматриваю засохшие подсолнухи. Они склоняются над садовой изгородью, и семечки падают прямо на мостовую. Я собираю их и кладу в карман. Девушка вновь отправляется в путь, и я следую за ней по пятам. Но, дойдя до широкой улицы, она бросается бежать. На остановке стоит автобус, она запрыгивает в него, и тот отъезжает. Я упустила ее. Она сбежала. И больше никогда не вернется, никогда, никогда. Я поворачиваю назад к дому. Посередине улицы много всякого мусора. Большие куски апельсиновой кожуры и газеты. Кажется, я что-то собиралась сделать. Что-то с газетами. Я наклоняюсь, чтобы поднять одну из них, и пытаюсь разобрать слова на первой странице. Но на них какие-то пятна, и они дурно пахнут, и я бросаю газету.
У обочины лежит крошечная бутылочка. Что в той истории говорилось о маленькой бутылочке? «Выпей меня» – было написано на ней. Остального я уже не помню. Но на бутылке, что валяется у меня под ногами, значится «Виски «Макаллан». Вряд ли в той истории в бутылке могло быть виски. Его в свое время пил Фрэнк. При нем как-то, когда я его встретила, была бутылка с виски. Правда, она не была такой крошечной.
Фрэнк сидел в машине в конце нашей улицы и пил виски, пока я рассказывала ему все то, что могла припомнить о Сьюки. Он прошептал, что ему хочется думать о ней так же, как думаю я, и всегда помнить о ней. Мы сидели рядом в полумраке, свет уличного фонаря почти не рассеивал темноту и только озарял клубы сигаретного дыма. Было душновато, но я не обращала на это внимания – мне нравились машины. В них можно просто сидеть, ничего не делая, не нужно готовить овощи или копаться в саду или пропускать простыни через каток для сушки белья.
В машине Фрэнка мне нужно было только болтать, вспоминать подробности, которые он сам забыл: название любимых духов Сьюки, цветов и газетных колонок, и еще раз то, что она сказала ему в тот вечер, когда они встретились. Это воспоминание ему нравилось больше всех остальных. Как Сьюки возвратилась домой счастливая, как она пританцовывала от радости, как снимала свое синее платье и напевала что-то себе под нос, накладывая на лицо кольдкрем. И как она лежала в темноте на кровати рядом со мной и рассказывала мне, что встретила мужчину, красавца; что он подмигнул ей и плотоядно улыбнулся. И что она поняла – с самого начала поняла, – что встретила того самого мужчину, за которого и выйдет замуж.
Я рассказывала ему все это, уставившись в пространство между нами, в промежуток между его бедром и моим, а Фрэнк смотрел на улицу. Потом он заплакал. Нет, не в буквальном смысле, слез не было; он просто как-то сгорбился и закрыл глаза. Я коснулась его волос, сзади, где они не были намазаны бриолином, а он сжал мне руку, поднес ее к губам и сказал:
– Сегодня вечером, Мод, – произнес Фрэнк. – Когда я увидел, как ты идешь к машине, то на мгновение принял тебя за нее. Ты даже не можешь представить, что было со мной в то мгновение.
Он долго не отпускал мою руку. Наконец отпустил ее, но только чтобы сделать глоток виски из бутылки, стоявшей на полу у его ног. На рукаве моей куртки, синей куртки Сьюки, образовалась складка, и я провела рукой, чтобы ее разгладить. Внезапно он наклонился ко мне и прижался лицом к моей шее. Я не шевелилась. Не скажу, что мне не понравилось, но я боялась того, что может за этим последовать.
– Фрэнк, – прошептала я.
Он выпрямился, и я стала осторожно выбираться из машины, чувствуя, что надо торопиться, так как заметила, что он тоже выходит. Но домой я отправилась одна, а он остался и еще какое-то время стоял, прислонившись к машине и наблюдая за мной. Это напомнило мне те времена, когда он ухаживал за Сьюки, и я иногда видела, как они стоят, обнявшись, в тусклом свете уличного фонаря и целуются, и он набрасывает ей на плечи свой твидовый пиджак. Вот еще одно воспоминание, которое я припасла для Фрэнка.
– Видел тебя, – пробормотал Дуглас, когда я вошла через заднюю дверь. Висевший вверху фонарь ярко освещал его лицо, отчего оно приобретало болезненный вид.
– О чем таком ты говоришь? – спросила я, выбираясь из куртки.
– В машине. С Фрэнком.
В руках он сжимал сложенную газету, и, обдумывая ответ, я внимательно ее разглядывала. Убийцу из отеля «Норфолк» схватили, и никто не сомневался, что его повесят, несмотря на то что суд должен был состояться только через несколько месяцев.
– Ну конечно. Тебе же никогда не сидится дома, Дуг, ты всегда ждешь на улице, – сказала я.
Он тоже взглянул на газету.
– Ты ведь с ним не в первый раз. И надеваешь ее одежду. О чем ты только думаешь, Мод?
Я пожала плечами и продолжала стоять у задней двери, держа в руках куртку. Я даже ни разу не взглянула на бархатное болеро с тех пор, как Фрэнк отдал мне вещи Сьюки. Как же чудесно было переодеваться и выходить на послеобеденную прогулку в новых нарядах, пусть даже для этого нужно было лгать родителям!.. Я ни о чем не думала и не чувствовала за собой никакой вины. Считать себя виноватой из-за его слов! Еще чего!
– Она была моей сестрой, – сказала я, но Дуглас уже не слушал. Он не смотрел мне в глаза. Его взгляд скользил по моему телу.
– Это ее одежда, – проговорил он, вставая и комкая в руках газету, и сделал шаг ко мне. – Снимай ее!
Он ухватился за куртку моей сестры, посмотрев на меня с такой злобой, что я отшатнулась.
– Дуг! – крикнула я. – Это не твое дело!
Я подалась к раковине, но он положил на нее руки и закрыл мне проход.
– Пытаешься играть в нее. Вот чем ты занимаешься. Надеваешь ее одежду. Заигрываешь с ее мужем. А он что? Возил тебя в их семейное гнездышко? Укладывал в их постель?
– То, что ты говоришь, отвратительно, – сказала я, чувствуя, как пылают мои щеки. – Мы только беседовали… о Сьюки… и всё.
Я отвернулась, пытаясь отодвинуться от него, но Дуглас сгреб мой подбородок в кулак, сжал его так, как до этого комкал газету, и приблизился ко мне почти вплотную.
– Ты даже пользуешься ее помадой, – прошипел он, его лицо было всего в дюйме от моего. – Сотри немедленно!
Тыльной стороной ладони он грубо провел мне по губам, поцарапав кожу. Я чувствовала, что помада размазалась по щеке, и попыталась отвернуться, но Дуглас крепко держал меня за подбородок.
– Прекращай этим заниматься! – прохрипел он, тяжело дыша мне в лицо. – Больше не пытайся ее заменить ее. Ты никогда не сможешь заменить ее.
Я вспомнила, как Фрэнк прижимался к моей шее, и зажмурилась, чтобы не расплакаться. Я не двигалась, пока Дуглас срывал с меня сережки Сьюки, их зажимы щелкали у него в руках. Не двигалась, пока он вытаскивал у меня из волос заколки и швырял их на пол.
У меня возникло ощущение, будто вся моя жизнь – это только сохранившиеся воспоминания. Или, возможно, утраченные. Те, которые мне действительно нужны, утрачены. К примеру, я не помню, куда положила свой автобусный проездной. Я не могу его найти. Я знаю, что он у меня в сумке, я никогда его оттуда не вынимаю, но его там нет. Там лежит расческа, упаковка мятных леденцов, несколько бумажных платочков и белый пластиковый кошелек. Все это я отодвигаю в сторону.
– Предъявите ваш проездной, – говорит водитель.
Я нахожусь в автобусе, но он стоит, и двери у меня за спиной открыты. На руке у меня висит зонт. Его вес и движения, когда он качается, отвлекают меня. Я не могу вспомнить, что я ищу. Сую руку в карман. Там масса всевозможных кусочков и обрывков. Всякой мелочи. Я не могу понять, что это такое, но почему-то вспоминаю о цветах, садах и о чем-то еще. О чем-то, что имеет отношение к Библии. Неужели к какой-то фразе из Библии?
– «Если даже буду я остывший прах в склепной сырости и в пыли» [10], – говорю я.
Вот. Она сохранилась у меня в памяти еще со школы. Но теперь я уже не помню, откуда она.
– Что? – переспрашивает водитель, глядя на меня сквозь стеклянную перегородку. – Ну, давайте же, дорогуша, вы нас всех задерживаете.
Я поворачиваюсь и смотрю на остальных пассажиров. Они сидят и смотрят на меня, и я слышу их тяжкие вздохи. Я чувствую, что краснею. По какой-то причине они куда-то торопятся, но я не знаю, чем со своей стороны могу им помочь.
– Почему вы ее не пропускаете? – выкрикивает кто-то. – Вы же видите, что это пожилая женщина.
Водитель шумно вздыхает и разрешает мне пройти в автобус и сесть. И перед тем, как наш автобус присоединяется к потоку машин, я вижу в окно какого-то человека на тротуаре, отдирающего пластиковую крышечку от пачки таких маленьких палочек, которые не похожи на свистки. Эти палочки можно зажечь. Он открывает пачку и кусает вначале коробку, а затем ее содержимое, частички табака прилипают к его зубам. Выражение его лица похоже на страшную улыбку, и, кусая, он смотрит на меня, а его резкие движения вызывают у меня ужас. Я вспоминаю, как другой человек бежал вниз по холму за своей шляпой, а отец велел мне на него не таращиться. Неожиданно мне становится страшно одиноко, мне хочется, чтобы рядом со мной кто-то был. Кто угодно. Легче я начинаю себя чувствовать, только когда автобус двигается с места.
Мы проезжаем мимо парка и дома Элизабет. Мимо акации с ее крупными молочными цветами. Ну, вот снова. То же воспоминание из школьных лет. Я не уверена, что это из Библии. Больше ничего я вспомнить не могу. На каждой остановке автобус трясет, и мне кажется, будто мои кости превратились в желе. На сиденье рядом со мной лежит газета, и я держусь за ее краешек и перебираю страницы. В такую газету можно поместить объявление, и для этого достаточно просто пойти в редакцию и попросить, чтобы они его напечатали. Я улыбаюсь и начинаю вслух читать вывески на магазинах и называть уличные знаки. На улице начинает моросить. Крошечные капельки дождя внезапно появляются на окнах автобуса, подобно зубной пасте на зеркале. На остановке выходит пожилая пара, и во мне внезапно просыпается тоска по Патрику. Он всегда держал меня за руку, когда мы садились в автобус. Всего несколько мгновений, пока мы входили в автобус и выходили из него. Потом он, конечно, отпускал мою руку, и мы садились или стояли рядом. Он точно так же поступал и в толпе – протягивал руку и старался нащупать мою ладонь. Как же мне этого сейчас не хватает.
Я слишком поздно замечаю нужное мне здание. К тому моменту, когда я встаю и нажимаю кнопку, мы уже проехали еще две остановки, и мне приходится идти назад пешком. Редакция «Эха» выглядит практически так же, как во времена моего детства. Я вспоминаю фотографии. Очень яркие и красивые. Очень современные. И приятные. Не то что нынешние здания, которые теперь строят.
Внутри редакции за конторкой сидит женщина, у нее пухлые щеки, как у ребенка. Когда она улыбается, они начинают напоминать шарики.
– Чем могу быть вам полезна? – спрашивает она, и у меня возникает впечатление, что она пропустила какое-то слово в конце предложения. Возможно, она хотела сказать «дорогая» или «уважаемая», но по не известной мне причине передумала.
Мы смотрим друг на друга, и я пытаюсь вспомнить, что собиралась сказать. Но у меня в голове вертится одно и то же слово – «ребенок». Я беру почтовую открытку из коробки. На ней изображен котенок на грядке настурций. Элизабет она должна понравиться.
– Это по поводу конкурса? – Женщина немного наклоняется, и ее руки исчезают из моего поля зрения; я слышу, как она перебирает какие-то бумаги под столом. – Думаю, что все победители нынешнего месяца уже были оповещены. Извините. Но не считайте себя проигравшей. Просто сделайте еще одну попытку в следующем месяце. Еще не все потеряно!
– Потеряно, – повторяю я за ней и кладу открытку на конторку. – Я потеряла Элизабет.
Мгновение она молчит, потом выпрямляется и говорит:
– Э-э-э, вы, наверное, хотели поместить объявление?
Мне снова становится легко дышать.
– Да. Да, именно. Я хотела поместить объявление.
– Я дам вам бланк. Ох уж эти кошки, какие они несносные, правда?
Я киваю, но мне кажется, что я пропустила какую-то часть разговора. Я киваю, но мне очень нравятся кошки, и меня удивляет, что эта женщина что-то против них имеет.
– Я помню, когда моя тетушка потеряла своего Оскара. Она просто рассудка лишилась. Его не могли найти несколько недель. И в конце концов обнаружили в кабинке для переодевания на пляже. Вы не просили соседей, чтобы они заглянули к себе в сараи?
Я удивленно смотрю на женщину. Не могу представить, чтобы Элизабет можно было отыскать в сарае. Но, возможно, все-таки стоит попробовать. Может быть, только такая идея мне представляется странной. Я беру ручку и пишу: «Кабинка для переодеваний на пляже». Женщина передает мне бланк с множеством разных пустых квадратиков и пробелов. Я смотрю на него, и, видимо, проходит достаточно много времени, потому что служащая наклоняется ко мне.