Знак небес Елманов Валерий
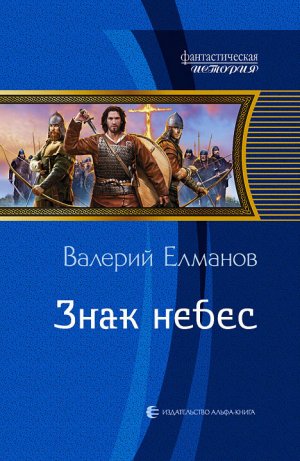
— Разумеется, нет. Машину ими заправлять, все равно что докторской колбасой питаться, которая до этого неделю на солнышке полежала. Опять же степень очистки. Там же смол остается раз в двадцать выше нормы. Сразу все забьется. Но здесь он нам только для бутылок с горючкой нужен, так что на смолы плевать, а уж на октановое число тем более. Лишь бы горело, и ладно. Так что самогонный аппарат подойдет.
— Стало быть, Чечня, Азербайджан или Тюмень, — задумчиво произнес князь и почти мгновенно сделал вывод: — Тогда только Чечня. Тюмень вообще отпадает и даже рассмотрению не подлежит — там нефть намного глубже под землей находится, а у нас ни оборудования нужного нет, ни всякого прочего. Зато на Кавказе она, можно сказать, прямо из земли сочится. Бери — не хочу. Но до Баку ехать намного дольше, и опять-таки проблемы, думается, с правительством тех мест могут возникнуть. Словом, тоже отпадает.
— Ну, нет мне покою, — сокрушенно вздохнул Вячеслав. — Уж я и на семьсот лет назад залез, только чтоб туда больше не ездить, ан нет — и тут меня достали. А ведь говорил себе сколько раз — в Моздок я больше не ездок. Оказывается…
— Значит, это твоя судьба, — развел руками князь. — Хотя я считаю, что ты, Слава, напрасно сокрушаешься. Тем более что народы, живущие именно на Северном Кавказе, — сплошные дикари и особой опасности не составляют. Там сейчас единственная реальная и могучая сила — это аланы, между прочим, уже частично принявшие христианство.
— Аланы — это…
— Это предки нынешних осетин. Здесь, на Руси, их называют ясами. Народ весьма приличный: и слово свое держит всегда, и о чести воинской им не понаслышке известно. К тому же нам с ними все равно так и так надо договариваться, чтобы все возможные попытки войск Чингисхана выйти на Русь через Кавказ были наглухо заблокированы. То есть это наши потенциальные союзники. И тебе, дорогой мой воевода, еще придется муштровать и приучать к строю их лихую и достаточно стойкую, не в пример половцам, но очень уж недисциплинированную конницу, которая сейчас дает прикурить кому угодно на всем Восточном Кавказе.
— А чеченцы и прочие? — не унимался Славка.
— Ну, я же сказал. Сейчас они представляют собой исключительно племена дикарей. Никакой опасности для нас. Ты сам подумай. Если уж этих папуасов аланы вовсю гоняют, то нам-то какая от них угроза может быть? Из крупных городов в тех краях только Дербент расположен.
— Знаю я его, — не преминул похвалиться своей осведомленностью Славка. — Райцентр в Дагестане.
— Это он в той нашей истории не больше чем райцентр. А сейчас это пока что самый могучий город-крепость, потому что стоит на пути единственного удобного прохода из Закавказья на Северный Кавказ. Его еще Сасаниды основали.
— Сосу… кто? — встрепенулся воевода.
— Проще говоря — персы, — пояснил спокойно Константин. — Лет за четыреста до нашей эры он был северной границей их владений. Между прочим, у него даже первоначальное название персидское: Дарбанд.
— Ну, это даже я переведу, — заулыбался Славка. — Подарок бандитам. Вот только какой именно — непонятно.
— Почти угадал, — улыбнулся князь. — Узел дорог.
— Да, это я ошибся, — самокритично сознался воевода. — Хотя совсем на чуть-чуть.
— Через тысячу лет персы его здорово отстроили, отгрохав две длиннющие стены — южную и северную, — продолжил Константин. — Они берут свое начало от цитадели и тянутся параллельно друг другу на восток до самого Каспийского моря и даже углубляются в него, образуя очень удобную гавань. Чуть позже персы соорудили Дагбары, то есть Горную стену. Она ныне уходит на запад до самых гор, чтобы крепость невозможно было обойти по долинам и перевалам. Вообще-то правильнее было бы назвать ее на вашем военном языке чем-то вроде укрепрайона. Сам посуди — длина сорок километров. К тому же выглядит все это не как единая стена, а скорее как сложная система, то есть целый комплекс оборонительных сооружений. Словом, миновать этот город попросту нельзя. Разве что в одиночку, имея хороший набор юного альпиниста и навыки скалолазания.
— Слушай, Костя, так ведь этот город надо просто немедленно брать, — задумчиво произнес Вячеслав, и хищный огонек загорелся в глазах воеводы. — Это же какой форпост у Руси на юге будет — сказка да и только. Перефразируя занюханных американцев, можно сказать, что он уже давно попал в сферу рязанских интересов. Там сейчас кто сидит?
— Он частенько переходил из рук в руки, так что я даже затрудняюсь ответить точно, — виновато вздохнул князь. — Помню, что от Ирана он перешел к хазарам, но был у них недолго. От хазар перекочевал к арабам.
— Они-то каким боком к нашему российскому Дагестану? — подал возмущенный голос Минька, до этого внимательно слушавший князя.
— Это было в седьмом веке нашей эры, — пояснил Константин. — Арабы как раз начали свое стремительное расширение.
— Надеюсь, что это продолжалось не слишком долго, — проворчал воевода.
— Лет пятьсот. Из них три века, не меньше, Дербент вообще был резиденцией наместника халифа на Кавказе.
— Получается, что они там все мусульмане, — тут же сделал вывод Вячеслав. — Это плохо.
— Они действительно почти все исповедуют ислам, — подтвердил князь, но тут же успокоил своего воинственного друга: — Впрочем, это ерунда. Когда город тесно завязан на купцов — а Дербент все эти годы был не просто центром морской торговли, а и вовсе главным портом на Каспии, — то жители со временем начинают смотреть на веру как на что-то второстепенное. Вырабатывается принцип — верь во что хочешь, только плати налоги, пошлины и вообще дай городу как можно больше заработать на тебе. К тому же Арабский халифат давно развалился. Одно время, где-то в десятом веке, Дербент вообще был самостоятельным и независимым эмиратством, ну, что-то типа той же Волжской Булгарии, но это длилось недолго — лет сто. В одиннадцатом веке город взяли турки-сельджуки. А вот удержались ли они в нем до наших дней — не помню. Да и какая разница.
— То есть как?! — немедленно возмутился Вячеслав. — Как верховный воевода, я считаю, что просто необходимо выяснить все подробности, касающиеся этого чудесного города.
— Боюсь, что мы не успеем, — вздохнул Константин. — Тумены Чингисхана придут туда намного раньше.
— И что, мы никак не сможем помочь отбиться?
— А мы поступим хитрее, — прищурился князь. — Монголы же только пройдут через него, не захватывая.
— То есть как? — возмутился Славка. — Сам сказал, что Дербент неприступен, а теперь говоришь, что они вот так запросто через него протопают. Накладка получается.
— Никакой накладки. Они пройдут только потому, что сумеют захватить заложников. По сути, их сами дербентские старейшины проведут. Так вот, пусть жители сперва воочию на собственной шкуре узнают, что такое монголы, насколько они подлы и коварны, а уж потом придем мы — как заступники, ну и как потенциальные союзники.
— А они знают о том, что мы их назначили своими союзниками? — поинтересовался воевода.
— Даже не догадываются… пока, — улыбнулся Константин. — Равно как и аланы. Но как только к нам придут первые переселенцы из Франции и мы создадим в устье Дона свой город…
— Как символ российско-французской дружбы, — уточнил Вячеслав.
— Скорее как опорную базу на юге. Первую, но далеко не последнюю. Там еще и древняя Тмутаракань имеется, а в Крыму — Корсунь и Сурож или, как его еще называют, Судак…
— Крым в составе Рязанской Руси, — задумчиво произнес Вячеслав и посоветовал: — Ты только на Украине об этом не заикайся, а то Киев очень неадекватно все это воспримет.
— Еще раз тебе напоминаю, Слава, что Киев и есть центр нынешней Руси и будет им оставаться, ну, во всяком случае, до прихода Батыя точно. Украина же — это как раз наши земли, то есть Рязань, Муром и так далее. Название-то происходит от слова «край», то есть Украина и есть то, что лежит у края русских земель. Считай, что мы как раз восстановим историческую справедливость, присоединив Крым к украинской Рязанской Руси.
— Эва, как ты загнул, княже, — восхищенно покрутил головой воевода. — Вот только одно непонятно: мы что же — хохлы с тобой получаемся? А если я русским желаю оставаться, тогда как?
— Ну и оставайся, — усмехнулся Константин добродушно. — Чтоб ты знал — сейчас вообще нет такого различия. Одна у нас народность — славяне. Одной она и останется, пока страна едина.
— А удержим мы это единство?
— Тут тебе, пожалуй, точно никто не ответит, — грустно заметил князь. — Остается только Марка Аврелия процитировать: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет».
Минька внимательно поглядел на обоих, поднял свой кубок с медом и с чувством произнес:
— За это и выпить не грех.
— За что именно? — поинтересовался Славка.
— Да чего тут непонятного. За то, чтоб мы все правильно сделали, — улыбнулся Минька.
— Коротко так, но со вкусом, — одобрил тост Славка, сумев и здесь оставить за собой последнее слово.
Пировали друзья долго, никуда не торопясь, и потому спать легли, когда уже пропели первые петухи, но выспаться им толком не дали. Едва рассвело, как в ворота терема усиленно забарабанил измученный гонец, не соскочивший, а, скорее, сползший с взмыленной лошади.
— Беда, княже, — доложил он, с трудом шевеля замерзшими губами и из последних усилий тараща красные от недосыпа глаза. — Черниговцы Дон перешли. Ныне селище Пеньки зорят. Наши, как воевода повелел, по соседям сразу, а меня сюда вот. Насилу добрался.
И с этими словами он, как куль, свалился прямо у порога.
— И что за наказание, — ворчал вполголоса Вячеслав, седлая коня. — Как выпьешь, так наутро обязательно вводную подкидывают. Ну, хоть совсем завязывай.
Однако лошадей, невзирая ни на что, он оседлал быстро, не забыв прихватить и запасных, а на прощанье даже успел ухитриться озорно подмигнуть заспанной девке, ошалевшей от утреннего переполоха.
Глава 13
Кому лучше молиться?
Е. Ростопчина
- … Провидение предвидит,
- А не решает ничего за нас!
- Пред нами две дороги: впереди
- Ждет нас успех и радость или горе
- И неудача. Выбираем мы…
Они вышли рано утром. Снег еще отливал легкой синевой, временами отсвечивая чем-то неприятно желтым. Виной тому была огромная багровая луна, сумрачно глядящая на вытянувшуюся в сторону черного сурового леса длинную цепочку всадников.
Две сотни человек. У каждого — заводная[70] лошадь, к седлу которой приторочен вьюк с небольшой воилочной подстилкой, чтобы можно было улечься на снегу, и прочим нехитрым скарбом, включающим бронь, которую надевать не спешили — рано.
— Подождать бы еще пару седмиц, — буркнул вполголоса один из всадников, едущих впереди, с толстым носом, похожим на грушу.
Когда-то именно за это сходство его так и прозвали — Груша, прилепив имечко на всю жизнь. Он не обижался.
— А почто ждать-то? — поинтересовался у него совсем молодой дружинник, который держался почти рядом со своим опытным товарищем, уступая ему всего на какую-то четверть конного корпуса, да и то из уважения.
— Видал, луна-то какая? — проворчал Груша.
— И что с того? Нам же ехать лучше, раз все видно, — не понял молодой.
— Вот-вот. У тебя что имечко Спех, что сам ты — торопыга. А жизни не знаешь. Такая луна добра не сулит. При ней только ведьмам хорошо на шабаше крутиться да колдунам где-нибудь на перекрестке дорог черную ворожбу творить. А для воев вроде нас иное надобно.
— Ты, дядька Груша, о другом помысли, — возразил Спех. — Все равно мы только к утру подоспеем к селищу-то. Так что светит сейчас луна али нет — все едино.
— Вот дурень, — сплюнул в сердцах Груша. — Говорю же, несчастье она сулит.
— А может, не нам, а совсем наоборот — тем язычникам треклятым. Светлые ангелы-то все с нами — и помогут, и заступятся, ежели что. Да и заступаться, почитай, не придется. У них всего дворов с полета, как нам сказывали. Пусть даже по три мужика в каждом дворе, не менее, и то нас больше выходит. А мы ведь на конях, при мечах, при копьях, да тул со стрелами за спиной, — рассудительно заметил Спех. — Только вот как-то неладно в том селище получилось. Сказывали — язычники, язычники. Значит, надобно было крест на них надеть и все. А мы — аки тати. Налетели, пожгли, порубили, в полон взяли. Почему так?
— А это уж и вовсе на твоего ума дело, паря, — засопел недовольно пожилой и украдкой оглянулся по сторонам. — И чтоб я таких речей от тебя впредь не слыхал. То князьям нашим решать, а не нам с тобой. К тому же говорили нам, что ныне точно крестить будем.
Дело и впрямь обещало быть несложным. Всего-то и требовалось пинками загнать закостенелых в смертном грехе язычников в церковь, заставить окреститься, ну и малость пограбить, не без того.
Смущало Грушу только одно. Если бы это было селище своих князей, черниговских, а то оно стояло уже по другую сторону Дона, на рязанской земле.
Конечно, любой правитель своему соседу в таком богоугодном деле всегда готов подсобить, но и тут неувязочка получалась. Ни к кому из тех молодых князей, которые сейчас шли наводить порядок на чужой земле, рязанский князь Константин за помощью не обращался. Тогда выходило, что они идут просто в воровской набег, как тати ночные, а это плохо. Рязанцы могут и на копья вздеть.
Дальнейшие размышления Груши прервал негромкий голос самого старшего из князей — Мстислава Глебовича, сына умирающего ныне в Чернигове князя Глеба Святославовича:
— Не забудь уговор, попик, первое слово в обличении язычников за тобой.
Гнусавый голос попика Груша тоже слышал хорошо, но так и не понял, что он бормотал князю. Скорее всего, выражал какие-то опасения или говорил о том, что его попросту не станут слушать, потому что вскоре его перебил князь Мстислав:
— И не бойся ничего. Видишь, какая с нами сила идет. Давай-ка, двигай вперед, да побыстрее, а то уже околица недалече.
Сизые рассветные сумерки неприметно сменил хмурый пасмурный день. Пелена тяжелых снеговых туч, идущих откуда-то с запада, прочно скрывала солнце, не выпуская его хоть на минуту посветить людям. Лишь изредка там, где имелся небольшой просвет, облака, проплывая на фоне солнца, меняли свой цвет с сизого на розовый и даже багрово-красный. Приметив такое, старый седой Груша еще раз неуютно поежился и подумал: «Не к добру оно».
Естественную границу двух княжеств — Черниговского и Рязанского, которую извилисто очерчивал неширокий в этих местах Дон, они перемахнули уже засветло.
Да, Груша побаивался, но, с другой стороны, если взять тот случай полуторанедельной давности, когда черниговцы ходили зорить селище Пеньки, приметы тоже были недобрые, хоть с полдороги вертайся, но прошло ведь все удачно. Из добычи на долю Груши достался почти новый, хотя и малость куцый овчинный тулупчик, да еще пяток кун, что он нашел под стрехой в одной из убогих хатенок.
В тот раз их тоже вел попик, который уверял, что практически никто из Пеньков в истинного бога не верует, Христа не признает. Так что если даже где кому и встретится икона, то это одна видимость.
Правда, окрестить так никого и не удалось. Лесные бородачи так резво ухватились за топоры, вилы и косы, что, во избежание ненужных жертв среди своих, пришлось тут же брать их всех в мечи. Баб, что помоложе, прихватили с собой, остальных бросили посреди пепелища, но крестить почему-то никого не стали.
После Груша мельком глянул на полонянок и вновь ничего не понял. У тех, что понуро брели, связанные одной веревкой, поминутно спотыкаясь и падая, почти у каждой был на груди дешевенький деревянный или медный крестик.
— Как же так? — ошалело спросил его юный Спех.
Бедного парня долго рвало после первого же увиденного мужика-лесовика с разрубленной головой, лежащего возле собственного дома в луже крови. Правда, кресты на шеях полоненных баб он приметил всего у двоих, Груша-то поглазастее оказался, но ему и того хватило.
— У князей спроси. Им виднее, — буркнул в тот раз старый дружинник, желая отделаться от назойливого юнца, а тот, дурень, и впрямь рад стараться, чуть было не пошел спрашивать.
Хорошо, что Груша вовремя сумел его удержать при себе.
Жалко парня. Они ведь с одного селища родом, и даже хаты у них поблизости друг от дружки стояли. Возраст вот только. Но отца Спеха — своего погодка, старый дружинник хорошо знал. Да и мать его, которую, можно сказать, чуть ли не на коленях Груша нянчил, тоже ему неплохо знакома. Только давно уже там не был старый дружинник, забывать стал многое, а Спех в дружине всего третий месяц — всех сельчан помнит.
Взяли его в дружину за необычайную силушку. Крепким оказался деревенский бугай. Правда, толком пока еще не обучен ничему, но это дело поправимое. Главное, что желание у парня имеется, да и сноровкой небеса его не обидели. А обучить ратному ремеслу Груша своего земляка еще успеет. Чай, не последний день они на белом свете живут. Вот только луна уж больно зарделась. Не к добру.
Ныне они шли в Залесье. Прозывалось селище так потому, что и впрямь стояло не у самого Дона, как Пеньки, а за небольшим леском.
Попик рассказывал Груше, что само село богатое, но народ в нем больно темный да невежественный. На игрищах бесовских обряды языческие правят, березки завивают. Летом на Купалу через огонь прыгают, ему же дары приносят, как бога почитают. Иные же и вовсе огню своих покойников придают, пепел потом в сосуды собирают да в курганы зарывают, что испокон веков стоят перед Доном.
Сам попик не продержался на своем приходе и полгода. А все почему? За веру пострадал. Поганых идолищ, в лесу скрываемых, велел изничтожить, а жители отказались. Сам с топором пошел — не пустили.
Хитростью время позднее улучил, когда уже снег выпал, добрался до кумиров их сатанинских, изрубил все и щепу в огне спалил.
А через три дня нехристи осмелились на неслыханное кощунство — молча вынесли все иконы из старенькой церквушки и так же молчком в костер швырнули. А потом взяли его за шиворот и пинками вышвырнули вон из селища, пригрозив, что если сунется он еще раз к ним, то так дешево не отделается.
И пошел он по морозу лютому наг и бос, голодом и жаждой томим, пока добрые люди не подобрали и не приютили его.
И опять сомнения у Груши. Не был попик босым да и нагим тоже, — тулуп у него был на загляденье. А в котомке — он же помнит, сам был в числе тех, кто для молодого князя Гавриила Мстиславовича дань собирал на полюдье в своих селах, — снеди еще на два дня с лихвой оказалось.
Да и злобен поп больно. Знай одно шипит: жечь, дескать, язычников надобно, выжигать каленым железом нечисть поганую со святой земли. Зачем же так сурово? Разве Христос к такому звал: уверуй в меня, а не то убью, мол?
А еще у него на душе оттого тяжко было, что срубили они в Пеньках пятерых дружинников князя Константина. Ни один из них живым не ушел. Стало быть, скоро жди беды. Тем более что рязанский князь осильнел ныне — всю Владимирскую Русь под себя подмял.
Зачем такого зазря дразнить? Это ведь все равно что медведя в берлоге зимой будить, когда у самого ни рогатины, ни топора. Да что топор — ножа сапожного и то нет.
Задумался Груша и не углядел, как передние вои бросили своих коней в намет. Стало быть, скоро конец лесу. Ну, точно, вон и околица.
И тут отличия от Пеньков не оказалось. Вновь околица перегорожена, и вновь дружинники княжеские пятью копьями ощетинились.
Мало их, пятеро всего, а пощады не просят. Да и то взять — они же своих людишек защищают, за правое дело стоят, а он, Груша, зачем здесь оказался? Неужто бог простит, коли он на старости лет руки в крови невинных омоет?
Ох, как погано на душе! Да и не у него одного — вон они, сверстники Груши, тоже хмурятся, муторно им. Только мало их совсем — десяток от силы. Молодым князьям, известное дело, ровню подавай, они своим умом живут, спрашивать у других все едино ни о чем не станут.
А они, молодые, на расправу ловки. Ишь ты, как резво полетели! В кольцо взять хотят, из-за домов заходят, чтоб в спину ударить.
— А ты чего же? — толкнул кто-то в бок Грушу.
Обернулся тот, а перед ним княжич молодой. Хорошо хоть, что не свой — не Гавриил Мстиславич, а тот, который новгород-северский. От его распоряжений и отговориться можно, увертку найти. Да и не больно-то он допытываться станет. Сразу видно — так только спросил, для прилику. Вон как на коне гарцует да зубы скалит, предвкушая кровавую забаву.
Звать-то его по-русски Всеволодом Владимировичем, но посмотреть со стороны — степняк степняком. Видать, кровь матери, сестры грозного хана Юрия Кончаковича, оказалась сильнее, чем отца — Владимира Игоревича.
— Да негоже мне, старому, под копытами молодыми путаться, княже. Не столько подсоблю, сколько помешаю, — уклончиво ответил Груша.
— Ну, смотри тогда, старик, как надо рубить, — захохотал во всю глотку княжич и поскакал прямо на рязанских воев.
А Груше тоскливо. Ведь коли по правде сказать, то он с гораздо большей охотой сейчас рядом с теми пятью встал бы в один ряд. И не страшно, что убили бы, даже радостно маленько — за своих людей, за землю родную. Такую смерть за почет считать можно, особенно если пожил порядком.
Вот Спеха поберечь бы надо. Парню вроде как опять плохо, сызнова его мутит. Видать, это совесть его кровь невинную не принимает. А вот и рухнул последний из защитников сельчан. Хорошо они рубились — с десяток, не меньше, черниговцев положили. Добрые вои у князя Константина. Одна беда — мало их больно.
Молодые же дружинники мигом по селу рассыпались. У них иные забавы. Мужику, скажем, голову мечом снести, а еще лучше вкось его располовинить. Это не каждый может — тут сила нужна.
А еще надо, чтоб в душе жалость не шевелилась. Она в черном деле только помеха. Груше их не понять. Коли так тебе кровь любо лить — езжай в степь, с половцем поганым сразись, а своих…
— Рядом держись, — предупредил он Спеха.
По селу они ехали неспешно — муторно стало Груше от визга бабьего, от слез детских, вот и брел его конь чуть не шагом, а сам он, почитай, зажмурился совсем и по сторонам старался вовсе не смотреть. А визг все громче и громче.
Глянул Груша налево — никого. Глянул направо — лучше бы и не смотрел вовсе. Остроух, любимец княжича Гавриила Мстиславовича, тащит со двора сразу двоих девок за косы. Погодки, видать, годков двенадцать-тринадцать, не больше. Вдогон им мать бежит и голосит вовсю.
Следом за ними на крыльцо вышел вой по прозвищу Дикой. У того вся одежа и вовсе в крови, и руки красные, но тоже веселый, как и Остроух. К матери девок неспешно подошел, а в руках меч извивается, будто гадюка, ядом переполненная. Только вот гадюки зимой спят в укромных норах, а человек готов круглый год свой яд расточать. Видать, у него больше запасов, чем даже у змеи подколодной.
А вот и замахнулся уже Дикой, чтобы бабу глупую располовинить. И снова старый Груша зажмуриться хотел, да не успел, а потом у него и вовсе глаза от удивления расширились.
Не баба разрубленная на грязный, истоптанный снег снопом повалилась — Дикой рухнул, а в груди у него копьецо застряло. Славное копьецо, доброе. Груша его сразу признал. Сам помогал Спеху древко обстругивать, до ума довести. Так это что же получается-то?.. И только теперь дошло до Груши, что парень, которого в Пеньках мутило при виде крови, теперь решился-таки через себя самого переступить. Радоваться бы за Спеха надо — мужает на глазах сельчанин, хотя и промахнулся по первости так неудачно, а дружиннику старому отчего-то и вовсе муторно стало, хоть волком вой.
Остроуху в голову, видать, та же самая мысль пришла. Сплюнул он в сторону и неодобрительно головой покачал:
— Удар хороший — вон аж бронь прошиб, только что же ты так промахнулся неудачно? Ай-ай-ай. Не одобрит тебя Гавриил Мстиславич.
— А я не промахнулся, — тихо ему так Спех отвечает. — Я точно попал. Как дядька Груша учил.
— Что-то не пойму я тебя, малый, — враз посуровел Остроух.
— Ты детишек оставь, а я и тебя вразумлю, — таким же тихим голосом произнес Спех и меч из ножен потащил не спеша.
— На своих! — прошипел Остроух и тоже меч из ножен потянул.
— Да какой ты мне свой! — рассудительно заметил Спех. — Зверь ты. А зверь человеку своим не бывает.
«Ах, малый, малый, — с тоской подумал Груша. — Я же тебя всего-то двум-трем ударам научил да совсем немного — защите. Остроух же у Гавриила Мстиславича не зря в любимцах ходит — он во всем первый, а на мечах ему изо всех молодых и вовсе равных нет. Ну куда ж ты на рожон полез?»
— Сам полакомиться захотел, — двинулся Остроух на Спеха и кивая на девок.
— Нет, не захотел, — мотнул головой Спех. — Только у меня в селище такая же сестренка осталась, и этих девок ты не получишь, пока я живой.
— Это ненадолго, — обнадеживающе пообещал Остроух.
Шел он неспешно, крадучись. В ратном поединке вообще спешить нежелательно — княжеский любимец это хорошо знал. Девок Остроух выпустил. Чтобы Спеха убить, времени много не нужно, во всяком случае, ему, так что все равно далеко им не убежать. Он сделал еще шажок и осклабился в довольной улыбке — совсем глуп его враг. Не та у него стойка, неправильно у него все. Сейчас, сейчас он…
— Гей, Остроух, — раздался вдруг голос сзади.
Тот обернулся, стараясь одним глазом на Спеха поглядывать — не попытается ли в спину ударить, — но как увидел, кто с ним говорит, чуть на землю от удивления не сел. Да и было с чего — у молчальника Груши голос прорезался. Никак старый хрен за сельчанина своего просить станет.
— Допреж Спеха разомнись малость, со стариком меч скрести.
— Ну, давай, старый, позвеним клинками, — снова раздался шип Остроуха.
«Ну точно как гадюка, — подумалось Груше. — И голос один к одному. Как только таких людей земля носит? Впрочем, слыхал он от людей, что в дальних краях бывает, будто дрожит она иногда и даже трещинами под ногами расходится. Видать, слишком много погани там всякой скопилось, вот ее и трясет от омерзения. Хорошо, что на Руси пока такого не бывало. Значит, не так уж много таких вот гадов, как Остроух, по ней ходят».
Ну а он, Груша, теперь в меру сил своих постарается, чтобы их еще меньше стало. А нет, так что ж. Пожил свое, пора и честь знать. Пусть хоть и со своим в схватке сгинул, но за правое дело, а это самое важное. Да и правильно Спех сказал: «Разве зверь человеку может своим быть? Да никогда!»
Умеет старый Груша думать, даже когда мечом рубится. Может, иному думки те помехой были б, а ему — так нет. Даже помогают иной раз. Пока голова занята, рука сама знает, как ловчей клинок на клинок принять, как удар отбить, как его в сторону отвести, как врага сил лишить, а самому схитрить, прикапливая их для одного решающего мига.
Вот и сейчас мысли текут медленно и плавно, бою отнюдь не мешая. Теперь они на Спеха перекинулись. Тут тоже есть о чем подумать.
«Ну и молодец парень вырос! Так сказануть не каждый седоголовый сможет. В самое яблочко угодил. Да и копьецо метнул на славу. Опять же, силу какую иметь надо, чтоб добрую бронь прошить, все равно что ткань иголкой. Только что не насквозь, вот и все отличие.
А вот без своего старого дядьки Груши пропадет он, непременно пропадет. Где же ему среди стаи волков выжить? Значит, надо про смерть забыть пока. Нет у него, Груши, детей, не нажил. Но если бы сын был — хотелось, чтобы в точности такой же был, как и Спех. И силен парень, и сноровка есть, и слово может молвить, и душой покамест чист да светел, а оно, пожалуй, самое важное, что у человека есть. Если ж этого нет — человек ли он вообще?
Оп-па! Слишком глубоко ты, старый, задумался, вот и пропустил стальное жало. Рана в левую руку не смертельна, но кровь-то течет, руда исходит обратно к матери-земле, а значит, либо бой заканчивать надо поскорее, либо Остроух его сам закончит, а это плохо. Потом Спех и трех ударов не выстоит.
Ох, ты! И снова пропустил. В бок тоже пустяк, но это когда молодым был, а ныне уж не то. И Остроух почуял победу, засуетился, загорячился. Вот это уже хорошо. Вот это славно. Правду люди сказывали, что нет худа без добра. Да ты лезь, лезь на меня, а уж я отступать буду помалу. Отступать да готовить свое последнее спасение. Оно не подсобит — пиши пропало.
К тому же Остроух этой ухватки не знает. А все почему? Да стариков не уважал вроде меня, а ведь я и его по простоте душевной научил бы, когда еще не знал, что это за зверь.
Уйду я — уйдет и этот прием со мной. Хотя постой, — никуда он не уйдет. А Спех-то как же? Человека таким приемам тайным обучить — святое дело, потому как тот завсегда сильнее зверя должен быть, и не только словом. Иному это слово в голову только кулаком вбить можно, да еще вместе с зубами. Ну, кажись, пора».
А Спех, затаив дыхание и открыв от удивления рот, наблюдал за ходом схватки, не в силах сдержать изумления и восторга.
Чего греха таить, за те несколько месяцев, что он пробыл в дружине, Остроуха он уже успел невзлюбить, но только как человека. Остроухом-воином он все равно восхищался и тихо вздыхал по вечерам, мечтая, но не особо надеясь, что когда-нибудь, пусть через десять лет, тоже научится так ловко вертеть острым клинком.
Но чтобы дядька Груша, которого Спех стариком глубоким в душе считал, так умел мечом крутить — о том парень и подумать не мог. Только одного не знал Спех, что это была лебединая песня старого Груши, и пел он ее именно для него, Спеха, и во имя Спеха, и ради будущей жизни Спеха.
И все-таки достал окаянный Остроух дядьку. Эх, годы… Парень в отчаянии даже губу прикусил. Ну! Удержись же, милый! Как же я тебя такого раньше-то не знал! Ох, ты! Еще удар! Да будто и не в Грушу, а в него, Спеха, угодил меч. И как же больно-то стало! А еще того хуже, что видел, чувствовал молодой дружинник, как течет кровь из старого воина. Через его, Спеха, тело течет и на землю капает.
«Господи, да неужто ты не постоишь за дело правое, не поможешь тому, кто старается зло убить? Пусть у человека сил немного, но если бы каждый его так, как дядька Груша, норовил прихлопнуть, издохло бы оно давно и следа среди людей не оставило», — взмолился Спех.
Но молчали небеса, словно устал господь с них на землю взирать да осуждающе головой покачивать. Никто на горячую молитву не откликнулся, никто не поспешил правому делу подсобить.
И тогда в отчаянии взмолился парень к иным богам. Впрочем, к каким иным — своим родным, самым что ни на есть исконным, которым все его пращуры молились испокон веков, да и ныне не забывали. Во всяком случае, старики в родном селище Спеха до сих пор их почитали, хоть и тайно.
«Перун среброусый! Услышь простого парня, который за славой погнался, в дружину сам запросился, а потом, пусть не ведая того, но на черное дело пошел! Стоит он ныне как вкопанный и не знает, что ему делать. Если ты крови жаждешь, то дядька Груша в твою честь немало ее пролил. Он ведь как ты, только огненной бороды не имеет, но сердца-то одинаковые у вас — за честь, за правду и чтоб до конца».
То ли и впрямь помогла старому Груше искренняя молитва Спеха и услышал ее огнебородый Перун, то ли сам воин справился, но в тот миг, когда произнес парень мысленно последнее слово, и впрямь чудо произошло.
А как иначе происшедшее назвать? Ведь уже присел было на одно колено старый Груша, и кровью его — густой, почти черной, — мгновенно снег в этом месте окрасился. И Остроух уже прыгнул, чтоб к силе последнего удара добавить еще и силу всего своего тела, а сам поединок не просто завершить, но и красиво это сделать, но тут…
Не сам Груша в сторону отпрянул — человек так не сумеет, если только ему боги не пособят. И не смог бы старый дружинник так мастерски удар нанести по незащищенному боку Остроуха, если бы Перун своей дланью невидимой ему не подсобил, спасая старого дружинника от неминуемой гибели.
А потом все. Груша остался лежать, окончательно сил лишившись, а Остроух к нему пошел. Не торопясь двигался, медленно. А куда ему спешить если только прикончить старика лежащего осталось. Вот только чем ближе он к Груше приближался, тем шаг его все более робким становился, неуверенным, дрожащим. И сам он весь трясся от натуги, и меч в руках его, от земли еле-еле приподнятый, извивался, как гадюка издыхающая. И рада была бы змея хоть кого-то еще ужалить в свой последний час, да не дано ей это. Мучается она в злобе лютой, а изменить ничего не может.
Так и Остроух наконец сообразил, что с ним случилось. Глянул на свой правый бок, а из него не струйкой — ручьем на землю руда бежит, пузырится. И поняла гадюка, что помирать ей пришла пора, повалилась на землю да издохла.
Так они и лежали рядышком — человек и змея. Один два укуса гадючьих в себя принял, вторая слишком рано восторжествовала, и успел человек разрубить гадину. Разрубил, но и сам улегся. Вот только разрубленное уже не склеишь. Мертвая вода бывает лишь в сказке, а в жизни если и была бы, то никому и в голову не пришло змеюку подлую ею кропить.
Зато на всякий яд противоядие имеется. У каждого оно есть, но не каждый сумеет его использовать. А вот Груша сумел. К нему Спех один шаг всего шагнул, а воин старый застонал уже, будто почувствовал.
Впрочем, стонать — это беспомощных душой удел. Груша как раз не из таковских. Скорее прорычал он, только тихо, потому что глупо последние силы на рык тратить. Второй шаг Спех шагнул — и дядька, наставник его, пошевелился. Третий раз ногой ступил — тот вставать начал.
Кинулся Спех, чтобы помочь. Приобнял, встать подсобил, но едва Груша выпрямился, как тут же парня оттолкнул от себя.
— Девок спасай с бабой, — повелел грозно и, видя, что тот стоит, глазами обиженно хлопая, а с места не двигается, уже тише и мягче добавил: — Коли назвал их сестрами, так теперь должен непременно сберечь да от беды оградить.
Сам же у хлипкого плетня встал, раненой рукой чуть придерживая его, чтобы тот совсем не покосился, да еще и подумать успел по-хозяйски, мол, поправить бы не мешало.
Тут, откуда ни возьмись, и княжич явился, Гавриил Мстиславович, а за ним все его дружинники, числом чуть больше двух десятков.
— Кто его?.. — бросил коротко, увидев на земле труп любимца в луже крови.
Кто-то из молодых угодливо пальцем в Грушу ткнул.
— По-подлому, поди. Из-за угла, — констатировал князь, оценив рану.
— По-честному они бились, — возразил кто-то из старых воев.
— Груша по-честному Остроуха одолел? — усмехнулся князь, и молодые наперебой угодливо засмеялись.
— Я сам видел, — выступил вперед кто-то.
А у Груши туман какой-то в глазах непонятный. Зажмурил глаза — открыл снова. Пропал туман, не совсем, правда, а так, отдалился на время. Потом он опять подкрадется, но это уже неважно. Главное, что сейчас ему все видно. Все и всех. Оказывается, это Басыня за него вступился. Он еще раньше, чем Груша, в дружину пришел, ныне же и вовсе ветераном среди ветеранов был.
— Не верю, — сказал Гавриил Мстиславич.
Плохо сказал. Нельзя так говорить. Коль ты не веришь человеку, то зачем его в дружине держать? А коли держишь, почто тогда не веришь?
Словом иной раз больнее, чем рукой, ударить можно. На руку рука есть, а на слово как ответишь? Словом таким же? А если тебя оскорбили безвинно? Неужто унижаться до ответной брани? Тогда ты уже баба базарная, а не воин. Меч же достать нельзя. Ты на службе, да не на простой — на воинской. Он не начальник, а куда выше — командир. И ты не работаешь у него, не трудишься — служишь.
А как быть, если — ты не слуга? Тогда уходи лучше с этой службы. Совсем уходи. Басыня так и сделал, даже ждать ничего не стал.
— Ухожу я от тебя, князь, — сказал жестко.
Дружинники зашептались было, но Гавриил Мстиславич лишь глянул на них зло, и все разом примолкли.
— Уходи, — молвил князь. — Путь тебе чист.
Вольно тому, кто уходит, выбирать себе дорогу. Четыре их — и любая твоя. Нужно только правильный выбор сделать. Свой, а не чужой. Басыня выбрал. Он к плетню подошел, где Груша стоял. Тронул его легонько, а сказал грубовато:
— Подвинься, молокосос.
Слова людьми по-разному воспринимаются. Тут кое-что от воспитания зависит, еще больше — от характера, совсем много — от ума, от понимания. А еще капельку — от возраста. Это юнцу двадцатилетнему слово такое обидно услышать. Тридцатилетнему мужику просто смешно станет. Семидесятилетний старик, услышав такое от восьмидесятилетнего, пожалуй, и порадоваться может. Стало быть, ничего он еще, бодрый, коли его так называют.
В дружине же объятия с поцелуями да льстивые слова никогда в ходу не были. Больше все грубость мужская. Но и она опять-таки разная. Бывает обидная, колкая, чтобы унизить, растоптать. А бывает с теплотой души, больше на ласку похожая. Что еще мог сказать Басыня человеку, который всего на два года младше его самого был, а в дружину на четыре года позже попал, чтобы приободрить его? Как лучше он смог бы это сделать? Впрочем, хватило и того, что он просто рядом с ним встал.
— Ты сам свой путь выбрал, — вздохнул с сожалением князь и повелел: — Обоих взять.
И шага никто не сделал. Боязно. Одно дело — сотней на пятерых кидаться, дома поджигать беспрепятственно, мужиков безоружных рубить, похваляясь силой удара молодецкого, баб за косы в полон уводить, скот из хлева выгонять…
Тут же совсем другое. Тут тебе не коровы безропотные, а матерые быки у плетня стоят. Они шеи под мечи не подставят безропотно. Скорее, наоборот, чужую шею острыми рогами пропорют, да не одну.
Один хоть и подраненный, но за версту видно, что ему ныне все по плечу, захочет — гору своротит. Бывает такой день у каждого человека. Не каждый, правда, его угадывает, не каждый потом вспомнить может, а многим и вспомнить-то бывает нечего. Груше будет что. Если переживет, конечно.
Другой же и вовсе, хоть и старый такой же, но в соку, цел и невредим. К нему молодым бычкам лучше и вовсе не подходить. Эта пара в одночасье всему стаду укорот дать может. К тому же кто сказал, что их двое?..
Звонкий голос Спеха со стороны крыльца раздался:
— Ухожу я от тебя, княже.
Проворный дружинник и ответа традиционного дожидаться не стал — мигом к плетню подскочил, встал рядышком со стариками.
Теперь совсем трудно будет на них нападать. Тот же Спех не больно-то овладел наукой на мечах, но он уже ушел и ныне — вольный человек. А ну как он и вовсе меч в сторону откинет, а вместо него ухватит кого-нибудь из атакующих за ногу да начнет вертеть со всей силой вкруговую — попробуй дотянись.
Один только и есть у парня недостаток — молодость. С годами, конечно, она проходит, ну а пока… Ведь не должен он был к ним становиться, пока князь не скажет, что путь чист ему, иди, куда знаешь.
Впрочем, не бывало еще и такого, чтобы князь дружинника упрашивать стал, мол, останься, сделай милость. А если и бывало, так то князья лишь по названию были — не по духу. Гавриил Мстиславович себя подлинным считал, так что на такое унижение ни в жизнь бы не пошел.
Однако странное дело приключилось. Так ведь ничего князь и не ответил Спеху. С минуту, насупившись, разглядывал парня, будто диковинную птицу, ни разу доселе не виданную, а потом молча развернулся и прочь пошел. И все остальные следом за ним побрели, будто собаки побитые.
Бывает такое — вроде победил ты, а победа отчего-то не радует. Но есть и иное — как у тех троих, что остались. Вроде и не выиграли, да и битвы-то никакой не было, а в душе праздник, и только одного хочется — чтобы он никогда не кончался. Хотя это тоже не совсем верно — вечный праздник имеет обыкновение очень быстро в будни превращаться.
— Твой, что ли? — толкнул Басыня Грушу.
Тот напыжился от самодовольства сладкого, степенно нос почесал, из-за которого его так и прозвали, и изрек горделиво:
— Знамо, мой.
— Жаль парня, — вздохнул Басыня.
— Чего это? — встревожился Груша.
— Да похожи вы здорово. Значит, и у него такой же вырастет. — А глазами на нос могучий указал.
Ох, нельзя ведь Груше смеяться — раны открыться могут, которые только-только запеклись, но как тут удержаться, когда хочется, когда уже живот болит, а остановиться — мочи нет.
А Спех только улыбался. Коли дядька Груша на дядьку Басыню не обиделся за шутку насчет носа, то ему вроде бы тоже не след. Однако все-таки шибко громко над этим лучше не смеяться. К тому же спроси кто у парня: «Хотел бы ты вдвое больше нос иметь, чем тот, что у Груши, а к нему в придачу тебе вдвое больше и умения бы дали, чем у наставника твоего?» — он бы знал, что ответить. Ни минуты бы не промешкал, ни мгновения единого.
Да пускай хоть втрое больше нос у него вырастет — все равно. За то, чтобы так с мечом обращаться, как его старый сельчанин, ничем пожертвовать не жалко. Только вдвое больше умения ему не надо. Ему бы так, как дядька Груша, научиться.
А больше? Это ж все равно что звезду возжелать, которая на самом деле шляпка золотого гвоздика. Ими ангелы небо прибили. Одному гвоздик дай, другому вытащи, а там и небо само рухнет. Так что несбыточного желать нельзя. Не бывает умения выше Грушиного-то.






