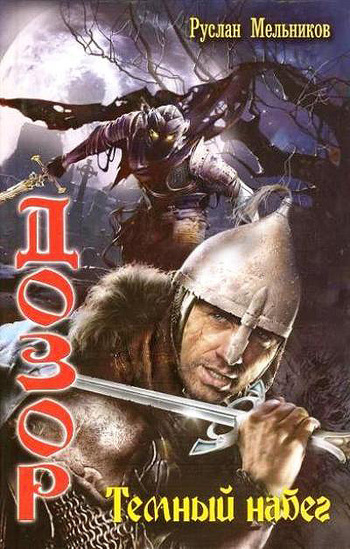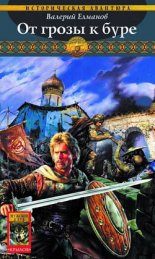Соль земли Марков Георгий

Весна запаздывала. Морозы держались стойко наперекор календарю. В марте по ночам ещё звонко лопался над озёрами и реками лёд. Метели бесновались без передышки по нескольку суток. В логах и на косогорах сугробы снега поднимались выше черёмуховых кустов. Казалось, что зиме не будет конца.
Но в середине апреля солнце прорвалось сквозь низкое свинцовое небо, и в Улуюлье наступила весна. Под снегом заколобродили неслышные ручьи, потом с яров и гор ринулись в таёжные речки потоки талых вод, лесистые заломы и каменистые перекаты огласились буйным шумом вешнего половодья. Неохватная ширь поднебесья покрылась живыми серыми пятнами: то двигались с просторов юга несметные стаи перелётных птиц. И хотя весна запаздывала, всё на улуюльской земле происходило так, как и год, и десять, и сто лет назад. Только люди не могли и не хотели повторять прожитого. Весна этого года не походила у них ни на какую другую, пережитую когда-либо раньше…
Книга первая
Глава первая
1
В окно громко постучали. Анастасия Фёдоровна встревоженно взглянула на Максима. Стук повторился. Звон стекла выразительно передал чьё-то нетерпение. Анастасия Фёдоровна быстро встала.
– Кто же это?
– Сиди, Настенька, я открою.
Максим поднялся из глубокого кресла и, направляясь к двери, посмотрел на часы, висевшие над письменным столом. Было два часа ночи.
Анастасия Фёдоровна проводила мужа взглядом. Шестой день Максим жил дома, и шестой день им не удавалось поговорить по-настоящему. С раннего утра до позднего вечера шли родственники, друзья, соседи…
На террасе послышался незнакомый голос, и вслед за Максимом в комнату вошёл человек в длинном глянцево-чёрном плаще. Плащ был мокрый, и струйки воды стекали на пол.
– Распишитесь за «молнию», Максим Матвеич, – проговорил почтальон, осторожно подавая телеграмму с красной наклейкой, обозначавшей, что доставить её надлежало в любое время дня и ночи.
Максим принял телеграмму и по-фронтовому на ладони расписался на отдельном продолговатом листочке.
– Благодарю вас, товарищ. – Он проводил почтальона и вернулся с нераспечатанной телеграммой.
Анастасия Фёдоровна стояла в такой позе, которая без слов говорила: «Ну скорей же! Не томи!»
Максим развернул телеграмму, прочитал вслух:
– «Областной комитет партии просит вас срочно прибыть Высокоярск по вопросу вашей дальнейшей работы. Выезд телеграфируйте. Секретарь обкома Ефремов».
– Да они что там? Столько лет человек воевал, не знал ни сна, ни отдыха, приехал к жене и детям, не успел ещё как следует выспаться – и опять куда-то! Нет, нет, это немыслимо! – Анастасия Фёдоровна взяла Максима за руку, прижала её к своему лицу и затихла.
Максим обнял жену, бережно усадил на диван, сел рядом.
За стеной свистел ветер. Упругие струйки дождя стучали в стекла высоких окон. Но как бы наперекор ненастью, стоявшему на дворе, где-то близко с задором горланили петухи.
– Ишь ведь как стараются! – сказала Анастасия Фёдоровна.
– Хороший, солнечный день чуют, Настенька, – вполголоса отозвался Максим.
И они опять замолчали, не решаясь говорить о том, что несла их жизни телеграмма, доставленная в глухой ночной час.
– Значит, едешь? – спросила наконец Анастасия Фёдоровна.
– Еду, Настенька.
– И когда?
– С первым поездом.
– Утром… – Она опустила голову.
Максим встал, расправил плечи, пригладил густые волосы. Надо бы как-то по-хорошему утешить жену, но нужных слов не находилось. Максим подумал о себе с острым неудовольствием: «Вояка! Разучился говорить с самым близким человеком».
Он прошёлся по комнате широкими медленными шагами.
– Это что-то очень важное, Настенька. Ефремов – человек чуткий. Он не позвал бы без крайней надобности.
– Чуткий? По-настоящему чуткий должен был и о твоей семье подумать.
– С государственной вышки виднее.
– Не оправдывай. Ты отвык от нас. Тебе лихо сидеть на одном месте…
Максим сдержался, чтобы не ответить резко, и, помолчав, подчёркнуто спокойно сказал:
– На войне, Настенька, я от многого отвык… А ставить свой покой превыше всего я никогда не привыкал.
Анастасия Фёдоровна вскочила.
– Что?..
– Ссориться не будем, Настенька.
– Нет, будем! Будем, если ты думаешь, что мы жили тут в своё удовольствие!
– Можно послать Ефремову телеграмму, попросить отсрочку дня на три.
Она поняла, что он делает ей уступку, и с горячностью сказала:
– Ни в коем случае!
Анастасия Фёдоровна подошла к шкафу с книгами и принялась что-то искать.
Она стояла к Максиму вполоборота, и он видел её высокий лоб, прямой нос, плотно сомкнутые губы, придававшие её лицу энергичное, волевое выражение, и мягко очерченный тенью от лампы точёный подбородок. Именно такой – строгой и до бесконечности нежной – виделась Максиму она в долгие фронтовые годы.
– Нашла! – сказала Анастасия Фёдоровна, вытаскивая из большой книги потёртый листок бумаги. – Возьми и прочитай вслух.
Максим бережно принял из её рук листок ученической тетради, не узнав вначале своего почерка.
– Читай!
– «Настенька! Всё получилось очень глупо, и эту глупость мы должны поделить с тобой поровну. Ты не поняла меня, а я не хотел понять тебя. Ты уехала… И вот теперь, когда тебя нет, я вижу, что, где бы ты ни была, куда бы ни уносила ты свою гордую душу, всё равно ты вернёшься, и мы будем вместе. В нашем тяготении друг к другу есть что-то необоримое. Маленькие таёжные ручейки, сливаясь воедино, умножают свои силы. Так и мы с тобой. Кто бы ни вставал на нашем пути, какие бы преграды ни воздвигались перед нами – всё рухнет от силы нашей любви. В жизни так много больших, настоящих дел, что, ей-богу, не время размениваться на мелкие чувствишки. Максим».
Анастасия Фёдоровна и Максим посмотрели друг другу в глаза вначале строго, как бы говоря: «Вот какие мы были!» – потом с нежностью. Эта короткая записка, свидетель их юности, растворила горький осадок.
– Ты помнишь, когда это было написано? – спросила Анастасия Фёдоровна.
– Ещё бы не помнить! Мы поссорились тогда с тобой из-за какого-то пустяка и чуть-чуть не испортили себе всю жизнь.
– Это было, Максим, пятнадцать лет тому назад.
– Ну что ж, я готов подписаться под этим посланием вновь. В нашей жизни, Настенька, действительно было много хорошего, а будет ещё больше. Будет!..
Они опять сели рядом. Максим поцеловал жену, взял со гибкую, сильную руку и не выпускал её из своей руки.
– Никогда не забуду, Максим, дни боёв под Сталинградом. От тебя три месяца – ни строчки. Временами казалось, что тебя уже нет в живых. В такие часы я брала эту записку, и она возвращала мне веру, давала силы для жизни…
Анастасия Фёдоровна говорила тихо, доверчиво. Максим сидел с закрытыми глазами. И он ведь тоже в трудные часы своей фронтовой жизни перечитывал её старые письма, черпая в них силы, в которых нуждалась его душа.
Ночь истекала. Дождь прошумел, омыв землю щедрыми струями, и затих, уступая место разгорающемуся рассвету.
2
Максим Отрогов был назначен заведующим отделом промышленности Высокоярского областного комитета партии. Вначале это предложение удивило его. Он имел степень кандидата философских наук и считал себя ближе к пропагандистской и научной работе, чем к хозяйственной деятельности. Максим высказал своё сомнение первому секретарю обкома Ефремову. Тот принялся горячо разубеждать:
– Именно потому, что вы философ и пропагандист, мы и решили выдвинуть вас на этот пост. Нам нужен не хозяйственник, а партийный работник, тем более что у вас за плечами опыт секретаря горкома, директора политехнического института, командира полка. Что же касается специальных вопросов, то вы их освоите в процессе работы. Главное в промышленности у нас – лес. Центральный Комитет партии и правительство серьёзно критикуют нас за состояние лесной промышленности. Перспективы же для развития этой отрасли хозяйства в нашей области безграничны. Думается, что вы сумеете повести дело энергично, с учётом наших больших возможностей.
Ефремов вопросительно посмотрел на Максима, и глаза его, затаив добрую усмешку, говорили: «Да ты же согласен, я вижу, что согласен, и зря тянешь, зря упрямишься».
– Ну что же, обкому виднее, какую работу мне дать, – сказал Максим.
– Вот это по-партийному.
– Когда приступить к работе?
– Как можно скорее. Местами уже начался сплав. Кроме того, Центральный Комитет и правительство приняли решение о развёртывании в нашей области новых леспромхозов. Работу эту надо начинать без промедления.
Помолчав, Ефремов заговорил другим тоном:
– Обком не забудет, что вы не отдыхали. Ордер на квартиру можете получить сегодня же. Телеграфируйте семье о переезде. Жену вашу также не оставим без дела.
– Я хотел бы, Иван Фёдорович, прежде всего выехать в районы, посмотреть, как живут люди. Не хочется начинать работу с кабинета.
– Поезжайте. Советую в Притаёжный район. Там у нас крупный леспромхоз «Горный». Кстати, и брата повидаете. Вы ещё не виделись с ним?
– Несколько лет не встречались.
3
И вот Максим ехал в Притаёжное. Снег недавно стаял, и земля курилась под солнцем розоватой испариной. Лес не успел ещё зазеленеть и стоял голый. Поля были бурыми, неуютными. Зеленели только бугры да загоны озимых.
Дорога в Притаёжное пролегала через лога, холмы, речушки, сердито бурлившие под старыми непрочными мостами. Ехали осторожно.
– Тут справедлива пословица: «Тише едешь, дальше будешь», – говорил Максим, сидя рядом с шофёром.
Связь Высокоярска с Притаёжным районом поддерживалась преимущественно речным путём. Летом на пароходах завозили в район товары, горючее, машины. Почта доставлялась либо самолётами, либо на автомобилях, а в распутицу на лошадях.
На половине пути от Высокоярска до Притаёжного машина Максима нагнала одинокого путника. Он шёл не торопясь, не по дороге, а возле неё (там меньше было грязи), опираясь на суковатый посох. Заслышав рокот мотора, он оглянулся, но не остановился, не поднял руку, а продолжал шагать дальше.
– Вы глядите, Максим Матвеич, какой гордый, даже подвезти не просит, – заметил шофёр.
– А он сейчас на Талиновский выселок свернёт, – сказал Максим.
Но человек с посохом в сторону не свернул, а продолжал идти по большой дороге.
Когда машина обгоняла человека, Максим оглядел его. Это был высокий сутулый старик. Морщинистое лицо его обросло кудрявой длинной бородой. Ветер трепал седины, ерошил их.
– Надо всё-таки подвезти!
Старик охотно принял приглашение. Он снял с плеч котомку, расстегнул суконное пальто и, втолкнув вначале посох, залез на заднее сиденье «эмки».
– Спасибо, добрые люди, а только я бы и своими ногами дошёл, – сказал старик певучим голосом.
– А ехать всё-таки лучше, папаша, – засмеялся шофёр.
– Конечно, лучше, но и дойти можно, – убеждённо сказал старик.
– Вы что же, местный или откуда-нибудь приехали? – спросил Максим, когда старик отдышался.
– Сейчас я издалека, а в прошлом был местный.
– Когда это – в прошлом?
– Из этих мест я ушёл ровно сорок лет тому назад, а пришёл сюда шестьдесят лет назад. И до того я жил на свете двадцать лет.
– По виду вам столько не дашь.
– На здоровье пока не в обиде. А всё же всему есть мера.
Старик замолчал. Максим обернулся и увидел, что выцветшие глаза его спутника стали грустными.
– А кто вы будете, добрые люди? – оживляясь, спросил старик.
Максим сказал, что едет в Притаёжное из Высокоярска по заданию обкома партии.
– От власти, значит, по государственным делам едете, – сделал заключение старик и, помолчав, усмехнулся: – Раньше я от властей хоронился, теперь с властями в одной машине еду.
– Вы, вероятно, из беглых каторжан были? – спросил Максим.
– Из них, добрый человек… Такое дело было. Служил я у тамбовского помещика Гранова. А у помещика жил в Петербурге сын – поручик. Что отец, что сын – не люди были, а звери. Как приедет сын к родителям на побывку, нашим девушкам житья нету. Обесчестит и бросит. Две наших девушки руки на себя наложили. Затаил я лютую злобу против молодого Гранова, стал сам не свой. А тут, как на грех, приезжает он опять и велит прийти вечером в хозяйский сад Марфуше. А у нас с ней всё уже договорено было: собирались осенью обвенчаться. Ну, идёт Марфуша в сад, а я уже там в кустах прячусь. В тот вечер и порешил его. Поймали меня, судили. Дали десять лет каторжных работ и вечное поселение на Сахалине. Марфуша пошла за мной. Не доходя до Томска, сбежал я. С той поры до семнадцатого года исколесил всю Сибирь. В двенадцатом году попал на Ленских приисках под расстрел, пули вокруг свистели, в трёх местах одёжу продырявили, а сам остался цел и невредим. Пока царское лихолетье было, двадцать фамилий переменил. Каких только кличек не носил: Залётный, Косач, Червонный, Петух, Скряга! Когда прогнали царя и богачей, вернулась ко мне родительская фамилия, стал я опять Мареем Добролётовым, с той поры на севере обитался, людям новые тропы торил.
Максим слушал затаив дыхание. Трудно было поверить, что одна человеческая жизнь может вместить столько лиха.
– А как дальше жить думаете? – спросил Максим.
– Похожу, посмотрю, добрый человек. Своё гнездо вить не стану. Долго ли жить-то осталось? Дела вот кое-какие управлю – и на покой, годы мои немалые.
– А какие же у вас дела могут быть?
– Есть кое-какие дела, есть, – уклонился от прямого ответа старик и попросил шофёра: – Остановись, добрый человек, у свёртка. Вам прямо, а мне налево.
– А память у вас хорошая. Даже повороты на дороге помните! – удивлённо воскликнул Максим.
– Да ведь как их забудешь, если сам тут все тропы торил, – объяснил старик. – Лесок вот местами гуще и выше стал. А так мало что изменилось. Местность, добрые люди, меняется от человека. А человек, видать, рук своих тут ещё не приложил.
Машина нырнула в лог, с рёвом поднялась на косогор и остановилась.
– Вот и сворот твой, дедушка, – сказал шофёр.
Старик вылезал из машины долго и неловко. Он был такой большой, что в дверцах «эмки» ему пришлось сгибаться почти вдвое.
– Сто коробов вам добра и счастья, добрые люди! – почти пропел старик, выйдя наконец из машины.
– Счастливой дороги, отец! – от души пожелал ему Максим.
4
Не доехав до Притаёжного километров сорок, машина свернула в сторону. Здесь неподалёку от тракта был расположен один из крупных леспромхозов Улуюлья – «Горный».
«Думаю, что секретарь райкома Артём Матвеевич Строгов не будет на меня в особой претензии за проникновение в низы «без ведома районных властей», – с усмешкой подумал Максим.
За годы пребывания в армии Максим отвык от «гражданки», и теперь ему хотелось без всякого промедления столкнуться с жизнью, посмотреть, как живут простые люди, узнать их думы. Кроме того, места, лежавшие от тракта к востоку, к реке Горной, были знакомы Максиму по детству и юности. Здесь он бывал с отцом на охоте в чернотропье (со второй половины сентября до снегопада). Но особенно часто Максиму приходилось бывать в сёлах и деревнях Улуюлья, когда он работал инструктором уездного комитета комсомола.
Дорога от тракта к леспромхозу шла через лес. Снеговые воды размыли колею, обнажили корни кедров и сосен. Машина часто подпрыгивала, остервенело гудела, колёса то и дело буксовали, яростно разбрызгивая грязь.
Максим сидел молча, и казалось, что он не замечает всех неудобств пути. Жадно всматривался он в распадки, поросшие густым кедровником, прислушивался к шуму, с которым катились через перекаты и валежник ручьи.
Всё тут стало теперь как-то по-иному: проще и обыкновеннее. Суковатые в два-три обхвата деревья, поражавшие тогда его своей высотой, будто вросли в землю. Неподступные хребты тоже как бы уменьшились. Максим пожалел, что этот лес, эта дорога, это небо не вызывают в нём прежних чувств. Правда, был один момент, когда он как бы перенёсся в детство: машина пересекала лог. По берегам ручья, протекавшего в логу, буйно рос чёрносмородинник. Объезжая рытвину, шофёр направил машину в кустарник. Под колёсами захрустели ломкие ветви смородины, и воздух наполнился густым терпким запахом. Запах этот был родным и близким Максиму. Ему живо представилось, что вокруг не весна, а осень. Деревья уже подёрнулись багрянцем, небо опустилось и стало свинцовым. Он, Максимка, идёт по лесу. Впереди бежит собака, она обнюхивает деревья и землю и, поглядывая на него, увлекает всё дальше от стана. День уже клонится к вечеру, а он с утра ещё ничего не ел. Он заходит в смородинник. Терпковатый, вкусный запах разжигает аппетит. В мешке, перекинутом через плечо, лежит кусок чёрного хлеба. Он вытаскивает хлеб, подходит к кусту, усеянному гроздьями ягод, и ест их с хлебом.
Автомобиль подпрыгнул, налетев на пенёк. Максим подскочил на сиденье, втянул голову в плечи, опасаясь удара.
– Ну и дорога, ни дна ей, ни покрышки! – выругался шофёр. – Как они тут только в ненастье ездят? Вы их пристыдите хорошенько, Максим Матвеич.
– Придётся.
Через полчаса показались разбросанные по берегу реки тёсовые крыши домов Весёлого. Повсюду топились бани. Дымок курчавился над ними и расползался по земле, разнося приятный, горьковатый запах смолы и жжёного кирпича.
Солнце перед закатом побагровело. Окна горели жарким огнём. Пылающими пятнами был подёрнут кедровник, тянувшийся сплошным массивом от Весёлого до Притаёжного по берегам реки Большой – около шестидесяти километров.
– В контору поедем, Максим Матвеич? – спросил шофёр, когда машина покатилась по широкой улице села.
– В конторе едва ли мы кого-нибудь захватим. День субботний.
– Куда же поедем?
– А вон домик с тремя белыми наличниками, подверни к нему.
– У леспромхоза, Максим Матвеич, наверняка заезжая квартира есть.
– Уж как-нибудь обойдёмся без неё.
Шофёр вопросительно посмотрел на Максима, но его намерений не понял. А Максим думал: «Любопытно, очень любопытно посмотреть, как живут сейчас наши люди. О чём думают? О чём говорят? Какие заботы их занимают?»
Хозяйка дома встретила Максима на крыльце. Это была немолодая женщина с полным приветливым лицом, сохранившим румянец на щеках. Голова её была повязана белым платком не по-старушечьи – клиньями, а вокруг головы – так повязывались раньше молодые сибирячки в первые два-три года замужества.
– Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, заночевать у вас можно? – обратился к женщине Максим.
– Заночевать? Можно, можно! Милости просим, – радушно проговорила хозяйка.
Из дому вышел широкоплечий, плотный мужчина, босой, в рубашке с расстёгнутым воротником, без пояса. Чёрные волосы его были ещё мокрыми и нерасчесанными, а смуглое, словно прокалённое лицо покрыто бисерными капельками пота. Видно, он только что вернулся из бани.
– Переночевать товарищ просится, – сказала женщина, взглянув на мужа.
– Зови. Дом большой.
И, осмотрев Максима с ног до головы, пригласил сам:
– Заезжайте, товарищи. А вы откуда будете, из района или из области?
– Из области, по делам едем.
– Проходите, а я побегу ворота шофёру открою. – Женщина легко сбежала по ступенькам крыльца.
Максим вошёл в дом. Хозяин провёл его во вторую половину и указал на стул.
– Располагайтесь тут, товарищ.
Он торопливо вышел куда-то, оставив Максима одного. Максим осмотрелся. В комнате было чисто и уютно, и он невольно оглядел себя – не принёс ли на одежде дорожную грязь.
Кроме широкой кровати с высоко взбитой периной и деревянного дивана, в углу стоял большой письменный стол, а над ним полки, заставленные книгами. Вся стена напротив окон была увешана фотографиями, вставленными в рамки под стекло.
Выше, над фотографиями, висел цветной портрет Ленина, оправленный нарядной золотистой рамкой с фигурной резьбой.
Максим давно, ещё до войны, заметил эту трогательную особенность людей колхозной деревни: вывешивать портреты Ленина и руководителей партии и государства вместе с семейными фотографиями.
Максим подошёл ближе, принялся рассматривать фотографии. За несколько минут он узнал, что хозяин дома служил в царской армии, имел Георгиевский крест, потом воевал в рядах Красной Армии, был участником двух окружных съездов потребительской кооперации; учился на областных курсах работников лесного хозяйства.
Два больших портрета, висевших с правой стороны, особенно привлекли внимание Максима. Открытые юношеские лица, такие же большеглазые и чернобровые, как у отца, смотрели в упор с доверчивостью и добродушием. «Сыновья», – подумал Максим.
Юноши были в обычной красноармейской форме: гимнастёрка со стоячим воротником, погоны, широкий ремень. За годы войны на фронте Максим встречался с тысячами таких людей. Он понял, что они не одногодки и боевая судьба у них тоже была неодинаковой. Старшему пришлось горше, тяжелее. Глаза его были полны страдания. «Этот видел и смерть и ужасы войны, и путь его по военной дороге был нелёгким», – подумал Максим.
Вошёл хозяин.
– Не желаете в баню сходить? Воды и пару на десятерых хватит. Баня у нас новая, чистая, – добавил он, видя нерешительность Максима.
Вначале Максим хотел отказаться, но, вспомнив, что торопиться ему сегодня некуда, а в деревенской бане он не был уже лет пятнадцать, согласился.
– Идите. Шофёр уже в бане.
– Это ваши сыновья? – спросил Максим, кивнув на портреты.
– Да. Этот старший – Семён. Всю войну от начала до конца прошёл. Танкист. Герой Советского Союза. Три дня до победы не дожил.
– Боевая у вас семья!
– Да я и сам послужил!.. В первую мировую три года, в гражданскую три года и два года в Великую Отечественную!
– Сколько же вам лет?
– Пятьдесят два года.
– Афанасий, приглашай гостя в баню, – послышался голос хозяйки.
– Идём, Саня, идём. А вы, видать, тоже немало послужили? – взглядывая на орденские ленточки на кителе Максима, спросил хозяин.
– Было, всё было, – отозвался Максим.
Когда Максим через час вместе с шофёром вернулся в дом, на столе, накрытом свежей белой скатертью, шумел медный самовар. От варёной картошки в эмалированной глубокой миске шёл вкусный парок. На тарелках – солёные грузди и рыжики, огурцы, помидоры, и такие на вид свежие, словно только что снятые с грядки. На концах стола – два пузатых стеклянных графина.
Один, тёмно-вишневый, графин не озадачил Максима. Там была водка, настоенная на сушёной чёрной смородине. Но что было в другом? Даже на взгляд чувствовалось, что эта золотисто-прозрачная жидкость плотнее и тяжелее, чем настойка.
«Заехали просто переночевать, а стали гостями», – мелькнуло в голове Максима, и он тут же вспомнил Европу, где провёл два с половиной года. Там он видел жизнь многих народов. Он мог бы немало рассказать о гостеприимстве трудовых людей, которых встречал на берегах Дуная, Вислы, Одера. Но тут было русское гостеприимство, своё, родное. Оно трогало и по-особому западало в душу.
Когда хозяин с хозяйкой начали приглашать Максима и шофёра за стол, Максим сказал:
– Вы нас встречаете как гостей. Давайте познакомимся. Иначе как-то неудобно. Меня зовут Максимом Матвеевичем. А вас?
– Фамилия наша Чернышёвы. Жену мою зовут Александрой, а по батюшке Степановной, а меня Афанасием Федотычем, – ответил хозяин.
Потом представился шофёр, назвавшийся Федей. Знакомство дало повод для первого тоста. Выпили с воодушевлением всё, что было налито в рюмки.
– Закусывайте, пожалуйста, хорошенько, – угощала хозяйка. – Люди мы лесные, у нас поэтому и пища лесная. А вы, Максим Матвеич, в грибочки-то подлейте кедрового маслица, у них сразу вкус другой будет…
Александра Степановна подала Максиму тяжёлый графин. «Так вот это что! Кедровое масло!» – вдруг обрадованно подумал Максим.
– У вас что же, маслобойка в селе? – с интересом спросил он, наливая в свою тарелку масло и любуясь его янтарной прозрачностью. Казалось, что масло было пронизано солнечным светом.
– В том-то и дело, что маслобойки нет. Кедровников много, и ореха собираем немало, а маслобойку построить не можем. Это масло я простым жимом в кадке отжал.
По тому, с какой горячностью всё это сказал Чернышёв, Максим почувствовал, что для хозяина этот вопрос был, как говорят, «наболевшим».
– Возможно, нерентабельно маслобойку строить? – осторожно усомнился Максим.
– У безруких людей всё нерентабельно! – воскликнул Чернышёв. – Дело это верное и доходное, да только начальство у нас в районе нерасторопное. Посудите сами: при среднем урожае в наших кедровниках можно шутя собрать полторы-две тысячи тонн ореха. Даже при простом отжиме каждая тонна худо-бедно даёт пять-шесть пудов первосортного масла.
– И то в разум возьмите, – вступила в разговор хозяйка, – растёт себе кедр, и ни корма, ни пойла ему не надо. Одну чистую пользу людям приносит! Уж не благородное ли растенье?!
– Да разве богатство только в орехе? – опять заговорил Чернышёв. – А само дерево? Ему же цены нет! Кедр хорошо клеится, полируется, спиртуется, гнётся. Саня, – вдруг обратился Чернышёв к жене, – принеси из кладовой образцы, покажем товарищам.
– Потом, Афанасий, после чаю, – попыталась удержать мужа хозяйка.
– Принесите, пожалуйста, сейчас, – попросил Максим.
Александра Степановна вышла и быстро вернулась с большой корзиной, наполненной полуметровыми чурочками толщиной в десять – пятнадцать сантиметров.
Чернышёв придвинул корзину к себе. Вынимая чурочки, он пояснял:
– Вот смотрите, дорогие товарищи: это кедр, склеенный с берёзой. Чем хуже дуба? Мебель из таких сортов до Москвы бы дошла. А это кедр, проспиртованный на горячих парах. Крепостью не уступит самшиту. А вот гнутый кедр после распаривания в кипятке. Это полированный кедр. Это кедр в лаке. Не дерево, а настоящий король лесов! – поблёскивая чёрными глазами, воскликнул хозяин.
Максим внимательно осмотрел куски дерева и, сложив их в корзину, спросил:
– Вы что же, для себя эти образцы изготовили?
– Давно лесами интересуюсь. От родителя это пошло. Он у меня по столярному делу был большой мастер. Я, правда, по-настоящему этого дела не постиг, а леса полюбил. Двадцатый год лесообъездчиком здесь служу.
– Они тут с директором леспромхоза хотели столярные мастерские развернуть, да получили по носу, – со смешком вставила Александра Степановна.
– Ты подожди, Саня, не забегай, я всё по порядку сам расскажу. Вы случайно не знаете Воскобойникова Петра Петровича? – обратился Чернышёв к Максиму. – Нет? Это директор нашего леспромхоза. Он тоже к лесам неравнодушный человек, вроде меня.
Задумали мы с ним организовать при леспромхозе цех деревообработки. Он написал в область подробную докладную записку, а мне поручил подготовить комплект образцов дерева. Материалы – спирт, лак, клей, – Воскобойников выписал в достатке. Через недельку-другую я подготовил все образцы, мы сколотили ящик, упаковали их и отправили в область. С месяц из треста не было никакого ответа. Вдруг как-то раз встречаю Петра Петровича. Вижу, приуныл он. «Ну, говорит, Афанасий, и дали же мне за твои образцы!.. Получил, говорит, такой нагоняй, что в другой раз об этом деле писать не захочешь». Вытаскивает он из кармана конверт, подаёт мне бумагу, говорит: «Читай!» Читаю я: «Ваш леспромхоз не всегда выполняет государственный план по основным видам работы, а вы, вместо того чтобы лучше руководить хозяйством, занимаетесь ерундой. Создавать цех деревообработки в леспромхозе «Горный» нецелесообразно уже по одному тому, что нет путей сообщения. Присланные образцы строительного материала будут использованы на выставке треста, организуемой к областной партийной конференции».
– Значит, образцы всё-таки не пропали зря! – засмеялся Максим.
– Как видите. После этого случая советовал я Петру Петровичу написать в министерство, но он заколебался. «Мне, говорит, неудобно, я всё-таки человек, подчинённый тресту, и должен выполнять его указания». Я написал письмо в Притаёжное секретарю райкома. Но, по правде сказать, доброго ничего не жду. В районе у нас только и разговоров: «Лён, лён!» Будто на нашей территории других богатств нету!
– Ну, а как дела в леспромхозе?
– Помогает государство! Давно ли война кончилась, а они уже тракторов, электрических пил наполучали, узкоколейную дорогу по участкам сейчас прокладывают. Воскобойников шутит: «Мы, говорит, коммунистический остров в таёжном океане». И правда! В леспромхоз приедешь, как в другое государство: электрический свет, автомобили, радио. А только и им нелегко работать в таёжном океане. Чуть за леспромхоз выйдешь – и утонул в бездорожье. Может быть, вы там близко к областному начальству, так похлопотали бы за наш район. Хоть и числится он в газете по сводкам на первом месте, а богатства его ещё не тронуты.
Чернышёв с большим увлечением начал рассказывать о запасах древесины, о пушных богатствах тайги, о неиспользованных промысловых угодьях. Знал он всё это хорошо, не раз, по-видимому, про себя подсчитывал, какой доход получит район, если его богатства разумно направить на пользу людей.
– А что, Афанасий Федотыч, вы могли бы все свои соображения изложить на бумаге? – выслушав Чернышёва до конца, спросил Максим.
– Писал я уже райкому. Две ученические тетради на свои учёные труды затратил, – не без иронии сказал Чернышёв.
– Напишите ещё раз. Теперь уже для обкома.
– Для обкома партии?
– Да.
Утром Максим отправился на лесоучастки. Вместо двух-трёх дней он прожил в Весёлом больше недели.
Глава вторая