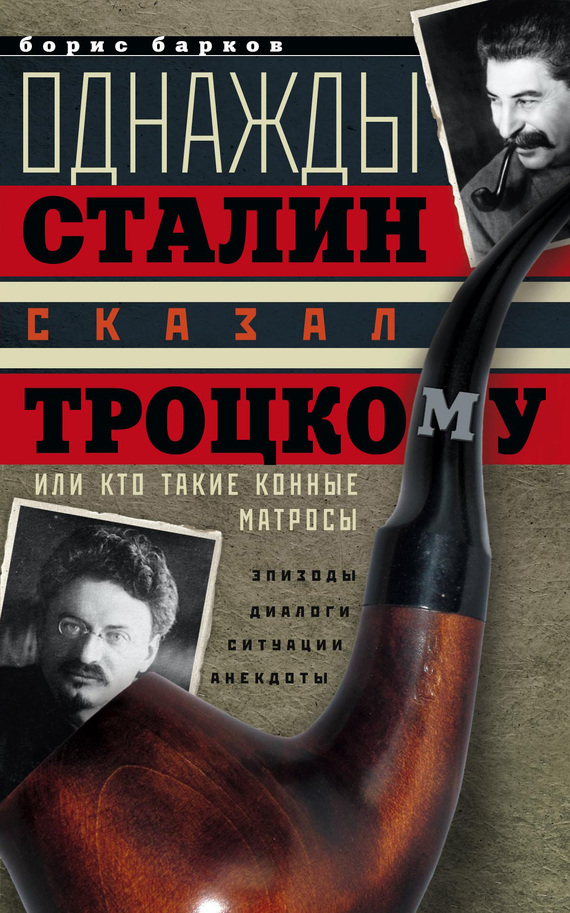Литературная рабыня: будни и праздники Соколовская Наталия

По дороге из аэропорта он молчит, только сжимает мою руку и озирается по сторонам, точно не понимает, куда попал. Ничего, три месяца назад со мной было то же самое.
Мы приезжаем домой. Он раскрывает чемодан и достает аккуратно завернутую в полотенце свежую зелень, молочный сулугуни, гранаты с обветренно-шершавой бугристой кожей, банку орехового варенья, две бутылки моего любимого «Ахашени», влажно дышащий лаваш и альбом с фотографиями…
Он говорит, что зелень, сулугуни и гранаты прислала его мама. Варенье – Мака, они с мужем постепенно приводят в порядок свой дом, но следы от пуль все равно проступают сквозь штукатурку. Вино – от Шурочки и Вовы-Ладо, которые очень меня любят и скучают. Лаваш он купил сегодня утром рядом с моим домом. Альбом собрала для меня Дочь. В нем – фотографии, скопившиеся за все годы жизни в моей Стране.
– А вот это, – и он достает связку сушеного инжира, – это от Нестан. Это со смоковницы в твоем дворе…
Я обливаю слезами эти сокровища и думаю о том, какую боль могут причинять притяжательные местоимения.
– Совсем отвык он нормальной жизни, – растерянно говорит Ираклий и просит включить новости. Он смотрит их все подряд по всем каналам. И взгляд его делается отсутствующим. Он совсем уходит от меня в ту жизнь, из которой только что вырвался. Так продолжается часа полтора, пока я не выключаю телевизор. Я сажусь рядом с Ираклием, прижимаю к груди его голову, глажу и целую, и схожу с ума от этой близости, а он все никак не может вернуться ко мне. Тогда я говорю:
– Ты помнишь, однажды летом мы поднялись на фуникулере к озеру, а потом пошли вверх, в горы. И весь город был перед нами как на ладони. Точно мы летели над ним. А потом был лес, хвойный, нет, смешанный, и земля, теплая, покрытая сухими иголками, травой и еще мелкими бледно-синими цветами, растущими на тонких стебельках… Помнишь? Хорошо, что на мне была пестрая блузка и немаркая юбка, потому что пятна от травы не отстирываются. В лопатку мне больно упирался камушек. Но я тебе ничего не сказала. А потом мы сидели на теплых, нагретых солнцем камнях с краю дороги, ведущей в город, и вдруг услышали ни с чем не сравнимый нежный звук, производимый кем-то невидимым, приближавшимся к нам из-за поворота. Звук был похож на то, как лопается мыльная пена в тазу, или на быстро-быстро перебираемые деревянные четки. Наконец из-за поворота появилось стадо овечек. Это их маленькие копытца стучали о каменистую сухую почву дороги. Овечки прошли мимо со звуком летнего быстрого дождя. А старый пастух, замыкавший стадо, снял свою круглую войлочную шапочку и поздоровался с нами…
Обеими ладонями я беру его лицо, и поворачиваю к себе, и смотрю в его глаза, и вижу, что он все помнит. Он обнимает меня и возвращается окончательно.
В следующий раз Ираклий прилетает в июле, через десять дней после рождения Ванечки. Он записывает ребенка на свою фамилию. Мы оба понимаем, что в складывающейся политической, так сказать, обстановке мальчику не очень полезно иметь чужестранную фамилию, но эта тема нами не обсуждается. Это так, и никак иначе быть не может. Он зовет мальчика Вано и целует его нежные крохотные пяточки. Месяц назад в разводе ему было отказано. Через месяц повторное заседание суда.
Ираклий рассказывает, что вместе с Вовой-Ладо они организовали независимое новостное агентство и начинают издавать собственную газету, работы невпроворот, и главное – опять война…
Он улетает, опалив слезами нежную макушечку нашего сына и оставив на моем пальце кольцо с горячим, исчерна-багровым гранатом, подарок Нино, его матери.
Вся моя дальнейшая жизнь похожа на выпущенный из рук мяч. Он катится под легкий, почти незаметный уклон быстро, изредка подпрыгивая на кочках, а я бегу за ним, иногда кажется, что вот-вот поймаю, порой даже успеваю заскочить немного вперед и подставить ногу… Но он опять выскальзывает.
А когда все же, спустя лет восемь, я ловлю его и, отдышавшись, смотрю назад, то не вижу ничего, кроме скучной, ничем не выдающейся, заурядной траектории этого пробега. И прихожу в отчаяние.
– Перестань, – утешают меня подруги № 1, уже давно и прочно обосновавшиеся в моей жизни, настолько прочно, что кажется, будто они были всегда. – Перестань. Что значит «бессмыслица»? У тебя же ребенок, и все сейчас подчинено ему. Смотри, он уже в школу пошел. Дальше будет легче.
И они, из самых лучших побуждений, внушают мне по очереди:
– Подумай о своей личной жизни, пока не поздно.
Не знают они, что ли, что – поздно. Нет у меня в этой личной жизни свободного места, как ни крути. Места нет. И жизни тоже нет. Все те годы, что я бежала за своим выскользнувшим из рук мячиком, я планомерно разрушала то, что еще, наверное, можно было построить. Или – нельзя. Кто теперь даст ответ на этот вопрос…
Тогда, через три месяца после рождения Ванечки, Ираклий развелся. Казалось бы, ничто не мешало нам быть окончательно вместе. В один из своих очередных таких кратковременных прилетов он говорит, что заберет нас с собой.
– Нет, – говорю я. – Сидеть дома, без работы, ждать тебя с очередной войнушки, на стену лезть от мысли, что тебя однажды там подстрелят или покалечат на каком-нибудь очередном митинге очередной оппозиции? Это я могу делать и здесь. И потом: школы почти не работают, все пошло вразнос… Надо подумать о будущем.
И еще что-то в том же духе… Я говорю долго и путано, и, наверное, все не о том. Потому что не знаю, не знаю, какое решение будет правильным…
Первые два года Ираклий прилетает часто. И сам по себе, и вырвавшись из Москвы, где освещает какие-нибудь очередные политические посиделки, которые ничего, кроме все большего и большего разлада, не приносят.
Ираклий сидит, поставив локти на стол, и двумя руками ерошит волосы. Он пьет пятый по счету стакан красного вина, поднимает время от времени голову и, обращаясь к кому-то за кадром, спрашивает:
– Нет, ну кто эти люди? Скажите мне, кто их мама, папа? Кто их учил и воспитывал? Кто их в политику пустил, наконец? Слушай, их ведь лечить надо.
Я в оппоненты по этому вопросу не гожусь, потому что согласна заранее со всем, что скажет Ираклий. И только добавляю:
– Точно. Лечить. И я даже знаю, у какого доктора. Был один такой. Дядюшка Фрейд. Знаешь? Вот всех этих ребят к нему бы на кушетку. Одних лечить от комплекса маленькой, но гордой горной птички, которая никак не может вырваться из тени крыл большого державного орла, а других от комплекса большого, но неудачливого в любовных делах старшего брата…
Мы хохочем, пьем вино, которое проникает прямо в кровь, и думаем, как здорово мы этих врагов всего живого приложили. Хотя по результатам получается, что – они нас.
…И опять эти душераздирающие расставанья, и слезы, и слова, что ненадолго…
Я прошу, чтобы Ираклий оставил свою куртку. Пусть висит в прихожей, будто он где-то здесь. А его-мой любимый летный несносимый свитер я еще в прошлый приезд заныкала.
Прощаясь, он твердит, что в следующий раз уедет только с нами. Я молчу. Да и сам Ираклий каждый раз верит в это все меньше и меньше. И однажды он говорит мне, точно с укором:
– Это ведь и твоя Страна…
Он даже не знает, насколько прав. И не просто Страна… Почти что Земля Обетованная. И я ничему не могу позволить разрушить этот образ. Иначе где я буду брать силы для жизни? Где я тогда вообще буду жить?..
…Ванечка ходит в садик. Я работаю в издательстве. Годы идут. Ираклий работает на войне, которая никак не прекращается то в одной, то в другой точке, а то сразу в нескольких. Когда смотришь на это дело со стороны, удивляешься изощренности кукловодов. Я понимаю, как тяжело ему разрываться между условно мирным существованьем, где я и сын, и определенно не мирным существованьем там, где его основная, как ни крути, жизнь. А главное, я и сама уже не понимаю, на каком свете живу.
И тогда я придумываю гнусную провокацию с Томилиным.
Томилин – поэт. А кем еще может быть человек с подобной фамилией? Его, в качестве приработка, подсуропила мне Наташка еще в то время, когда я сидела дома с Ванечкой и редко наведывалась в издательство.
– Ты посмотри на его опусы, он там переводит что-то нечеловеческое. – Наташка имела в виду расцветший пышным цветом жанр фэнтези: действие в этих книжках происходит не совсем на Земле и герои, соответственно, не совсем люди. – Твоего английского вполне хватит. У этих шедевров анатомия комиксов. Главное, чтобы языковых ляпов в переводах не было, ну и по смыслу там…
Наташка, как всегда, знала, о чем говорила. Переводная литература в те годы валом шла. А где взять столько профессиональных переводчиков, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос? Поэтому за дело брались все кому не лень. А иногда и кому лень. Особенно в этом отличилась еще в начале девяностых Прибалтика.
Поскольку братья-прибалты географически оказались ближе к цивилизации, то и модные тенденции они подхватили раньше. Правда, понятие об авторском праве и у них тогда еще не входило в представления о европейских ценностях… Так вот, переведенные местными умельцами романы из серии «Шедевры мирового кино» на долгое время стали сильнейшим лингвистическим шоком в моей жизни…
Впрочем, надо признать, что с переводной литературой у нас исторически все складывалось странно. Взять хотя бы Маркса…
Как-то подруга Маня рассказала историю, действующим лицом которой сама невольно оказалась.
Ее приятельница защищала докторскую по экономике. Дело было уже в перестроечные, но еще коммунистические времена. Дама обратилась к Манечке с просьбой перевести цитаты из Маркса, которые она обильно использовала в своем тексте. Наверное, она решила, что такая работа с первоисточником будет по достоинству оценена оппонентами. Манечка согласилась.
Никаких подвохов от классика девушки не ждали. А через неделю разразился страшный скандал. Оказалось, что канонический, десятилетиями воспроизводившийся перевод «Капитала» в некоторых существенных деталях отличается от Манечкиного. А уж в точности Манечкиного перевода сомневаться не приходилось.
Теперь, по крайней мере, стало понятно, почему нашу страну так трясло последние сто лет. И вообще, с «Капиталом» мы явно побежали впереди паровоза, первыми в мире осуществив перевод роковой книги.
Так однажды судьба всей шестой части суши оказалась в руках переводчиков…
И вот Наташка, чтобы случайно не усугубить положения дел на отдельно взятом участке новейшей истории (ведь кто даст гарантии, что плохо переведенное фэнтези, воспринятое фанатами как руководство к действию, не повлияет на судьбу человечества тем же роковым образом, что и Марксова книга), а заодно чтобы поправить мое хронически плохое материальное положение, – и отправила ко мне Томилина.
Томилин возник на пороге моего дома поздней осенью. На нем были сандалии, одетые поверх хэбэшных, сползающих к щиколоткам носков. В тот день, кажется, выпал снег. Прочие детали томилинского туалета оказались настолько маловыразительны на этом фоне, что стерлись из моей памяти.
Томилин снял сандалии и пошевелил пальцами ног в промокших носках. Потом покосился на тапки Ираклия, стоявшие в прихожей. Но я быстренько спрятала их, выдав гостю свои запасные, без задников. Томилин был огромен, его пепельные, с редкой сединой волосы в поэтическом беспорядке свисали на плечи, а маленькие серые глаза ласково посверкивали из давней небритости.
– Вам кофе или чай? – вежливо поинтересовалась я.
– Нет-нет, ничего не надо, – ответил Томилин немного поспешнее, чем следовало.
– Вы давно ели? – задала я наводящий вопрос.
– Вчера! – вдохновенно отозвался Томилин.
За окном был вечер уже сегодня.
– Грибной суп будете?
Томилин издал нечленораздельный рык всем организмом.
После третьей тарелки супа и двух стаканов чая с ватрушкой Томилин достал из авоськи, скромно болтавшейся на спинке стула, допотопную картонную папку с засаленными тесемками и надписью: «Личное дело. Хранить вечно».
– Знаете, Дарья Николаевна, – тогда мы еще были друг с другом по имени-отчеству, – стихи я теперь совсем забросил. – Лицо его опечалилось. – Вот. Перевожу. Надо же как-то на жизнь зарабатывать.
Насчет стихов я подумала, что, может, оно и к лучшему, а вот «зарабатывать на жизнь» – тут наши интересы совпадали.
…Сначала в разговорах с подругами я называла Томилина «мой приработок». Теперь он перешел в разряд почти «родственника». Свое свободное от основной работы время я посвящаю Томилину. А в промежутках – еще некоторым. Но «некоторые» – явления эпизодические. А Томилин – моя непреходящая ценность.
Про его личную жизнь мы с подругами знаем только, что у него где-то есть бывшая жена и ребенок, которого положительный Томилин пытается всячески содержать.
– Сегодня опять придет «родственник», – говорю я подруге Наташке. – Представляешь, совсем обленился. Валяет какой-то подстрочник, а я поверх текста прописываю больше половины. Но вообще-то, он милый.
– Платит? – С авторами Наташка придерживается строго деловой линии.
– Платит. Он говорит, что за то время, пока переводит все эти импортные опусы, выработал какую-то свою теорию написания бестселлера. Конечно, при таких глобальных задачах ему не до стилистических красот. Он там, знаешь ли, какой-то алгоритм в этих текстах ущучил. И скоро всех нас удивит. Он так утверждает.
– Могу себе представить. – Судя по голосу, идея бестселлера местного разлива в исполнении Томилина Наташку почему-то не вдохновляет. – Наверняка получится что-то вроде отечественных «Жигулей». По виду «Фиат», а по существу…
С течением времени материальное положение Томилина выправляется. Вид сандалий в конце октября уже не разрывает мне душу, и штрипки от треников больше не торчат зимой из-под томилинских джинсов. Меня это радует. Меня всегда радует, когда не только издатели, но и авторы вкупе с переводчиками наконец-то могут продемонстрировать свое растущее благосостояние.
Пару месяцев назад Томилин пригласил меня в театр с последующим посещением ресторана. Это новость. Кажется, на четвертом году нашего сотрудничества Томилин решил приударить за мной. Он настолько герой не моего романа, что я без колебаний согласилась. Не так часто я бываю на модных премьерах, а уж в ресторанах…
Мой пятилетний ангельски синеглазый сынок Ваня заявил, что я, конечно, могу идти в театр, он, мол, и с нянькой посидит. Потом помолчал и добавил:
– Можешь даже жениться на нем. Все равно я его зарежу.
Но перспектива страшной смерти не грозит бывшему поэту, переквалифицировавшемуся в делателя бестселлеров.
И вот Томилин сидит, занимая собой половину моей кухни, и ест третью тарелку супа. Это его обычная норма. Я всегда перед его приходом варю кастрюлю.
Раздается телефонный звонок. Характерный такой, междугородный. А может, уже и международный. Я устала следить за фазами обоюдного государственного маразма.
Я срочно хватаю с плиты горячую кастрюлю, то есть руки у меня заняты, и прошу Томилина взять трубочку.
Томилин говорит: «Алло!» – слушает и, чего-то недопонимая, переспрашивает, простая душа, своим низким ласковым голосом:
– Вам Дашеньку? Сейчас позову.
…К тому моменту, когда я, не спеша поставив кастрюлю на место, беру трубку, в ней уже нет ничего, кроме коротких гудков.
Томилин, продолжая прихлебывать суп, разглагольствует о современном положении дел в издательском бизнесе, полностью подменившем собой то, что раньше называлось литературным процессом, о размывании знаменитой российской школы художественного перевода, о дискредитации самого писательского труда. То есть, можно сказать, в собственной подрывной деятельности исповедуется…
А я, совершенно отключившись, чувствую только волны ужаса, которые холодом перекатываются внутри меня, и думаю: «Вот хотела же в детстве быть врачом и шла бы себе в хирурги. Мало кто умеет так ловко – по живому».
Месяца три нет никаких звонков. Только дважды кто-то с оказией привозит посылки. Каждый раз это сумка, полная игрушек и вещей для Ванечки, и еще – пакет с сушеными смоквами. Надо понимать, что это – для меня. И никакой даже записочки. Иногда звонит Шурочка, справляется, как наши дела. Всё.
Жизнь, если это можно назвать жизнью, продолжается. И я только тешу себя надеждой, что все сделала правильно.
Наконец звонит Ираклий. Мы говорим о Ванечке, о Нино, которая все чаще болеет, о моих родителях, о моей работе и его с Вовой-Ладо новостном агентстве… И ни о чем больше.
Он ничего не спрашивает, а я ничего не рассказываю. И этим самым он как бы подчеркивает, что догадывается о чем-то, а я подчеркиваю, что мне есть о чем молчать. Так вот у нас всё непросто.
Потом Ираклий долго разговаривает с Ванечкой, а я ухожу в другую комнату, чтобы выплакаться в его старый летный свитер.
Я плачу и вспоминаю Страну. Такой, какой сохранила ее для себя. Страну, в которой я по-прежнему могу поднять руку перед автобусом и он обязательно остановится, как такси. Страну, где я знаю одну по макушку ушедшую в землю базилику, весной всю покрытую фиалками. Страну, в которой люди, которых я люблю, останутся такими, какими я запомнила их в день нашего прощанья, и никто никогда не умрет, пока не умру я сама…
Сквозь слезы я еще умудряюсь порадоваться, что не дала никаким жизненным обстоятельствам разрушить этот мой заповедник, что обвела эти самые обстоятельства вокруг пальца…
Сижу, плачу и радуюсь. Вот про таких идиоток и говорят, наверное: «Сильная женщина».
Еще через полгода звонит Шурочка и сообщает с выжидательными интонациями в голосе, что Ираклий, кажется, надумал жениться. Я делаю вид, что, во-первых, это для меня уже не новость, во-вторых, что рада этому обстоятельству.
– А как же ты? – интересуется обескураженная Шурочка.
– А что я? У меня все нормально. Как, кстати, зовут нашу будущую жену?
Вот здорово, я, оказывается, и пошутить могу на эту тему.
– Нато. Она дизайнер одежды. Работает в Академии художеств.
Понятно. Далеко искать не пришлось. Академия находится в минуте ходьбы от офиса Ираклия. Как раз вверх по той самой лестнице, у верхушки которой растет моя шелковица. Сейчас лето, и вся земля под ней усеяна черными сладкими ягодами, а если протянуть руку… Стоп.
Я делаю вид, что закашлялась, говорю, пойду выпью воды, что-то в горло попало, желаю всем счастья и зову Шурочку и Вову-Ладо в гости, как только у них появится такая возможность.
Если Ираклий решил для себя, что от этого разговора зависит его свадьба, пусть считает, что я дала разрешение.
Ираклий звонит раз в месяц, иногда чаще. Мы разговариваем, как старые друзья. Через год, когда мой Ванечка пошел в первый класс, у Ираклия родился сын, которого назвали Вано.
Вот так, оказывается, два раза можно родить одного и того же мальчика.
С точки зрения работодателя, я не просто привлекательная, а просто чертовски привлекательная рабочая сила. Будь их, работодателей, воля, они бы штат формировали из таких вот, как я, одиноких баб с детьми. Это самый беспроигрышный вариант.
Во-первых, такие не отвлекаются на личную жизнь и, следовательно, всю лирическую энергию сублимируют в трудовую. Во-вторых, социальная незащищенность делает их особенно уязвимыми, поэтому ими легче манипулировать.
Им можно платить меньше: вряд ли они будут срываться с одного места ради гипотетических преимуществ на другом.
«Лучше синица в руках…» – вот их девиз. А их бабушки в схожих ситуациях еще добавляли: «Лишь бы не было войны…»
Таких можно брать практически голыми руками. Семьдесят процентов сотрудников любого учреждения страны до сих пор составляют одинокие женщины (конечно, если только это не сборная по футболу). Так говорит статистика.
По сути, эта нетребовательная рабсила – залог процветания страны в целом и отдельных личностей в частности. И я – одна из этой бесславной и бессловесной когорты.
То, что я, по случаю, профессию свою люблю, тоже, оказывается, не плюс. Для предпринимателя чрезвычайно мучительно осознавать, что платит он не только за работу, но и за удовольствие. Это противоречит его представлению о порядке вещей.
Эх, послать бы все к чертовой матери… Но есть еще сынок Ваня, который вырос и стал требовать в рацион мяса. Раньше он все больше на овощи налегал, а теперь вот полюбил мясо и исключительно в виде шашлыка. Видно, гены начали сказываться. И еще ему нравится одежда из хороших магазинов, а не с вещевых рынков. Про подозрительную курточку он высказывается односложно: «Не надену».
Интересно, может, у него в роду были князья? Мысль об этом резко повышает мою самооценку. Надо будет поинтересоваться при случае у Ираклия.
В первых числах ноября у нас с подругами № 1 и подругой Маней традиционный тематический девичник.
Каждый год в это время года на пороге моего дома появляется человек, похожий на героев фильмов Георгия Данелия, и вручает большую сумку с гостинцами. В сумке – трехлитровая бутыль с молодым вином, зелень, сыр, аджика, ореховое варенье и сушеные фрукты на всю зиму. Неделю или больше я хожу по дому как больная, вдыхая эти въевшиеся в подсознание запахи. В такие дни меня лучше не беспокоить по пустякам и не раздражать.
На этот раз в сумке оказался еще и жареный поросенок. Сбор назначен на другой же день.
Первые два литра распиваются под вздохи и ностальгические воспоминания. Я даже достаю из шкафа стреляные гильзы, свидетельство моего героического прошлого, и пересыпаю их из ладони в ладонь, как песок.
Специально для Ванечки сто первый раз рассказываются истории почти десятилетней давности: одна называется «Проспект», другая – «Война в городе». Для него это что-то вроде героического семейного преданья. Практически – эпоса.
Потом Ванечка отправляется делать уроки, и наш разговор переходит на обыденность.
Наташка щурится сквозь сигаретный дым и для разминки задает дежурный провокационный вопрос:
– Что на работе новенького?
– Новенького? Знаешь такого автора, Пушкин называется?
– И что.
– И ничего. Покет. Мягкая обложка. Избранные стихотворения. Потенциальный покупатель, как всегда, школьники, студенты, нищая интеллигенция. И название подходящее: «Свободы сеятель пустынный».
– Это ты поскромничала. Не надо себя так обуживать. Назвала бы уж сразу: «Зачем стадам дары свободы». Все равно те, кому это адресовано, предпочитают другие книги.
– Нечего иронизировать. Надо же и мне, бедной девушке, как-то самовыражаться. Еще текст на спиночку написала. Заканчивается словами: «„Пора, мой друг, пора“ читать и перечитывать Пушкина…»
– А предисловие чье? – ревниво интересуется Маня.
Я называю фамилию известной ей персоны. Маня поднимает надменную бровь, мол, что, никого получше для Пушкина не нашла?
Но один, который «получше», лекции читает в Сорбонне. Другая докторскую пишет. А сама Манечка за наш гонорар и с дивана встать поленилась бы.
Но сегодня она настроена миролюбиво. Так с ней бывает всегда после урока музыки. Да-да… Раз в неделю к Манечке приходит учительница, и они музицируют в четыре руки. Иногда к этим занятиям подключается Манечкин муж, иногда – сын. Когда я представляю себе эту идиллическую картину, несовершенство и убожество моей собственной жизни предстают передо мной во всей своей неприглядной наготе.
Сегодня утром Манечка играла в четыре руки сонаты Моцарта. Моцарта, который одним фактом своего существования оправдал факт существования человечества в целом. После этой встречи с прекрасным Манечка может позволить себе снисходительность. А я по инерции начинаю вяло оправдываться.
– Да нет, ничего себе получилось… Нужно только правильно поставить задачу. Хочется же чего-то свеженького, чтоб цепляло внимание. Хотя поначалу я и правда испугалась. Приходит такая дама, «жена литературоведа, сама литературовед», и начинает говорить о Пушкине на манер экскурсоводш из «Заповедника». Ну, думаю, если она так же, с придыханиями, предисловие накатает, нас не поймут. Давайте, говорю ей, сделаем на авторский лист только одни цитаты из воспоминаний и писем его друзей и недругов. Да еще его собственные высказывания, ну, вроде: «Догадал же меня черт с моим умом и талантом…» И далее – по тексту.
Наташка глубоко затягивается и колечками выпускает изо рта дым.
– А у нас тоже дама. В смысле – «дама сердца». В конторе все на ушах стоят. Наш директор хоть и не такой молодой, как твой, но еще норовит оприходовать все, что движется. Вот мы сидим и думаем: после того как он от первой жены ушел, у нас в издательстве финансовый кризис случился. Потом – любовница. Ну, там, машина, квартира и все, что полагается. Повышения зарплаты не было три года. Это при нашей-то инфляции. Потом он и от нее ушел. Колобок несчастный. Потом была вторая жена. Теперь к ней присовокупилась очередная любовница. А подарочный набор у нашего директора не меняется. Он способен на широкие жесты. Когда дело касается его личной жизни…
– Не знаю, не знаю, девочки… Вообще-то, сам факт существования таких мужчин должен вселять оптимизм. – Иногда Алька любит порассуждать на абстрактные темы.
Однако наше дело – обеспечивать чужой жизненный уровень и питаться крохами с барского стола. Тоскливо это как-то. А еще тоскливее жить без божества, не побоюсь этого слова, без вдохновенья…
Я поднимаю граненый стаканчик и смотрю, как мерцает в хрустале темно-красное, такое доходчивое до сознания вино. Оно мерцает тем же нутряным сердечным светом, что и гранатовое кольцо на моем безымянном пальце…
Не надо было нам говорить про работу. Тогда про что? Про последнюю премьеру в Мариинке Манечка нам в подробностях отчиталась, она же у нас, помимо своего Пушкинского Дома, сотрудничает с одним модным режиссером и премьеры не пропускает.
А что до нашей работы, то больно уж заедает абсурдность происходящего. Ну, разве это не абсурд – и Наташкин директор, например, и мой, например, рабочий процесс. Делаешь очередную, двести двадцать пятую или трехсотую по счету книгу в серию. Иногда прелестное получается издание. Как мой нынешний Пушкин. То есть результат труда вроде бы налицо. И это приятно. И первое время – год, два, три – ты эту приятность от процесса ощущаешь. Но в какой-то момент результат перестает быть результатом, а становится частью бесконечной текучки. Этаким бегом на месте. Движения производишь, а вперед не движешься. Как белка в колесе. И все время хочется чего-то большего.
Подруга Маня когда-то правильно заметила: это нас система Станиславского испортила, поиск всяких там сверхзадач. В общем, сплошной мы анахронизм.
– Ладно, не будем о грустном… Алька, как там твой царь, расскажи, что ли…
«Алькин царь» был очередным претендентом на роль внука чудом спасшегося царевича Алексея. А сама Алька была его литературным агентом. На волне опознания и перезахоронения царских останков «царь» ловко организовал научное опознание самого себя. Об этом вышла книга, тут же переведенная на английский. Далее последовало турне по городам и весям Америки. Поскольку своих царей там отродясь не было, то к чужому, даже не вполне доказанному, американцы отнеслись с трогательной серьезностью.
А теперь «Алькиному царю» показалось, что ему недодали каких-то процентов с продаж. И он затеял полновесное судебное разбирательство, обнаружив при этом отнюдь не царственную склочную сущность. Говорить об этом Альке явно не хочется, и она быстренько переводит стрелки:
– Томилина своего давно видела?
Томилин давно уже интересен девочкам не как источник моего дополнительного заработка, а как потенциальная возможность устройства моей личной жизни. К тому же «про любовь», даже гипотетическую, – всегда интересно.
– Недели две назад приходил с цветами, шампанским и конфетами. Книжку свою принес обмывать. Знаете, что сказал? «Ты, Дашенька, не удивляйся, ты здесь много разных знакомых текстов можешь встретить…» Ну, еще бы. Он же там какой-то алгоритм вывел. Говорит, еще два романа на подходе.
– И этот алгоритм сработал. Про томилинский роман уже в Интернете пишут – «первый русский action с элементами fantasy». Во как. Польша права купила.
– Ты, что ли, двигала?
– Издательство. Не так уж далеко им удалось двинуть. Но теперь по договору они его представители. Пусть трудятся. Твой Томилин нуждался во мне, когда здесь по началу надо было ходить и доказывать, какая у него замечательная проза. Теперь он при встрече только о высоких материях рассуждает. О тебе, дорогуша. Может, мне по совместительству еще и в свахи заделаться? – Алька смотрит на меня выжидающе. – Подругам гарантирую скидки. – Наверное, в глубине души Алька надеется, что при известной доле упорства томилинский алгоритм сработает и в моем случае. – Так вы с Томилиным, значит, все больше о литературе?
Я пожимаю плечами: о чем больше-то?
Так мы сидим допоздна, болтаем, и пьем чай со всякими южными вкусностями, и ждем, пока из Альки выветрится хмель и она сможет сесть за руль своего подержанного, но очень симпатичного «мерсика» и подбросить девочек до ближайшего метро.
Потом все уезжают. Ванечка спит, а я мою посуду и пытаюсь понять, что же я в своей жизни делаю не так.
У меня есть все шансы стать с годами нормальной городской сумасшедшей. Некоторые симптомы этого социально-медицинского явления наблюдаются уже теперь. Например, я разговариваю с невидимыми собеседниками. Их не так уж и много. Обычно – двое. Но времени на монологи (диалогами то, что происходит между нами, назвать сложно: мое воображение отказывается придумывать за них гипотетические ответы) уходит все больше и больше.
С одним я чаще всего беседую в метро или во время просмотра новостных программ по телевизору. Телевизор на мою мимику и редкие стонущие звуки не реагирует вовсе. А вот граждане в метро обеспокоенно заглядывают в глаза. Это происходит, очевидно, когда я, увлекшись, хлопочу лицом, доказывая что-то своему визави. Иногда мне даже кажется, что он понимает, о чем я говорю. Может быть, это потому, что мы оба – питерские. И не моя, кстати, вина, что вскоре этот эпитет станет почти ругательным, а сама ситуация обретет характер дежавю.
Иногда я встречаюсь с ним где-то на улице, что само по себе невероятно. Остается только предположить, что он, оторвавшись от охраны, решил прогуляться по родному городу во время очередного визита. И вот на углу, например, Малой Конюшенной и Шведского переулка мы сталкиваемся нос к носу.
Для начала я светски замечаю, мол, не странно ли, что два новопоставленных памятника отечественным классикам, Достоевскому у метро «Владимирская» и вот этот самый, Гоголю Николаю Васильевичу, мимо которого вы только что изволили пройти, оба как-то ну совершенно лицо воротят от окружающей их действительности… Какое совпадение, интересно, правда? Один скорбно сидит, другой скорбно стоит. Но смотрят оба строго в сторону. Не то что тот памятник с кепочкой в агрессивной позе рэпера… Вы его и заметить-то не успеваете, когда на бешеной скорости рассекаете Московский проспект по дороге из аэропорта. Вот интересно: никакого приличного писателя в такой стойке и представить себе невозможно, а политика – практически любого… И как это у вас получается?
Потом я быстро-быстро рассказываю обо всем, что думаю по поводу последних событий во внутренней и отчасти внешней политике. В общем, пользуясь моментом, беру на себя функции вопиющего гласа народа, то есть его уже совсем незначительной, но все же не вымершей окончательно части.
И еще интересуюсь как бы невзначай, кто же это из его референтов (ну ведь быть же не может, чтоб сам) придумал хохму с вертикалью власти. Это ж какую шутку может, оказывается, выкинуть подсознание! Ведь когда столько государственных мужей, мужчин то есть, в течение нескольких лет ни о чем другом с экранов телевизоров говорить не могут, кроме как об этой самой вертикали, которую надо то и дело укреплять, это ж бог знает что можно подумать! С такими проблемами надо к психоаналитику… И к тому же выражение лиц у этих важных товарищей таково, что понимаешь: почва, взрастившая их, была, к сожалению, ну просто вопиющим образом лишена культурного слоя…
И напоследок не забываю добавить что-то увещевательное и вполне бесполезное про «жестокий век», «свободу» и «милость к падшим». Но ответа не слышу, потому что в перспективе Малой Конюшенной улицы, там, где Гоголь прячет в воротник крылатки сардоническую усмешку, замечаю запыхавшуюся службу охраны и спешу ретироваться подобру-поздорову.
Семеня вдоль Мойки и прислушиваясь, нет ли за мной какого тяжелозвонкого скаканья, пытаюсь анализировать: может быть, припадки моей спорадической симпатии к тому человеку на Малой Конюшенной вызваны разновидностью стокгольмского синдрома? Никакого другого разумного объяснения я найти не могу. Возможно, что схожее, но тогда еще не описанное наукой чувство испытывал к своему венценосному соседу тот, чья тень склоняется сейчас над атласным плечом жены, в ее будуаре, на окно которого я успеваю бросить смущенный взгляд с набережной.
…Второй мой незримый собеседник – мой директор. Этому я, как правило, высказываю задним числом то, что, по каким-либо причинам, не высказала при личном общении. Чаще всего – из-за его улыбки. Такая улыбка дается от рождения. Она фирменная: широкая и обезоруживающая. После нее говорить неудобные вещи очень трудно. После такой улыбки вообще трудно найтись с ответом. Открытая улыбка Юрия Гагарина. Проехали! И вот я уже за дверью кабинета. Стою и декламирую ответную речь. Мысленно.
У директора тоже есть своя «вертикаль власти». Только называется она «объем продаж».
Когда я думаю о своем директоре, мне начинает казаться, что у меня раздвоение личности. Ну, правда: как можно к одному и тому же человеку испытывать такие двоякие чувства?
С одной стороны, он не может не нравиться. Этакое местное воплощение «американской мечты». Просто кино.
Из глубокой провинции приезжает мальчик. Поступает в полиграфический институт. Потом пишет письмо самому могущественному на тот момент в городе издателю. Издатель тронут до слез порывом почти отрока сеять разумное, доброе, вечное и приглашает его на работу. Пока на скромную должность сотрудника производственного отдела.
Ten years later. Опустившийся мужчина с мутным взглядом и следами самых изощренных излишеств на лице уже сорок минут сидит на шикарном кожаном диване под дверью кабинета и терпеливо ждет, когда его примут. Это бывший могущественный издатель. Теперь он подторговывает лежалыми макетами когда-то не вышедших книг.
Дверь распахивается. На пороге автор того самого исторического письма. Широкий приглашающий жест. Костюм от Армани. Ботинки ручной работы. Открытая улыбка. Всё, что вы хотели знать об издательском бизнесе, но стеснялись спросить!
В промежутке между первым и вторым событием – создание книжной империи. Ее величие и крах. И рождение на ее обломках сверхновых звезд разной величины. И еще – любовные истории, золотыми нитями пронизывающие повествование…Мой телефон обрывает десяток голливудских продюсеров, мечтающих получить еще не написанный сценарий…
Во всем этом что-то есть. С одной стороны.
А с другой… Мне, как выяснилось, неприятно быть средством достижения чьих-либо целей, кроме собственных. Мне не нравится быть чьим-то орудием труда. Средством производства. Вроде лопаты, лобзика или удочки. И еще мне надоедает прикидываться совсем уж дурой – делать вид, что я элементарных четырех действий математики не знаю и ничего не понимаю про прибыль. Надоедает сочувственно и лицемерно кивать, когда мне рассказывают истории про временные трудности. А потом, опять же, делать вид, что верю, когда мне в очередной раз обещают золотые горы. В светлом будущем, разумеется.
Надо полагать, симпатия к директору, как и в первом случае, вызвана местной разновидностью стокгольмского синдрома: деваться-то все равно некуда.
Мои сугубо односторонние отношения с директором напоминают не слишком счастливый брак. Так и живу. Отращиваю комплексы. Пестую неврозы.
И все-таки из издательства я однажды сходила налево. Правда, ненадолго. Всего на год. Но зато почти к олигарху. Эта маленькая, сладкая и поучительная для меня измена была спровоцирована несколькими факторами.
Во-первых, в издательстве настали очередные, повторяющиеся с завидной регулярностью хорошо отлаженного женского организма трудности. Критические дни, недели и даже месяцы. Трудности, конечно, быть могут. Но почему-то ложатся они в основном на плечи рядовых сотрудников и авторов, которым вдруг начинают задерживать зарплаты и гонорары.
Мое внутреннее, глубоко устаревшее и не имеющее никакого отношения к действительности чувство справедливости это почему-то задевает.
Во-вторых, мой уход был спровоцирован невыходом книги одной немолодой и очень хорошей писательницы, как раз из тех настоящих, которые на этом празднике жизни оказались лишними. Писательница эту книгу ждала-ждала, а потом заболела. Она болела несколько месяцев. За это время книга успела дойти до стадии верстки и даже макета. Дальше оставалась только типография. И тут как раз эти очередные трудности. Впрочем, более коммерчески надежным, на взгляд руководства, проектам ничто не помешало оказаться в типографии. А вот ее книжка застряла.
За это время ее болезнь приняла необратимые формы и вышла на финишную прямую. Писательница, пока еще могла звонить сама, звонила и просила:
– Дашенька, нельзя ли поторопить ваше начальство. Боюсь не дожить.
Потом стал звонить ее муж. Тихим просящим голосом он не то спрашивал, не то увещевал:
– Дашенька, может быть, можно что-нибудь сделать…
И я каждый божий день обивала начальственный порог.
Книга вышла через две недели после смерти автора.
В церкви, во время отпевания, я смотрела на ее нежный, мраморно-спокойный профиль и думала о том, какая она красавица. Она боялась старости и старалась всегда хорошо выглядеть. Сейчас ей можно было дать лет тридцать. Наверное, она поблагодарила бы меня за этот чистосердечный комплимент. Она умела быть ироничной и насмешливой. Ей бы это понравилось.
Я тогда страшно обозлилась и с руководством в одностороннем порядке разговаривать перестала. Полагаю, оно этого даже не заметило. А через неделю я подала заявление об уходе.
Это окончательно стало возможно благодаря третьему фактору.
Некоторое время назад на наше издательство выплыл нефтяной Почти-олигарх местного разлива. Никакой нефти в наших болотах отродясь не водилось. У нас просто трафик. Тоже страшно выгодная штука, оказывается.
Вообще, в последние годы стало престижным быть хоть как-то причастным к нефти. Говорила, говорила же мне еще в начале девяностых моя прогрессивно мыслящая московская приятельница: «Сейчас модно иметь хотя бы небольшую нефтяную трубу». Ну, если не иметь, то вовремя к ней пристроиться хотя бы.
Почти-олигарх развился из бывших комсомольских деятелей. А эти ребята всегда умели держать нос по ветру. И теперь Почти-олигарх написал книгу о своей жизни. А наше издательство выбрал как самое известное в городе и регионе.
Почти-олигарх подкатил к издательству на красном «Феррари» последней марки. И сам он слегка был похож на Аль Пачино. Только на провинциального Аль Пачино, который так никогда и не сыграл своей главной роли. А я-то ожидала увидеть дородного господина с незатейливым лицом человека, чуждого рефлексии… Все-таки приятно, когда рушатся стереотипы.
То обстоятельство, что в издательство Почти-олигарх явился собственной персоной, тоже разрушало стереотип: мог ведь не выпендриваться и прислать свой опус, например, с водителем.
Мое предположение, что книги за таких дядек пишут референты, тоже оказалось ошибочным. По крайней мере, в данном случае. Текст Почти-олигарха был живым и немного странным. Читать его было не скучно, мизансцены были построены правильно, так, чтобы читатель смеялся или грустил в нужном месте по желанию автора. Чувствовалась режиссерская рука.
Кстати, выяснилось, что автор в свое время закончил три курса театрального (вот и объяснение эффектного появления собственной персоной). Правда, потом его выгнали. Якобы за пьянство. На самом же деле кто-то стукнул на него за чтение чуть ли не на лекциях антисоветской литературы, а именно – оруэлловского «1984» в самопальном, но точно передававшем суть переводе. Однако дела раздувать не стали. Громких диссидентских историй тогда и без этого сопляка хватало.
В ближайший же призыв несостоявшийся актер загремел в армию, где развлекал командный состав игрой в художественной самодеятельности.
Из армии будущий Почти-олигарх вернулся если и не примиренный с окружающей действительностью, то вполне усвоивший, как надо в нее встраиваться, и пошел учиться в какой-то маловыразительный технический вуз, где стал сначала секретарем комсомольской организации курса, а со временем и всего института. Оттуда он плавно перебазировался в секретари горкома комсомола. Публичность ему шла, и он знал это. В душе он остался лицедеем.
Странность же тексту придавало то обстоятельство, что этот весьма успешный, очень не бедный да к тому же вполне симпатичный мужчина все время самоутверждался, рассказывая о своих многочисленных любовных победах.
Меня многочисленные лирические отступления в тексте устраивали. Разве могут испортить книгу истории, в которых красавицы то и дело самопроизвольно падают в объятия удачливого любовника, в которых присутствуют погони на автомобилях, драки с проникающими ранениями и медсестрички, отдающиеся герою прямо на больничной койке…
К тому же в книге с умеренной долей откровенности и довольно весело была поведана история о том, как ловко комсомольско-партийная братва провела приватизацию и что из этого вышло. Конкретно у Почти-олигарха вышла транзитная трубочка с нефтью, потому что он очень к месту обнаружил в себе коммерческую жилку. Все-таки он отымел государство за свою несостоявшуюся артистическую карьеру. Скупое повествование о криминальных разборках начала девяностых добавляло автору мужского обаяния.
Через день раздался телефонный звонок. Бархатный, хорошо поставленный мужской голос интересовался, как мне понравилась книга.
– Очень понравилась, – с чистой душой ответила я и попросила еще неделю времени, чтобы суммировать и потом обсудить с Почти-олигархом небольшую стилистическую правку.
Никаких далеко идущих планов относительно Почти-олигарха у меня не было. Просто любопытный эпизод, вклинившийся в рабочий процесс.
Через неделю он пригласил меня к себе домой, в двухэтажную квартиру на Английской набережной, где без всяких там пальцев веером принял мою действительно незначительную правку и рассказал еще с десяток любовно-криминальных историй, не вошедших в книгу.
В кабинете Почти-олигарха, довольно толково обставленном антикварной мебелью середины девятнадцатого века, на стене, возле массивного письменного стола, диссонируя с окружающим интерьером, висело весьма эротичное изображение нефтяной скважины в разрезе. Видимо, отверстия и все возможные способы проникновения в оные интересовали Почти-олигарха в принципе. Не исключено, что на уровне подсознания. А добыча нефти символизировала в гротескной форме этот увлекательный процесс на разных стадиях.
Как объект ухаживания я Почти-олигарха, по счастью, совершенно не интересовала. Сейчас ему нравились двадцатилетние длинноногие красотки. Одну он даже отбил у известного кинорежиссера.
Мы расстались, вполне довольные друг другом, и еще несколько раз общались по телефону.
По какой-то, мне не ведомой, причине выход олигарховой книги затянулся. А финансировать из собственного кармана ее издание он принципиально не хотел, справедливо полагая, что платить за удовольствие быть изданными должны авторы заведомо убыточных бездарных произведений. Его же книга имела все шансы не только выйти массовым тиражом, но и при некоторой раскрутке принести барыш.
Однажды он позвонил мне домой и пригласил зайти, чтобы обсудить некий проект. Выяснилось, что у моего Почти-олигарха назрела целая издательская программа. Книга, которая лежала в нашем издательстве, его уже мало интересовала. Теперь он хотел делать другой ее вариант – дорогой. С иллюстрациями хорошего художника, с фотографиями, запечатлевшими его славный путь от несостоявшегося актера до Почти-олигарха, а также с фотографиями его предков, прошлой и настоящей жены и детей. Переплет у этой книги должен был быть цвета нефти. Он именно так и выразился.
Потом порассуждал немного на тему, какой именно цвет нефти предпочесть, и спросил мое мнение на этот счет, чем привел меня в полное замешательство. Я и не знала, что нефть бывает разного цвета.
Заранее отметя красный, оранжевый и светло-синий, Почти-олигарх сосредоточился на зеленом и золотистом. Зеленом, потому что этот цвет напоминал ему о сукне на игорных столах Лас-Вегаса, где ему всегда сказочно везло.
А золотистом… Ну… Это в память об одном лете в Юрмале. Глаза Почти-олигарха подернулись нежной поволокой, однако от воспоминаний вслух он удержался. Тем более что сама история детально излагалась в книге.
Но это было не все.
Еще он хотел выпустить альбом, посвященный собственной компании. С рассказом о буднях и праздниках, об отечественных и западных партнерах. И главное – чтобы так это ненавязчиво создавался его образ…