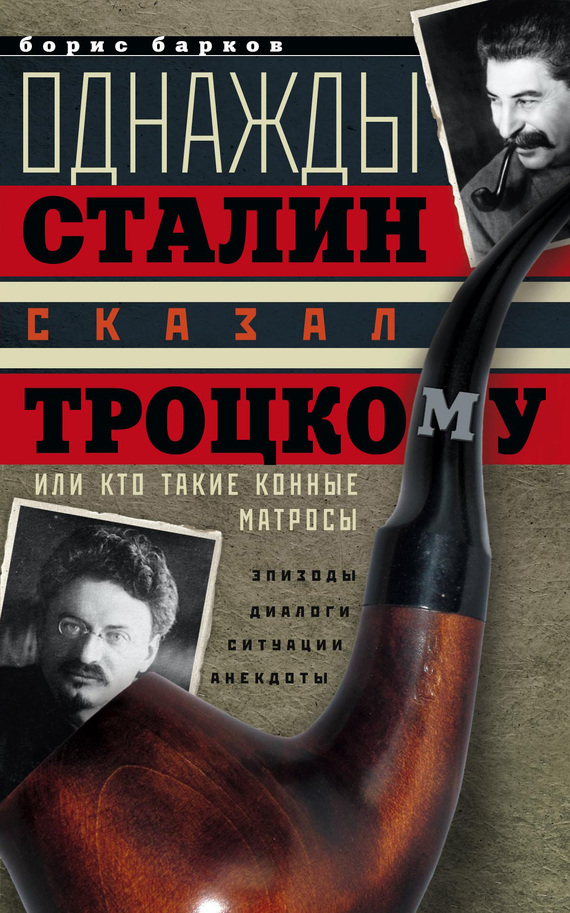Литературная рабыня: будни и праздники Соколовская Наталия

Дорога была пустой, изредка встречались машины, возвращающиеся домой, в район из города. На заднем сиденье переговаривались и тихо смеялись Полад и Лейла, а девочка уже давно спала, вытянувшись поперек их коленей.
Айдан косилась черными улыбчивыми глазами на Сережу и думала о том, что все страдания ее молодости, все раны и обиды залечила любовь этого красивого, совсем не по заслугам доставшегося ей человека. Потом, краснея в темноте, думала, как сегодня ночью будет шептать Сереже: «Мой золотой… Золотой мой…» – а он будет прижимать к своему лицу ее маленькие ладони и целовать их в самую серединку… И еще думала, как завтра, ну, или послезавтра все ему расскажет, а потом и Леночке с Айгюль…
Узкая, в две полосы, дорога заканчивалась, впереди сверкали огни трассы, ведущей в город. Айдан легко вздохнула и стала поправлять волосы, ради сегодняшнего концерта уложенные в высокую прическу…
А что было дальше, она уже не помнила.
Когда Айдан очнулась, кругом была кромешная чернота. Она лежала скрючившись в густой илистой воде, и, судя по звуку, вода стремительно прибывала. Уже глотая воду и задыхаясь, Айдан стала колотиться о дверь машины, и та неожиданно поддалась. Теряя сознание, Айдан рванулась наружу и через секунду обнаружила, что стоит по плечи в мелкой речке, в нескольких метрах от низкого моста с выбитыми перилами. Возле нее до половины торчало из воды колесо машины. Она оглянулась, позвала, но никто ей не отозвался. Тогда, даже не нырнув, а резко согнувшись и с головой уйдя под воду, она нащупала открытую дверцу машины.
Ее неумолимо выталкивало вверх, но она цеплялась за машину, пытаясь проникнуть внутрь и вытащить остальных.
Наконец она схватила чью-то руку и потянула и еще обрадовалась, что так легко пошло. Это была девочка. Завязая в илистом дне, Айдан потащила ее к берегу, и долго, ей казалось – очень долго, захлебываясь грязной водой, задыхаясь от ужаса и отчаяния, потому что там, внизу, ждали остальные и, главное, ее Сережа, Сереженька, пыталась вытолкнуть девочку на берег, а безвольное тельце ребенка все соскальзывало и соскальзывало по глинистому спуску…
Она как-то умостила девочку и ринулась назад. Она кричала, звала на помощь, но ни одна машина не проехала в этот час мимо, и жилья поблизости не было никакого…
Внизу она опять нащупала чье-то тело и стала тянуть за плечи наружу. Она все тянула и тянула, но ничего у нее не получалось, а тот, кого она тянула, ничем не мог помочь ей, а просто выскальзывал из ее рук так же, как выскальзывала сейчас из ее рук вся ее собственная жизнь…
…Их обнаружили музыканты, возвращавшиеся следом на автобусе. Переезжая низенький мост через узкую речку, даже на карте не обозначенную в силу своей незначительности, шофер увидел выбитые перила, развернул автобус поперек и осветил фарами воду возле моста и часть берега рядом.
И тогда все увидели торчащее из воды колесо машины и двух человек на берегу: женщину и ребенка. Женщина, сидя на земле, держала на руках мертвую девочку и раскачивалась, подняв в безлунное небо лицо, облепленное мокрыми седыми волосами. Из открытого рта женщины вырывался хрип. Это было все, что осталось от ее голоса, унесенного мутной и быстрой речной водой.
…В ту же ночь, уже в больнице, у Айдан случился выкидыш. Но она как бы и не заметила этого, как не замечала теперь ничего ни вокруг, ни внутри себя, потому что душа ее так и не поспела за ее телом, а осталась там, на берегу, где в сумерках рассвета уже толпились люди и специальный подъемный кран вытаскивал из воды на берег покореженную машину с мертвыми людьми.
…От смерти Айдан спасли ее волосы. Они смягчили удар перевернувшейся машины о воду. Полад, Лейла и девочка захлебнулись, так и не придя в сознание. А Сережа умер от разрыва сердца еще до того, как машина упала с моста. Наверное, он успел осознать все, что должно было через миг случиться с ними.
Выныриваю из этой истории и сама хватаю ртом воздух от ужаса. Как же она пережила все это, такая маленькая, такая нежная… Как же у нее хватило сил жить дальше…
Через несколько дней собираю подруг № 1. Рассказываю историю Айдан. Девушки молчат, переваривают, интересуются, что потом.
– А потом я, как прочитала, поехала к ней, в Ломоносов, где она с сыном живет. Даже не в Ломоносов, а еще дальше, в деревню какую-то, полчаса на автобусе по жуткой дороге. Хорошо, списались по емеле, так она меня на остановке встретила. Деревня – одни хибары. Жилых домов всего несколько. Правда, летом еще дачники приезжают.
– Как же ее занесло на другой конец света?
– Да я уже примерно догадалась – как. Вот и поехала удостовериться. В книжке она об этом вскользь и как-то невнятно говорит. Такое ощущение, что у нее на том кошмаре с аварией жизнь кончилась, а все остальное она уже воспринимает так, через запятую.
В общем, заходим в дом. Не дом, а полуразвалюха. В прихожей ведро с водой, утварь всякая домашняя, доски скрипят под ногами. В первой комнате светло, мебель хорошая, сервант с красивой посудой… Из большой комнаты раскрыта дверь еще в одну. Там за столом, возле компьютера, мальчик в инвалидном кресле. Ну, не мальчик, конечно, ему уже двадцать один год. Красивый такой, кареглазый, смуглый, на Айдан чем-то похож… За его спиной, на стене, ковер висит. Саваланов. Сбоку дверь еще в одну комнату.
– А сын откуда взялся?
– Это потом расскажу. В большой комнате вижу двух старушек. Ухоженные такие старушки, в чистеньких платьицах, с аккуратными седыми стрижечками… Одна совсем не ходячая, видно. Сидит у стола, очки на носу, ничего не слышит, пасьянс раскладывает. Вторая, что помоложе, как мы вошли, подхватилась навстречу. Оказалось – Леночка, мать Сережи, а старшая – Степанида, Леночкина сестра. А мальчик приветливый такой, рукой помахал мне, поздоровался.
– Это мой Сереженька, – сказала Айдан про сына.
Я смотрю, а на коленях у него сидит маленькая собачонка дорогущей породы, как же это… О! Йоркширский терьер, представляете?
– Откуда у них такая?
– От соседа. Сережа потом рассказал. Год назад умер Гриша, их сосед-бомж. А за три года до того умерла его жена. А еще раньше они в деревню из города пришли и поселились по соседству, в пустующей развалюхе, почти сарае. В первой половине девяностых они, уже пенсионеры, продали свою двухкомнатную квартиру через какую-то липовую фирму. Им обещали найти однокомнатную: и на жизнь останется, и квартплату меньше платить… В итоге остались они на улице. А Гриша в доисторические времена инженером работал, конструировал что-то. Интеллигентным, как он говорил, был человеком. Короче. Когда жена его умерла, он от тоски решил купить собачку. Но понимал, что сам долго не протянет, старый уже. Любая собака намного переживет его. Тогда он придумал купить дорогую собачку, чтобы соседи ее потом пожалели на улице оставить, а взяли к себе. Гриша наскреб денег, пенсию откладывал, продал что-то, бутылки ездил собирать в город… В общем, купил собачку и назвал Слезкой. Наверно, потому, что она была маленькой и, в силу щенячьего возраста и особенностей характера, очень писклявой. А может, настроение такое грустное у Гриши в тот момент случилось.
Гриша помер, а единственными его соседями были как раз Айдан с двумя старухами на руках и сыном-инвалидом. Вот Айдан и осталась при породистой собаке. Правда, сначала она на свои деньги Гришу похоронила.
Но самое удивительное, что эта собака оказалась поющей. Правда. Не смейтесь, девочки. Айдан это случайно обнаружила. Она же напевает все время. А собачонка как-то слушала-слушала, а потом начала ей подвывать. Так вот, пока Айдан и Леночка на стол накрывали, я с этой Слезкой немножко повыла. Что смотрите? Знаете, как хорошо действует на психику? Сначала мы потихоньку выли, а потом все громче. Это очень затягивает, как выяснилось. Вдруг чувствую, что я уже не только подвываю в унисон собаке, но вою в полную силу и вовсю плачу к тому же, хотя сначала самой смешно было. В общем, и повыла я от души, и поплакала. Зато потом как будто отпустило меня, так легко стало, так свободно. Сама я, без собаки, на подобную психотерапию ни за что не отважилась бы…
– А хозяева как на твое вытье отреагировали?
– Да нормально отреагировали. Они, может, сами так лечатся. Спросить неудобно было.
– С этим понятно. Вытье дуэтом с собакой – это, конечно, сильно. Но все-таки откуда сын и как ее занесло в наши края… – деликатно возвращает меня к теме нашей сегодняшней встречи Наташка.
– Про это она ни за что рассказывать не стала, пока мы в доме были. А потом предложила мне прогуляться, местные красоты, так сказать, обозреть…
На похороны Айдан из больницы не отпустили. Да она и не рвалась туда. Она вообще не выказывала никаких желаний, а просто сидела, поджав по-турецки ноги, расчесывала длинные седые волосы и беззвучно шевелила губами. Когда через три недели Айгюль и Леночка, еле живая от горя, пришли забирать ее, то увидели, что выглядит Айдан едва ли не старше их самих.
Ни петь, ни говорить Айдан не могла. Ни про какую консерваторию никто уже не вспоминал. Сначала Айдан просто сидела и смотрела в одну точку, изредка отвлекаясь от этого занятия на еду, которую силком запихивали в нее Айгюль и Леночка. Потом, прислушиваясь к тихим скорбным увещеваниям Леночки, начала делать какую-то работу по дому. Потом, укрывшись с головой черным платком, стала выходить в магазин или в аптеку, потому что Леночка начала все чаще жаловаться на сердце и слабеть. Так прошло еще два года, которые Айдан не заметила. Как не заметила и то, что жизнь в городе давно и сильно изменилась.
К действительности Айдан вернулась в тот день, когда услышала выстрелы, прозвучавшие в их подъезде, чуть ли не под самой их с Леночкой дверью, как ей тогда показалось. И тут же раздался звонок Айгюль, которая кричала в телефонную трубку так, что было слышно на всю их квартиру. Айгюль кричала, что под ней, где Григоряны живут, стрельба, и зачем же они не поменяли на дверях табличку с фамилией, несчастные, кричала Айгюль, а сейчас она смотрит во двор и видит, как из подъезда выскочили какие-то мужчины и теперь убегают…
Когда Айгюль закончила кричать, Айдан подхватилась с места и ринулась на лестницу. Леночка даже охнуть не успела.
Беззвучно шевеля губами, Айдан смотрела несколько секунд на лежавших в прихожей в луже крови расстрелянных мужчину и женщину, а потом осторожно перешагнула через них и, невзирая на протесты Айгюль и Леночки, прибежавших следом, прошла внутрь квартиры.
Она знала, что где-то там должен быть четырехлетний Саргис, Сережа, как она его про себя звала. Айдан часто смотрела, укрывшись за шторой, как Гаянэ, их нижняя соседка, гуляет во дворе с сыном. И теперь она должна была найти мальчика.
Айдан металась по квартире, открывая дверцы шкафов, падая на пол и заглядывая под кровати. Ребенка нигде не было. Надо было позвать мальчика, чтобы он откликнулся из своего укрытия, но вот этого Айдан как раз и не могла сделать.
Пока Айгюль с Леночкой голосили в дверях, она старалась выдавить хотя бы звук из своего онемевшего, сведенного судорогой горла. Она стояла посреди квартиры, схватившись обеими руками за шею с вздувшимися жилами, точно хотела разорвать ее, и пыталась произнести имя мальчика. И наконец полупропела-полупроговорила:
– Сарги-и-ис! – и потом еще раз: – Сарги-и-ис! – и вдруг произнесла громко целую фразу: – Саргис, не бойся, это я, Айдан, где ты?
И тогда в ответ с лоджии, из-под старой плетеной корзины для фруктов, послышался тихий плач ребенка.
Айдан бросилась в лоджию, подхватила мальчика на руки, обмотала его голову своим черным платком, и, пока тот крутился, пытаясь высвободиться, она, перешагнув через его мертвых родителей, уже летела по лестнице наверх.
Сначала Айдан боялась, что мальчика у нее отнимут, и даже в квартире не отпускала его от себя ни на минуту, а на улицу они в те страшные дни и вовсе не ходили, питались домашними запасами. Благо заготовок Леночка и Айгюль делали каждый раз не на одну зиму.
Когда спустя пять дней поздно вечером в их дверь позвонил мужчина в черном и спросил о мальчике, Айдан заслонила собой кроватку со спящим Саргисом-Сережей и знаками показала, что скорее убьет себя, чем отдаст ребенка. Леночка о чем-то долго разговаривала с мужчиной на кухне, а потом тот ушел.
– Он согласился, что мальчику здесь безопасней, – сказала Леночка, входя в комнату, где Айдан сидела на полу возле детской кроватки.
А еще через две недели Леночка сообщила, что они все вместе уезжают. Она дала телеграмму сестре, в Ораниенбаум, и та ответила, что, конечно, ждет их всех. Главное, чтобы живыми добрались.
– Все равно теперь это чужой город.
Леночка тихо заплакала и стала снимать со стены фотографии мужа и сына.
Айдан молча наблюдала за сборами свекрови. Мальчик сидел у нее на коленях, и она тонкими пальцами перебирала его нежные курчавые волосы. «Говорят, там снег и холодно. Ну, и что. В наших горах тоже снег и холодно. Жить-то можно… И мальчик будет со мной», – подумав так, Айдан легко вздохнула, спустила ребенка с колен и пошла сворачивать старый Саваланов ковер, так недолго укрывавший ее брачное ложе.
Мы с Томилиным едем к Ае. Томилин прочитал текст и сразу включился. Все же он умница. И никаких глупостей про «трату времени за гроши» больше не говорит. Накупил примочек для Сережиного компьютера, объяснил с важным видом, что будет делать апгрейд. Нет, все же из мужиков можно извлекать пользу.
На прошлой неделе, например, Томилин спас Ваньку от неминуемой двойки в четверти по математике. После двух часов усиленной мозговой атаки красный от напряжения Ваня с сожалением констатировал, что математичка его все равно не любит и никаких им предпринятых усилий не оценит, и еще добавил, что «забил он на эту математику», а деньги можно и другими способами заработать.
Я на всякий случай поинтересовалась, какими именно.
– Книги писать. Правда, дядя Леша?
Я не стала разочаровывать мальчика и рассказывать ему о трениках со штрипками, через которые проходит почти каждый, вставший на неверную дорожку писательского ремесла.
– И на что же ты будешь тратить эти деньги? – продолжила допытываться я, надеясь таким образом уяснить перспективы собственной старости.
– А приюты буду строить для собак и кошек, – выдал Иван явную заготовку.
Пока я анализировала, хорошо или не очень лично для меня то, что я услышала, Томилин задал наводящий вопрос:
– Может, о людях стоит подумать?
– Люди сами выбирают, как им жить. А кошки и собаки от них зависят, – отрезал Ванечка и развернулся лицом к компьютеру, спиной к нам.
Томилин посмотрел на меня с ехидством: «А ты, мамочка, чего-то другого ждала?» – спрашивал его взгляд.
По мнению Томилина, я как раз из тех, кто «сами выбирают».
Но я все же накормила его супом, и свой кусок пирога он тоже получил.
Провожая Томилина, я через Ванечкино плечо посмотрела на экран монитора. Ванечка играл в «стратегию»: виртуальная страна с жителями, городами, заводами, банками, армией и своими проблемами выживания. Значит, все не так плохо. Значит, все-таки люди.
…И вот мы с Томилиным едем в какую-то тмутаракань под Ломоносовом.
– Дашенька, все же надо уговорить ее и про «русский» отрезок жизни написать. Про все. И про то, как «чуркой» обзывали, и про то, как осталась одна с сыном и двумя больными старухами на руках… Ты же понимаешь, если бы не Айдан, эти две русские бабушки давно загнулись бы. Кому они здесь нужны? Только этой мусульманке и нужны. Знаешь, я в армии с одним парнишкой служил, из Узбекистана, так мы с ним много всякого разного перетерли, пока от забора до обеда лопатами орудовали на генеральской даче под Киевом. Он интересную штуку однажды рассказал: в кишлаке, куда его к деду на лето отправляли, о мусульманине, который, например, доброе дело сделал, говорят: «Пусть он райские кущи увидит!» – а про христианина в схожей ситуации: «Пусть ему пятки не слишком огонь жжет!» И это, между прочим, благословление, а не проклятие. Просто другой вариант и не рассматривается. Чуешь? Значит, у твоей Айдан какие перегородки в сознании сломаны…
– Ты, Томилин, не переживай, а лучше на дорогу смотри. Потому как неизвестно еще, где нам с тобой, по делам нашим, местечко уготовано. И вообще, муть какая, правда?.. Мусульманский рай, православный рай… Рай – он и в Африке рай. И нечего людям голову морочить, правда, Томилин? А наша Ая, если на то пошло, в любой рай свой пропуск уже заработала…
– Вот-вот. Надо, чтобы она и про армию, и про квартиру, и про сына той алкоголички написала… Про все.
Томилин чеканит, точно счет предъявляет кому-то… Это я понимаю, это я сама люблю делать. Но кому этот счет предъявишь, черт подери, если люди якобы «сами выбирают»?
…Последнее, что запомнила Айдан из прошлой жизни, были их тюки и чемоданы с вещами на нечистом вокзальном перроне, заплаканное лицо Айгюль, ее обещание «присмотреть за могилами», и еще полновесную, теплую тяжесть ребенка на своих руках.
С несколькими пересадками, кое-как добрались они до места. Конечно, двухкомнатная квартира Степаниды была мала для четверых, но Айдан привыкла к большим семьям и маленьким жизненным пространствам, где прошла большая часть ее жизни. А те свои «другие» четыре года она воспринимала, скорее, как исключение, как счастливый сон, который должен был рано или поздно кончиться, и вот – кончился.
Жили они на две пенсии, Леночкину и Степанидину, да на те крохи, которые получала Айдан, работая в трех местах уборщицей. Ни на какую другую работу эту странную неместную, полуговорящую-полупоющую женщину не брали. Диплом музыкального училища ей так и не понадобился.
Сережу, изрядно похлопотав и довольно мзды оставив в чиновничьих кабинетах, Айдан усыновила. Через два года он пошел в школу, не только говоря по-русски без акцента, но и довольно бегло читая: заслуга обеих «бабушек».
Потом Айдан решила, что мальчик растет, и нехорошо, если на вопрос, кем работает твоя мама, ему придется отвечать: уборщицей. И она пошла на курсы медсестер при местном медицинском училище. Это оказалось кстати еще и потому, что Леночка опять начала сильно болеть, гораздо чаще старшей ее по возрасту, но в одиночестве своем не растратившей жизненной силы Степаниды. Так что и уколы, и капельницы Айдан ставила ей сама.
Своих настоящих родителей Сережа не помнил и города, в котором родился, не помнил. Только очень долго пугался, когда слышал резкие звуки, и, если по телевизору показывали «про войну», отворачивался и уходил.
Школу Сережа закончил хорошо и поступил в Технологический институт, на вечернее, хотя проходного балла ему и на дневное отделение хватало. Но «сидеть на материнской шее» он больше не хотел, а пошел на завод разнорабочим.
Однажды Леночка, предварительно посовещавшись с Айдан, рассказала Сереже его историю, а заодно и историю самой Айдан. Сережа ушел и два дня и две ночи дома не появлялся. Леночка с Айдан плакали, решали, обращаться ли им в милицию, а Степанида раскладывала старыми трясущимися руками пасьянс, поджимала тонкие губы, ругала их «дурами» и говорила, что поделом им, обрушили такое на мальчика, теперь нечего завывать по углам, даже у нее, глухой на оба уха, голова от их воя пухнет.
Но через два дня Сережа вернулся, с цветами, хотя зима была в разгаре, и подарками, сказал, что просто оставался у друга в общежитии, а цветы и подарки – это с премии. О прошлом они больше не разговаривали никогда.
А потом Сережу призвали в армию.
Конечно, Леночка еще за полгода до призыва пошла в военкомат. Плакала, рассказывала, что «мальчик единственный кормилец в семье из двух немощных старух и почти немой матери»… Ей пообещали, что оставят внука где-нибудь поблизости, в области.
За день до положенной по такому случаю отвальной позвонили из военкомата, сказали, что уже выслали машину и повезут на сборный пункт тех, кто остается служить в области.
Айдан удивилась: что за спешка? Да и продукты уже были куплены, и гости, Сережины бывшие одноклассники да нынешние однокурсники, созваны… Но спорить не стала. Все же там начальство, а она кто здесь такая? «Чурка нерусская». Да и мальчику повредить боялась…
Бестолково, в суете и поспешности Сережу собрали, и сел он в «воронок», в котором уже маячили растерянные лица таких же, как он, призывников.
И почти месяц от него не было никаких вестей.
Айдан с Леночкой бегали в военкомат, наводили справки. Но ничего толком от тучного, с бугристой потной лысиной майора по фамилии Терещенко добиться так и не смогли.
Айдан осунулась, побледнела. Возвращаясь с работы, садилась и, глядя в одну точку, тихонько покачивалась. Леночка перепугалась до смерти: точно так было с Айдан после гибели мужа. Наконец пришло письмо. Айдан вслух читать не могла. От волнения она совсем лишилась речи, даже в виде пения. Леночка заплакала, и читать у нее тоже не получалось. Тогда Степанида хлопнула ладонью по столу так, что подпрыгнули чашки, снова обозвала всех дурами и вскрыла конверт.
Сережа писал из области. Только не Ленинградской, как обещали в военкомате, а Краснодарской.
Лицо Айдан полыхнуло пламенем. Это был почти Кавказ. Совсем рядом Чечня. Туда Сереженьку тоже обещали не посылать, но ведь уже один раз обманули… Срочнику любой другой национальности, кроме «кавказской», в тех краях, наверно, служилось бы проще. Или специально они так устроили?..
Сережа писал, что ничего, добрались нормально, только три дня в дороге их почти не кормили, хорошо, что у ребят было у кого печенье, у кого консервы из дома, и его пирожки, Леночкой испеченные, очень пригодились. В общем, доехали. Потом вскользь сообщил, что спина побаливает, сорвал на днях, когда грузили мешки с цементом. А так, писал, что все нормально, волноваться за него не надо. К тому же оказалось, что в одной части с Сережей служит Костик из параллельного класса, в школе они и не общались, а зато сейчас как нашли друг друга…
Каждые две недели от Сережи приходило по письму. Сообщал, что все нормально, служба идет, только спина опять побаливает, и еще вот бы домашней еды… А в одном из писем проговорился, что один и тот же шмат сала у них иногда по три дня варят и есть, вообще-то, охота…
Айдан металась по квартире, как загнанный зверь, голосила, что сердце ее чует беду и что пойдет она к Сереже хоть пешком, но его не бросит, мальчика своего дорогого, единственного. Степанида опять хлопнула по столу рукой, велела снять все деньги с книжки своей и Леночкиной, все «похоронные», и ехать к Сереже.
Одну Айдан Леночка отпустить побоялась. Набрав полную сумку сердечных лекарств, она поехала вместе с невесткой, молясь только о том, чтобы не помереть в дороге. От Краснодара до Сережиной части они еще два часа добирались на электричке. Увидев вдали заснеженные вершины Кавказских гор, Айдан беззвучно заплакала.
Сережу, который вышел к ним на КПП, они едва узнали. Он очень похудел, ссутулился, потемнел лицом. А может, им так показалось из-за того, что кожа на Сережином лице, шее и, как выяснилось позже, на спине была сплошь покрыта чирьями.
В станице, по соседству с которой располагалась Сережина часть, они сняли на четыре дня комнату в деревенском доме, и три дня из них Сережа приходил туда отъедаться и рассказывать. Он ни о чем не просил, но весь его рассказ был сплошным криком о помощи.
Спина у него продолжала болеть, и, кроме того, боль стала отдавать в правую ногу. В санчасть он не обращался, потому что боялся издевательств «дедов», а ему и так доставалось «за национальность». Рассказывал о своем друге Костике, том самом парнишке из параллельного класса, над которым «деды» нещадно измываются за малый, метр шестьдесят, рост и сильное заикание. Услышав про заикание, Айдан опустила голову и покраснела, точно неизвестный ей Костик был ее сыном, которому она передала этот порок по наследству.
Но самым худшим в рассказе Сережи было то, что, как он сказал, поговаривали, будто скоро их могут отправить в Чечню. Айдан сцепила перед собой руки так, как если бы сжимала в них Саваланов ковер, которым она когда-то пыталась загородиться от окружающего мира. Даже костяшки пальцев у нее побелели, как тогда.
На второй день от местных женщин, работавших в гарнизонной столовой, Айдан и Леночка уже знали, сколько и кому надо дать, чтобы Сережу положили в санчасть на обследование и комиссовали по здоровью. Сумма получилась, по их меркам, астрономическая – две тысячи долларов. И где взять такие деньги, было совершенно неясно.
Вечером третьего дня, когда они проводили сутулящегося, тяжело ступающего армейской кирзой Сережу до ворот КПП и вернулись на квартиру, Айдан, отстраненно глядя в темное окно пустыми глазами, пропела почти нежно, что если денег они не найдут, то она вернется сюда, обольется бензином и спалит себя на глазах всех этих мужчин в военной форме, пусть только попробуют тогда не отпустить Сережу…
А еще Сережа дал Айдан адрес Костика и попросил пойти к его матери. Вдруг она сможет помочь сыну. Или пусть хотя бы напишет. Потому что ни разу она Костику не ответила.
…Две тысячи долларов, которые нужны были совсем срочно, взять было неоткуда. Кредита двум пенсионеркам и Айдан с ее нищенской зарплатой ни один банк не выдал бы. Тогда Степанида сжала тонкие губы и задумалась. А потом, решительно хлопнув ладонью по столу, сказала тоном, не терпящим никаких возражений, что они продают квартиру.
– Я давно мечтала пожить за городом, хоть на старости лет, – сказала Степанида. Как будто сам город Ломоносов не был практически загородом. – Продадим квартиру, она все равно мала для нас, купим дом, Сереженька вернется, женится, вот всем места и хватит…
Коренастенькая востроносая агентша из фирмы, занимающейся куплей-продажей недвижимости, была любезна до приторности и чрезвычайно расторопна. Уже через два дня она повезла Айдан и Леночку на машине за город, «тут совсем рядом», смотреть дома, на выбор. Может, потому, что ехали они на машине, а не тряслись в автобусе, им действительно показалось, что близко.
Уже на месте Леночка, ошалев от напора коренастой агентши, только поглядывала вопросительно на Айдан. Айдан же смотрела перед собой горящим нетерпеливым взглядом и ничего не видела. Ей было все равно, лишь бы – скорее.
На одном из трех представленных домов они остановились. Но, кажется, совсем не на том, в который, неделю спустя, перевезла их шустрая агентша после того, как несколько дюжих хлопцев в мгновение ока загрузили всю их мебель и вещи в два раздолбанных грузовика.
От всех денежных операций по купле-продаже, включая проценты агентству, на руках у совершенно ошалевших Степаниды, Леночки и Айдан остались пять тысяч, а много это или мало, они так и не успели понять. Главное в данной ситуации было, что на «выкуп» Сереженьки хватало.
За три дня до отъезда, еще не успев привыкнуть к скрипу расшатанных половиц в новом жилье, ветру, задувающему в щели между оконными рамами, и отсутствию соседей, поскольку она так и не решила, можно ли считать соседями двух бомжеватого вида стариков – мужа и жену, ютившихся в развалюхе неподалеку, – Айдан вспомнила про адрес, который дал ей Сережа, села в автобус и поехала в город.
Дом, в котором жила мать Костика, находился через две улицы от их бывшего дома. На звонок сперва никто долго не отзывался. Потом послышался звук, точно упала сетка с пустыми бутылками, а потом хриплый женский голос спросил, чего надо. Пока Айдан собиралась с ответом, дверь распахнулась. На пороге стояла пьяная женщина с плоским лицом и сожженными пергидролем короткими волосами.
– Жорка, ты глянь, цыганва наглая уже по домам шляется! – крикнула женщина вглубь квартиры и захлопнула дверь перед самым носом Айдан.
Повторять попытку Айдан не стала, а, спустившись вниз, показала бумажку с адресом двум женщинам, стоявшим у подъезда. Все сходилось. Получалось, что та женщина и есть мать Костика. Наличие у хронической пьяницы Тоньки сына, служащего в армии, подтвердили и соседки. Подтвердили они также и наличие «хахаля Жорки», «нарисовавшегося» сразу, как только «Костика забрили». С этой информацией Айдан и вернулась домой.
На сей раз поехала Айдан одна. Остановилась у той же хозяйки, которая ретиво взялась помогать во всех хождениях «по начальству», чем напомнила Айдан недоброй памяти востроносую агентшу.
Кажется, дело с санчастью слаживалось. И не столько из-за денег, которые Айдан, пряча глаза, оставляла в каких-то кабинетах, сколько из-за Сережиной ноги. Нога болела теперь так, что он начал ее слегка подволакивать. Заминка получилась в другом.
Черно глядя перед собой, Сережа заявил, что в санчасть он отправится только с другом, потому что без него маленького заикающегося Костика «деды совсем забьют».
Айдан побелела сквозь всю смуглоту и схватилась за свои густо крашенные, но уже на два пальца седые возле корней волосы. Никакие ее мольбы и увещеванья не действовали. Тогда она пошла на почту и послала телеграмму Леночке со Степанидой с просьбой выслать еще столько же денег, срочно, телеграфным переводом.
Через два дня пришли деньги, а через месяц и Сережа, и Костик вернулись домой.
Диагноз, с которым комиссовали Сережу, не требовал никакого выкупа. С таким диагнозом его должны были комиссовать еще месяца три назад. А врач питерской нейрохирургической клиники, куда Сереже дали направление из районной больницы, где работала Айдан, сказал, покачав крупной лысеющей головой, что настоящий диагноз гораздо серьезнее и хорошо бы на этих вояк еще и в суд подать.
Врач сказал, что проблемы со спиной начались у Сережи в детстве: не исключено, что когда-то был компрессионный перелом позвоночника. А травма, которую он получил в армии, спровоцировала имевшуюся, но никем не замеченную болезнь. И вот теперь – парез обеих конечностей.
И еще врачи удивлялись, как же это Сережа проходил в военкомате медкомиссию? Ведь с такой спиной должны были сразу белый билет выдать… Но уж с кем с кем, а с непостижимой разумению страшной государственной машиной воевать маленькая Айдан не собиралась. Хватало ей и собственной судьбы.
…Через год Сережа восстановился в институте, но теперь уже на заочном. И Костик стал мотаться курьером между Сережей и кафедрой, потому что даже на сессии Сереже выбираться было трудно. И сам Костик тоже поступил на заочное, Сережа натаскал его по нужным предметам…
Поздно вечером, когда, поохав и покряхтев, устраивает на постели свое больное тело Степанида и Леночка, напившись сердечных лекарств, тихо бормочет что-то в своем углу перед дешевой бумажной иконкой и благодарственно трясет седенькой головой, Айдан идет в Сережину комнату, где тот или читает при слабом свете ночника, или уже спит, – и садится за компьютер. Дело движется у нее не быстро: русский письменный оказался еще труднее русского устного, да и навыков скоропечатанья у Айдан нет.
Но что-то ведет ее от страницы к странице. Какая-то тихая внутренняя музыка, чей-то голос, который Айдан иногда принимает за свой собственный.
Когда, два-три часа спустя, Айдан смотрит на будильник, оказывается, что спать ей опять осталось совсем мало. Тогда она с сожалением вздыхает и завершает работу так, как строго учил ее Сережа: «Надо все сохранить. Мама, запомни, надо обязательно все сохранить». И она щелкает левой кнопкой мыши на маленькую дискетку в левом верхнем углу монитора.
…Уже битые двадцать минут Томилин грузит меня разными компьютерными интимностями. Мы опять едем к Айдан. Хорошо, что дорога сама по себе доставляет мне удовольствие, которое никаким техническим занудством не испортить. Томилин собирается установить на Сережин Pentium какие-то штуки, чтобы Сережа мог сам связываться с кафедрой в режиме on-line.
А вот и наши задворки империи. Приехали.
Роль Деда Мороза Томилину определенно нравится. Большой, добродушный, он осторожно ступает по скрипучим половицам, раздает гостинцы: Леночке и Степаниде – пуховые платки и всяческие притирания для больных костей (сам, сидя за своими романами, нажил себе полноценный остеохондроз, поэтому разбирается), Сереже – «компьютерное железо», Ае – бусы из бирюзы. Томилин молодец.
Леночка накрывает на стол, Слезка крутится у нас под ногами, в доме витают нездешние ароматы кавказской кухни: хозяйки уже знают, чем меня можно порадовать. И я радуюсь. Но впадаю в ступор.
Айдан замечает это, истолковывает по-своему и уводит меня в Сережину комнату, в ту, где висит во всю стену старый Саваланов ковер. Айдан смотрит на меня значительно и ласково и напевает тихонько, что «такой этот Томилин добрый, такой хороший и такой симпатичный мужчина», и еще, что она «так рада за меня, так рада»…
А я, прикусывая фиолетовую веточку базилика, только смеюсь в ответ и качаю головой: «Нет, Аечка, нет…» – и опять смеюсь, видя, как удивленно ползут вверх тонкие брови Айдан: «Не-е-ет?»
Веточка базилика нежно хрустит на зубах, а фиолетовые листья, если их размять, оставляют на пальцах чернильный след, такой же как ягоды моей шелковицы, что растет рядом с лестницей, ведущей на Проспект…
Я рассматриваю причудливый, каждый раз как бы другой узор на Савалановом ковре и думаю о том, что «мой выбор» давно сделан, а сама я его сделала или не мною и где-то вообще в другом месте все было решено, – теперь уже не имеет никакого значения…
В конце мая Ираклий приезжает в командировку на два дня, освещать очередное малорезультативное межгосударственное мероприятие.
Звонит из гостиницы и спрашивает, когда можно прийти.
Ванечка сбежал с последнего урока. Еле-еле заставила его пообедать. Сидит, ждет. А я совсем не волнуюсь. Третий раз подмела пол. Пятый раз смахнула пыль с мебели. Перетерла остатки фамильного серебра. Мне есть чем себя занять. Я совсем не волнуюсь. Вот теперь стою, готовлю ужин.
На звонок первым летит Ванечка. Он прилипает к Ираклию, тычется ему в грудь лицом. Я выхожу в кухонном переднике и слегка развожу руками, показывая, что они мокрые. Символически обнимаю Ираклия поверх Ванечки. Мы не виделись… Сколько же мы не виделись?
Несколько секунд мы смотрим друг на друга молча. Сначала мне кажется, что передо мной совсем другой человек. Резкие складки возле рта, морщинки вокруг глаз, лицо худое, обожженное какое-то. И только когда Ираклий знакомым жестом откидывает волосы со лба, две картинки – прошлая и настоящая – наконец-то совмещаются. А когда он начинает говорить, все становится на свои места: изображение и звук совпадают. Судя по короткому облегченному вздоху Ираклия, тот же процесс узнавания меня пережил и он.
Я делаю вид, что не заметила его быстрого взгляда по сторонам. Но никаких, даже относительных следов пребывания в доме мужчины он не находит. Если только не считать его собственной куртки, висящей в прихожей на вешалке.
Потом он под радостные вопли Ванечки разгружает сумку с гостинцами. А я все вожусь на кухне. А потом накрываю на стол. Когда зову садиться, Ираклия нет. Выхожу в прихожую. Он стоит и примеряет собственную куртку. Она ему по-прежнему впору. И вообще, он выглядит так, как тогда, на Проспекте. И я побыстрее отвожу глаза.
Мы долго ужинаем. Потом Ираклий смотрит на часы и говорит, что с этими белыми ночами совсем потерял счет времени. А я говорю, что постелю в маленькой комнате, оставайся. И Ванечка, уже собравшийся было пустить слезу, облегченно вздыхает и заставляет Ираклия еще раз рассказать все истории из нашей до-Ванечкиной жизни.
А потом, вроде не совсем к месту, Ираклий говорит:
– Лучше бы я не видел эту свою куртку. Лучше бы ты ее спрятала или выбросила, наконец.
Далась же ему эта куртка. Висит себе и висит, никому не мешает.
А он опускает лоб в ладони и продолжает, точно сам с собой разговаривает:
– Я знаю одну женщину, у которой в прихожей вот так же… Только не куртка. Да и ты ее знаешь. Помнишь Софико, тетку моего отца? Мы с тобой были у нее однажды. Винтовая лестница в небо. Помнишь?
Еще бы я не помнила. Маленький двор в старом городе, балконы, увитые плющом, железная, серпантином закрученная лестница, и над всем этим невероятное жилье, какая-то надстройка над пятым, последним этажом, скворечник, повисший между землей и небом. А в нем – сухонькая, седая полупрозрачная женщина, которая смотрела не совсем в глаза собеседнику, а немного выше, словно искала глазами небо над его головой.
– …У Софико в прихожей стоят резиновые сапоги. Они стояли там всегда, сколько я себя помнил. Только когда подрос, я заметил, что сапоги эти очень большие, не ее размера, и тетушка если наденет, то просто утонет в них. К тому же я не видел, чтобы она их надевала, даже если шел дождь. Я спросил ее, что это за сапоги. И она ответила, что это сапоги Петра. А больше ничего не сказала. Потом я стал спрашивать отца. И он мне рассказал такую историю.
…Тетушка Софико с детства была выдумщицей и фантазеркой. Она хотела стать летчицей. Тогда, в середине тридцатых, авиация была в большой моде. В семье про нее говорили: «Наша Софико все время витает в облаках». После войны, в конце сороковых, Софико арестовали. Якобы она состояла в какой-то группе, которая хотела свержения существующего строя. Они там якобы порешили на своих собраниях, что через десять лет после революции власть в стране была узурпирована преступниками. Может, какие-то подобное разговоры тетушка и впрямь вела. Она до сих пор считает, что «ленинские идеи были искажены». Смешно, правда? Не даром же про Софико говорят, что она «витает в облаках».
…Софико отбывала свой срок в Инте, в женском лагере. Каждый день их водили на работу. Тогда они рыли котлован для электростанции.
И вот однажды в колонне мужчин-арестантов, возвращавшихся с рудника, она увидела Петра. На его черном от угольной пыли лице сияли абсолютно синие глаза, и ей показалось, будто она увидела в зеркале отражение своих собственных. И Петр заметил Софико. И два года они ходили и смотрели друг на друга. Иногда им удавалось переброситься записочками. Такой завязался у них роман. Кстати, довольно обычный для тех мест.
Однажды Петр перекинул в колонну Софико резиновые сапоги. Это был роскошный подарок. Практически объяснение в любви. Предложение руки и сердца. Теперь Софико могла рыть свои котлованы и канавы, даже по колено стоя в ледяной жиже.
В пятьдесят третьем сначала освободили Петра. А через две недели – Софико. А через день они поженились. Но еще какое-то время они должны были оставаться в Инте, на поселении. Они сняли узкую, как пенал, комнату в бараке, где жили шахтеры…
…Я сижу и слушаю как завороженная. Это какой-то гипноз, глубокое погружение, из которого у меня уже нет сил вынырнуть. Почему он решил рассказать это именно теперь? Зачем он опять напоминает мне о том, что происходящее со мной все последние годы – не моя жизнь, что моя настоящая жизнь совсем другая?
Ванечка уже давно спит, притулившись к плечу Ираклия. Мы в четыре руки относим его в постель и укладываем. А потом Ираклий продолжает свой рассказ. Он сидит на диване, и рядом с ним еще много свободного места, и вся левая половина моего тела вдруг начинает ныть и чувствовать, как это будет, если я сейчас сяду на диван рядом с Ираклием и прижмусь к нему.
В этот момент он закидывает правую руку на спинку дивана и наклоняет голову к плечу, как бы касаясь щекой кого-то невидимого рядом с ним. И тут я вижу на его руке тонкий, почти уже стертый временем шрам чуть выше запястья. И внутри меня происходит обморок…
Я с трудом перевожу дыхание, заставляю себя не смотреть ни на его руку, ни на него самого, и думаю, что вот только мелодрамы с очередным любовным треугольником нам тут и не хватало, шел бы он уже спать. Или таким образом на него действуют белые ночи, и он просто не знает, что это уже не закат, а восход, и потому сидит и говорит, говорит… Ну да, к этим белым ночам я сама до сих пор не могу привыкнуть… А может быть, своим рассказом он хочет оттянуть момент, когда нам надо будет разойтись по разным комнатам и лечь в разные постели… А потом я уже ни о чем не думаю и только слушаю впрок его голос…
– Вскоре началось время большой амнистии. И первыми отпускали тех, кто сидел за уголовщину. Из Воркуты убийцы, насильники, воры-рецидивисты шли вниз, к Инте, сбиваясь по дороге в стаи и наводя ужас на местное население.
Петра убили, когда он поздно вечером возвращался из шахты после вечерней смены. С него сняли шапку-ушанку и прохудившийся выцветший ватник с темным квадратиком на спине – следом от споротой метки с лагерным номером. Они с Софико прожили вместе меньше полугода.
Софико не плакала. Она вдохнула полную грудь ледяного воздуха Инты и вся как бы изнутри застыла. Даже глаза у нее сделались странно отсутствующими, обращенными на невидимую точку в пространстве.
Еще через год Софико вернулась домой. Седая и вся точно высохшая. И за следующие сорок лет своей жизни она нисколько не изменилась.
В деревянном чемодане, перехваченном старым солдатским ремнем, она привезла резиновые сапоги. Она их называла «сапоги Петра».
После Двадцатого съезда Софико выделили собственное жилье. Ту самую пристройку, скворечник, в который попасть можно только по винтовой железной лестнице. И сапоги Петра навсегда заняли свое место в прихожей под вешалкой.
…Ираклий умолкает. Он молчит ровно столько, сколько нужно, чтобы вернуться в настоящее время. Потом он встает, сжимает и разжимает несколько раз пальцы затекшей правой руки, которая все это время так и лежала на спинке дивана, обнимая кого-то невидимого, и говорит, не глядя на меня:
– Знаешь… Убери мою куртку из прихожей. А то я чувствую себя мертвым. Как будто нет меня. А я ведь живой.
…Четвертый час ночи. Я иду стелить Ираклию в маленькой комнате. Он молчит, курит и смотрит, как я разглаживаю ладонями простыню и надеваю наволочку на подушку.
А потом весь остаток ночи я чувствую, как через щель под дверью тянет дымом от его сигарет.
…Только минут за сорок до будильника я отключаюсь. И когда вдруг открываю глаза, вижу Ираклия, который стоит у меня в ногах. Мы смотрим друг на друга молча, совсем как тогда, в кафе, тринадцать лет назад, когда над нашими головами пролетел самолет и потом через несколько секунд раздался взрыв. «Добро пожаловать в отель „Калифорния“. Такое милое местечко…» А вдруг нас тогда убило? «Это может быть рай, или это может быть ад…» Очень точно в своей неопределенности. А вдруг нет ни меня, ни Ираклия, ни Ванечки… А вся жизнь, что случилась после, – всего лишь игра гаснущего сознания, одно предсмертное виденье на двоих?
Несколько мгновений мы смотрим друг на друга, и тут просыпается Ванечка. Словно отзвук того взрыва разбудил его.
– Уезжаешь, да? Уже пора? – Он стоит на пороге своей комнаты, маленький, заспанный и несчастный.
Пока я готовлю завтрак, он жмется к Ираклию. А тот обнимает его, целует в голову и повторяет как заведенный: «Мой мальчик, ты мой мальчик, мой мальчик…» И еще говорит самые нежные слова на языке, которого Ванечка не понимает. Но я вижу, как от одного звучания этой речи он успокаивается и маленькие горестные складочки разглаживаются на его детском лице.
Ираклий смотрит на меня поверх Ванечкиной головы, и мне кажется, что в этом взгляде сейчас нет ничего, кроме ненависти.
– Пойдем со мной до школы, хорошо? Я сейчас, я быстро. – Ванечка мечется по комнате, собирая портфель. Не может найти тетрадку, и я вижу, что губы у него начинают дрожать.
За пятнадцать минут до обычного выхода он уже готов, сидит на стуле в прихожей и непослушными пальцами шнурует ботинки.
– А как же завтрак?
Но меня никто как будто и не слышит.
– Еще камеру свою не забудь! Сфотографируешь меня с Колькой и Лехой.
Прежде чем поднять лицо от ботинок, Ванечка быстро проводит ладонью по глазам.
Я вдруг думаю, как странно: ни разу Ванечка не попросил Ираклия остаться, не попросил бросить все, приехать и жить с нами, и мне он никаких вопросов уже давным-давно об отце не задает. Последний раз – года два назад – спросил Ираклия по телефону, когда же эта военная работа кончится. И всё. Но ведь что-то он про это думает?..
Губы у меня начинают дрожать так же, как у Ванечки. Я быстро убираю со стола нетронутый завтрак. И через минуту слышу, как хлопает дверь в прихожей.
Они пересекают двор. Ванечка держит Ираклия за руку, хотя меня этими «детскими нежностями» давно не балует. Они уходят, ни разу не оглянувшись на окно, в котором я стою. Стою и думаю: «Так мне и надо!»
Вещи Ираклия в гостинице. И времени у него осталось ровно столько, чтобы забрать их и ехать в аэропорт.
Я живу в родном городе уже так долго, что постепенно он становится таким, каким мне хочется его видеть. А видеть мне его хочется, как показывает время, похожим на тот, другой город. Хотя бы какой-то своей частью. И часть эта – Невский проспект летом.
Когда в конце жаркого дня проходит дождь, запах влажного разогретого асфальта, запах пыли и бензина создают здесь то же восхитительное, кружащее голову сочетание, что и на моем Проспекте.
Для пущего правдоподобия можно закрыть глаза. И вообразить платаны. И даже расслышать в шуме проезжающих машин шум их листвы. Конечно, это каша из топора. Но мне не до разносолов.
Сегодня, оказавшись после работы на Невском, щедро сбрызнутом июньским дождем, я точно так и поступила. Закрыла глаза. А когда открыла, увидела идущую мне навстречу Наташку. Факт встречи на Невском друзей приятен уже тем хотя бы, что тоже подчеркивает столь искомое мной сходство двух проспектов.
Наташка прошла в двух шагах, но так меня и не заметила. Она что-то бормотала себе под нос, качала головой и даже слегка жестикулировала на ходу. И я с тоской подумала, что со стороны выгляжу точно так же, когда общаюсь со своими виртуальными оппонентами. Интересно, с кем это Наташка так хлопочет лицом?
Наташкино шествие тараном надо было как-то прервать: во-первых, зачем бесплатно развлекать публику, а во-вторых, раз уж мы таким счастливым образом оказались в одно и то же время в одной и той же точке, то почему бы не пообщаться. Даром что вчера проговорили по телефону до часу ночи.
Я забежала немного вперед и оказалась на пути Наташкиного следования. Теперь взгляд ее уперся прямо в меня. Наташка остановилась и несколько секунд мутно смотрела, точно не узнавая. А затем с воплем: «Люблю глаза твои, мой друг!» – бросилась мне на грудь.
Вообще-то, Наташка человек сдержанный и рассудительный, как показал весь предыдущий опыт нашего общения. Но, видимо, программа дала сбой. Может быть, от жары. Но скорее всего – от жизненных обстоятельств. Потому что Наташка громко и внятно, привлекая общее внимание, опять заявила: «Люблю глаза твои, мой друг!»
Проходившие мимо девицы двусмысленно хихикнули. Но это не остановило Наташку. Она упрямо гнула свое:
– Нет, ты представляешь! Люблю глаза…
Я и без дублей уже поняла, кто был Наташкиным незримым собеседником. Не дожидаясь, пока вокруг нас начнет собираться толпа, я схватила Наташку за руку и потащила в сторону Аничкова моста. Возле перехода через Фонтанку к Наташке вернулась способность внятно излагать мысли.
А дело было вот в чем. Наташкин главный редактор, следуя давно усвоенной и всегда безнаказанной практике, вынес в заглавие сборника стихотворений замечательного поэта Тютчева, который готовила как раз Наташка, стихотворную строчку из все же второстепенного, в масштабе Тютчева, стихотворения. Самому поэту, наверное, и в голову никогда не пришло бы так озаглавить свою книгу. Строчка эта была именно «Люблю глаза твои, мой друг». Так главному редактору показалось правильным «с точки зрения продаж». В том смысле, что если «про любовь» или, на худой конец, с намеком на любовь, то народ скорее купит, чем какую-нибудь философскую лирику, какой бы гениальной она ни была. Русский вопрос: «Тварь ли я дрожащая или право имею?» – перед Наташкиным главным редактором не стоял. Такие всегда числят себя среди тех, кто имеет право.
– Нет, представляешь, а на обложке перезрелая истомившаяся девица в гамаке! Ну, ладно бы Майков, ну, Фет, в конце концов, шепот, там, робкое дыханье… Но Тютчев! Помимо его воли! Если б срок авторского права действовал, разве кто посмел бы! А так – пожалуйста! Зарабатывайте на покойниках в любой доступной форме! Наживайтесь! Сколачивайте капитал! Потакайте вкусам публики!
Пока Наташка щедро расходует восклицательные знаки, я соображаю, куда бы лучше свернуть. Где бы тут, на Невском, найти в конце дня недорогое и тихое злачное местечко. Хотя ясно: никаким десертом вот так запросто мне подругу в чувство не привести. Тем более что любитель десертов из нас двоих только я.
Еще семь лет назад Наташкин главный редактор был довольно стройным и романтичным молодым мужчиной. И все поначалу радовались, когда он пришел главредом. Все же свой брат, филолог. Что называется, с корнями: университет, литературные объединения… Он и на посту главного продолжал стихи пописывать. Правда, теперь только по случаю. И даже читал их во время издательских междусобойчиков, чем заставлял смущенно розоветь всю разновозрастную бухгалтерию вкупе с производственным отделом.
Как-то подозрительно быстро для филолога Наташкин главред освоил механизм извлечения денег из литературы. И главное – вошел во вкус этого дела. Так или иначе, но он заставил ее работать на себя.
История же с тютчевской книжкой, далеко не единичная между прочим, почему-то именно в этот жаркий июньский день переполнила чашу Наташкиного терпенья.
…Мы уже подошли к Малой Садовой, и Наташка вроде бы слегка успокоилась. Но вдруг лицо ее снова поехало. Показывая рукой через дорогу, она возопила, норовя собрать толпу на несанкционированный митинг:
– А этот-то кому помешал?!
Я близоруко щурюсь: Екатерина вроде на месте. Если, конечно, предположить, что Наташка высказалась о ней в мужском роде, то есть как о памятнике. Сподвижники-соратники ее тоже никуда не делись. Вон они – жмутся к монаршему подолу. Все как полагается.
Но показывала Наташка вовсе не на императрицу, а на здание бывшей Публичной, имени Салтыкова-Щедрина, а ныне Российской национальной библиотеки.
Не дожидаясь объяснений, я потащила Наташку в одно из кафешек на Малой Садовой. Там, выпив залпом двойной мартини, Наташка поинтересовалась, когда я последний раз была в старом здании Публички. Я, заедая пережитый нервный стресс клубничным десертом, ответила, что недавно.
– Ну, и? – задала наводящий вопрос Наташка.