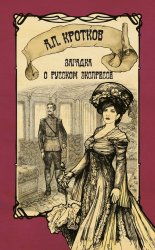Московские Сторожевые Романовская Лариса

— Ну при чем тут сердце? — Павлик на меня почти шипел, и глаза горели кошачьим огнем. Главное, чтоб по углам не начал метить, остальное не так страшно. — У меня всегда так было…
— Как только в ученики посвятили? — Ну надо же, зря я тогда на экзамене по методикам посвящения у Пелагеи все списывала. Думала, в ближайший век мне эти знания не пригодятся, не хотела ими голову забивать. А оно вот как… Касательно свойств мирского при вступлении в статус ученичества. Выходит, если он от человеческой речи отказывается, то ему взамен, в утешение, способность общаться с тварюшками дают?
— Да нет… раньше…
— В Инкубаторе, что ли? — снова не понимала я. Слышала же всякие разговоры, но виду показывать не хотела. А то уж больно много несусветного про Гуню говорили и писали. И в «Ведомостях», и в монографиях. Лучше я сама про него все узнаю. — Павлик, ты мне по-нормальному объясни, а то я не поняла. Ты что, всю жизнь так можешь, что ли?
— Ну наверное. Я не помню просто. Когда первый раз крылатую кошку увидел, решил, что это вставило хорошо. Мы тогда как раз клей нюхали в подъезде.
«Вставить» — это что по-нынешнему? Блазниться? Мерещиться? Галлюцинировать? А, неважно, не до того сейчас. Быть такого не может, чтобы у мирского ребенка подобные способности в крови текли. А у мирского ли, а?
— Гунь… ты мне про себя расскажи немножечко, ладно? А то нечестно: я тебе про три жизни сколько рассказала, а ты…
— Ну хочешь, давай… Только ты спрашивай, а то я сам не знаю, что говорить. — Гунька укутал фикус стеклярусной паутиной и присел ко мне на диван. Примостился так хорошо, прям друг напротив друга получилось. Как в зеркало смотришь. Сразу видно, беседа долгой будет. Хорошо, что чайники теперь сами отключаются, без особого колдовства. Удобно.
Говорил Гунька сперва неловко. Словно прихрамывал. Так те, у кого нога травмированная, ходить учатся: спотыкаясь, с оглядкой и перерывами. А потом все побыстрее да получше. Так и тут. Сперва Павлик сам себя перебивал, наступал новыми фразами на предыдущие. А затем успокоился, понял, что у него все выходит, продолжил нормально. Естественно — ну вот как кот мурчит.
Я сперва думала, что это у меня воображение хорошее: Гунька рассказывает, а я это все как картинки вижу, даже с запахами и вкусом воздуха на пересохших губах. Ну, например, ту вечную влагу, которая в квартире копилась, — там стекло в комнате треснуло, из-за этого окно всегда запотевшим было, как внутри аквариума. И сыро точно так же: то кран течет, то какие-то постельные тряпки в ванной сохнут, то штукатурка на потолке мокнет, — Гунька (тогда Пашка еще) с матерью на первом этаже жил. Единственная на весь дом нижняя квартира, где решеток в окнах не было. Ну и к лучшему, наверное. С ними-то Гунька себя вообще как в клетке бы чувствовал. Навроде морского мышика или еще какого хомячонка.
Потом и другие ощущения прибавились (это Гунечка подрос уже в своих воспоминаниях, где-то лет двенадцать ему было): амбре заветренного подъезда, в котором запах того, что пьешь, смешан намертво с запахом того, что из тебя льется, вонь какой-то невнятной косорыловки, которую Гунечкины ровесники именовали исключительно «баночным компотом», вкус сладкой конопляной мерзотины…
Вот как раз на ней я Гуньку-то и подловила. Я ж эту гадость пробовала когда-то: по два раза в двух жизнях, было такое. И она у меня на языке совсем иначе вспоминалась. Вот он, обман воображения в чистом виде!
Заучился наш студент, ничего не скажешь — работа с вниманием слушателя, увод сознания. Это когда собеседнику историю так излагаешь, чтобы он поверил, будто сам на нужном месте был, пойло это из жестянок пил, в неприбранной комнате на вечно скомканном белье спал, сомнительным негретым супом давился и в мятых нестираных брюках ходил. Даже не в брюках, а в китайских джинсах, на которых швы все время расходились и хвостик от молнии наружу торчал. Все детальки сейчас видно — будто рассказчик твоими глазами историю просматривает. Интересно, мне Гунечка специально такие ощущения включил или это у него на автопилоте получилось, не задумываясь? Молодец какой, а? Хоть и тяжело про подобные вещи слушать, не получается отстраненно, сочувствовать начинаешь и в не свою жизнь проваливаться.
Мне вроде всего пару вопросов надо было задать, про родителей и свойства, а получилось совсем не так. Историю мирской Гуниной жизни целиком огребла, со всеми потрохами. Можно подумать, что он сегодня тоже… ну жизнь в порядок приводит, как я свою квартиру. На всякий случай…
Я всегда думала, что у Гуньки мать — обычная синюшка, хоть про покойницу и нехорошо такое. А она, оказывается, интеллигентным человеком была. Актерско-творческой профессии. Пока у нее спектакли-репетиции, все нормально, а как день простоя — так она уже и на бровях. Не хроник, но запойная. И не поймешь, что лучше.
Я ее сейчас как будто живьем видела — эту неудачливую актерку-травесточку, колошматившуюся о быт, как та дурацкая рыба об лед. Даже голос словно слышала. Как она мелкому Гуньке (Пашке, да?) про папу объясняет. Когда трезвая, то «хороший человек, чудесный просто, но слабохарактерный», а в поддатом состоянии, после спектаклей, он у нее «карманщик Шарло» обычно получался. Дескать, обещал жениться и все такое, а сам даже ребенком не поинтересовался ни разу в жизни, уверял, что не его это наследник…
Но мать у Гуньки легкая была, зла на этого папашку-недотыкомку не держала и сына против него не настраивала. Может, ей потому и Спутника дали — за легкость. Для ребенка, конечно, это безалаберность и безответственность, так ведь некоторые не только ради ребенка живут. Мне о таком сложно судить, я же бездетная. Но главное, что Гунькина мать на свою неласковую жизнь не злилась и другим не завидовала.
И о Гуньке она пыталась заботиться — нелепо так, похмельно и жалко, но от той части сердца, которую еще не пропила. И песенки ему пела, и из буфета вкусное таскала (ссохшееся и размазавшееся в сумке, но все равно вкусное), и сказки какие-то разыгрывала с его зайцами-медведями, и наперегонки по парку бегала, в прятки играла… Одно слово — травести. Трудный подросток, причем навсегда.
И когда Гуня, еще дошкольником, ей признался, что крылатых кошек видел пару раз, она даже не удивилась. Сразу про них сказку начала придумывать — они с сыном шли куда-то по улице, тепло было, апрель, асфальт сухой. Вот мама уголком кирпича Гуньке этих кошек на асфальте и рисовала. Не сильно на настоящих крылаток похоже, а ребенку вот запомнилось… Я ведь Манечкины сказки тоже помню до сих пор.
То ли Гунечка по малолетству о матери только хорошее в память заначил, то ли ему Старый слегка воспоминания протер, высветлил все самое лучшее… В общем, о маме Гуня по-доброму говорил. А об отце ничего путного сказать не мог. Павлик же бастард у нас, незаконнорожденный. Меня такие вещи давно не смущали, но мне одну версию надо было проверить: вдруг этот самый папаша нашего роду-племени? Ну такое нереально в принципе, у нас же детей не бросают никогда, если их вообще заводят (последний век уж больно тяжелый получался, даже Спутники, и те как-то не сильно по этой части старались, опасались нашей сумрачной власти). Но все-таки… Быть такого не может, чтобы мирской ребенок от рождения тварюшек понимал. Или я опять все из учебников позабыла? Дисквалифицируюсь, однако, старею.
Но я про эту печаль потом подумаю, мне бы знания сейчас получить. А не выходило: Гунька про отца ничего не знал и в глаза его не видел. Ни его, ни алиментов.
Мать у него точно мирской была, ее же перед вручением Спутника проверяли, а вот отец… Про Гунькиного папашу ни в одной монографии ничего четко сказано не было. Да про него и сам Гуня ничего не знал. Если Павлика, конечно, зерничным чаем в свое время не накачали. Со Старого станется. Или нет?
Тут, наконец, в разговоре впервые «папа» прозвучало. Я оживилась, а зря. Это Гуня про приемного отца начал говорить, про батю Митю. Я того Митю (Данила-Каменщик, Спутник первой категории, общий стаж работы сто пятнадцать лет) не очень хорошо знала, как-то у нас с ним вечно возраст не совпадал, но вроде он всегда по многодетным вдовам работал (в Симбирске, кстати, именно он тогда напортачил). Ну про хорошего человека можно долго слушать. Хоть это к моему вопросу и не относится, а все равно интересно. Я ж так у Гуни подробности про тот пожар и не выведала. Любопытно было очень, а нельзя. Не полагается ученикам свое мирское прошлое ворошить. Почему так — кто знает, но в Заповедях об этом точно есть. Зато теперь он мне все рассказал. Я даже не стала просить, чтобы Гунечка запахи и звуки в описаниях убавил. Больно сильно разговором увлеклась.
Потом это воспоминание будет для тебя самым страшным. Таким, что не отогнать из головы, как бы ни старался. И хорошо еще, если ты один, когда это все наплывает из памяти — именно наплывает, огромной, неуправляемой волной, с которой ты ничего не можешь поделать. В одиночку — только вздрагивать, жмуриться и бормотать невпопад: «Нет-нет-нет». Особенно почему-то когда шуршишь по хозяйству, например посуду перемываешь. Тогда ты цепляешься за углы мойки — как тонущий за скобы на сваях пирса. Держишь реальность пальцами. Еще лучше, когда вы вдвоем. И Савв… Старый прижимает ладонь к твоей спине. Словно откашляться помогает. Ну помогает, да. Картинка уходит. Вместо нее идет вопрос: «А давай, Гуня, мы с тобой эти мысли выдернем?» — «Как занозу, что ли?» — «Как занозу».
Страшное уже кончилось, ты его перетерпел. Ты отказываешься, шалея от собственной крутизны. А потом проклиная ее — потому что в следующий раз картинка приходит совсем не вовремя. Когда у Старого полный дом народа и тебя гоняют по трем поручениям одновременно. Или когда эта… Евдокия Ольговна, тварь голимая, пластает тебя так, как ей хочется. Вот это и есть кошмар, без вариантов. А ты вспоминаешь свое самое страшное, отгораживаешься одним трындецом от другого. Как карты подменяешь. Думаешь, что скинешь мелочовку, вытянешь вместо нее хотя бы вальта, а взамен своей семерки огребаешь шестерку, причем некозырную. Дурацкое сравнение, откровенно говоря, тем более что батя тебе все время уши грел: типа, карты — дрянь редкостная. Как раз в том воспоминании, в самом начале.
Оно ведь не страшное на самом-то деле.
Ты возвращаешься домой. Не то чтобы сильно поздно, десятый час всего. Просто темно все время, конец осени, вот и кажется, что вокруг глухая ночь. А на самом деле — еще вполне рано, и народ продолжает ошиваться в третьем подъезде многоэтажки, на самом верху, где лестница перекрыта проволочной сеткой, дальше уже выход на чердак. Хорошее место, спокойное и сухое, жильцы какие-то пофигистичные, никого не гоняют. Можно сидеть до упора. И все сидят. Клюква в очередной раз банкует, раздавая колоду на пол лестничной клетки, можно еще перекинуться, время детское. Но ты все равно сваливаешь, перекрыв своей козырной дамой-пикой кинутого Клюквой туза. Играете не на деньги, но Клюква все равно начинает возбухать, хочет отыграться. Ты отмазываешься. «Нет, все, мне домой пора, там батя…» «Что, взгреет, да?» — Клюква сочувственно кивает. Ты неопределенно пожимаешь плечами, мол, понимай как хочешь. Потому что боишься хвастаться, на самом-то деле. Какое там взгреет? Батя дома.
Это полная и безоговорочная пруха, сказочный расклад, про который как-то даже и неудобно говорить. Они ж не дети, блин, уже, чтобы вот так прыгать от восторга: «Ура-ура, мама домой пришла!» Хотя от маминых возвращений ты никогда не прыгал. Скорее, наоборот, торчал в этом подъезде до упора, провожал кого-нить до дома, того же Клюкву или Зайца, тянул с немудреными разговорами. И потом к себе топал кругалем, как можно медленнее и с неохотой. И всегда жалел, что живешь на первом. Иногда пешком до пятого поднимался, просто от не фиг делать, чтобы время убить. Шел и на каждой площадке считывал запахи соседских ужинов. В двадцать первой — картошка жареная, у Потаповых — курица с гречкой, дальше кто-то молоко проворонил, потом семками калеными пахнет, потом ничем, там алкаши живут, потом кошками — от двери теть-Кати, потом снова курицей, но другой, из тридцать седьмой квартиры. Потом с пятого этажа вниз — это опять как меню задом наперед читать — и к себе домой. Радуясь тому, что ничем не пахнет, а могло бы и винными выхлопами.
А теперь вот борщом. Прямо от железной двери, где код и домофон, и оба не работали никогда, а теперь вот как новые. Запах такой наваристый, что кажется, будешь завтра почтовый ящик открывать, так эти воспоминания о борще оттуда вывалятся плотным ядреным пластом. Вроде рецепт как рецепт, батя при тебе сто раз готовил. Ну не сто — двадцать от силы, за полгода больше не наберется, а до этого бати не было… Ну он готовил, ты видел это все, а у самого так не получалось ни разу.
Про то, как было без бати, вспоминается, но редко. Только когда домой возвращаешься раньше него. Тогда страшно становится, а вдруг он больше не придет никогда? И это все, пипец котенку, полный и безоговорочный. Трясешься, как маленький, чуть ли не в глазок заглядываешь на каждый скрип подъездной двери. Дома с этим не справиться. Поэтому в подъезд, к Клюкве, Зайцу, восьмиклассницам каким-то, в те же карты резаться до упора, пока красные и черные капли мастей не начинают в глазах рябить: хотя давно уже не в раздачу смотришь, а на крашеную стену, она в новом доме чистая такая, бежевая. Глаза отдыхают, да. А потом — самое вкусное, блин — слаще этого борщевого запаха в пятьсот раз. Это когда мобильник в куртке начинает подрагивать. «Паш, ты где шлындаешь? Мама волнуется, ужин стынет».
Мама не волнуется, кстати, она вообще ни по одному вопросу не парится никогда. «Будет день — будет пища» и все такое в этом же духе. В холодильнике шаром покати — так можно гостей позвать, денег нет — ничего страшного, выкрутимся, к директору вызывают — ну пусть вызывают, у нее вечером спектакль, ей надо себя настраивать, а директор — это пустое.
У нее все пустое — и карманы в том числе. Как будто маму вообще ничто на этой земле не держит, она отсюда в любую секунду взлететь может. Или скатиться. Теперь не скатится: у нее Митя есть. Ну батя в смысле. Потому что «папа» — это совсем детский сад какой-то, а тут сурово почти, как-то по-митьковскому даже. Батя.
Он не возражает ни фига. Соглашается молча и припахивает тебя резать телефонный кабель или там держать отвес.
Или хоть картошку коцать для этого борща. Батя постоянно шароебится по хозяйству — причем видно, что ему это в кайф. Он, как к матери переехал, так сразу начал… Причем как-то так, законно. Не как захватчик или тот притырок из ТЮЗа, с которым мама несколько лет мелькала, а спокойно, обстоятельно. Будто их квартира — это заболевшее животное, не как собака, конечно, а покрупнее. Ну не знаешь даже, с кем сравнить. Мамонт, например. Такой же запущенный и заросший. И он этого мамонта осматривает и начинает выхаживать. Все свободное от работы время. Матери причем ни слова упрека, что она так квартиру запустила. Уважает ее. Ну вот прям реально уважает, потому что актриса.
Ты даже сам про это как-то забыл, тем более что мать не в ТЮЗе давно, а так… В Доме детского творчества театральную студию ведет два раза в неделю, а в остальное время косметикой торгует вразнос. Прибыли от этого три копейки, а ей все равно нравится. У нее память профессиональная, дикция хорошая… Ты пару раз слышал, как она эту тушь или чего там еще кому-то по телефону нахваливала. Настоящий монолог получался, честное слово.
Она и сейчас со своими мазюкалками носится, уже не ради денег, а вроде как в удовольствие. Деньги теперь батя приносит. Для кого-то, может, и маленькие, а вам хватает. Потому что, откуда у бати большие, он же не олигарх. Сантехник он. Профессия как профессия, и не хрен ржать. Сам ты, Клюква, говночист и унитазных дел мастер. Потому что, если бы не унитазы, бати бы не было. Ну реально.
У вас в марте сливной бачок переклинило намертво: ты там поколупался чего-то, потом забил на это дело, некогда было. Тем более что слив не на цепочке давно висит, а на такой ленточке розовой шелковой, мама его починила так когда-то. А тут уже и ленточка ни хрена не помогает… В общем, вы пару недель с матерью как-то мыкались, потом откопали телефон ДЭЗа, вызвали сантехника. Ты еще надеялся, что от школы отмажешься, будешь мастера ждать, а мать дома осталась. Ну вот Митя, батя будущий, этим сантехником и был.
Как в телесериале, ептыть… Сплошная санта-барбара на местный лад. Пришел из школы, а дома мать с сантехником чай пьют. Реально, не красное, не шампуньчик мамин ненаглядный, а черный чай. Ты сперва от этого охренел, а потом от Митиного утверждения, что он ленточку в сливном бачке увидел и в маму сразу влюбился. За легкомысленность и экс-тра-ва-гант-ность.
Сперва не поверил. Первые дни еще думал, что батя — вор-квартирник или, там, многоженец профессиональный, они как-то особенно называются.
Да нет, обознался. Обычный мужик. Мать говорит — красивый. Тебе как-то без разницы. Батя, он же такой… Ну он, как переехал, так в первый же день все лампы в доме на яркие заменил. И в квартире, и по жизни. Так и не объяснишь. С ним хорошо до одури, а без него… мать как мерзнет все время, реально. Главное, что мерзнет, но согреваться не пробует — ни красным, ни белой, ни чем иным. Завязала прям в тот день, как они познакомились. Не то чтобы тебя это сильно припекало, сравнивать-то не с чем было. А теперь вот сравнил. За одно это на батю молиться можно или там еще чего. Мать не молится, она радуется ему. Правда, как ребенок. Батя вечером в прихожей раздевается — у вас же тесно, хрущоба потому что, одному и то не повернуться, — а она вокруг прыгает, чуть ли не висит на нем. А она ведь маленькая, даже на твоем фоне. А с батей вообще хрупкой кажется и такой… нежной, что ли.
Только одно плохо — когда он с работы долго не идет. Ну как сегодня. Вот и сидишь в подъезде, с Клюквой, Зайцем и колодой, на телефон так косишься, что Заяц ржет и начинает проезжаться на тему счастья в личной жизни. Но сейчас и без звонка ясно, что он дома, — борщом-то пахнет. Да так, что желудок урчит громче, чем ключ в замке поворачивается.
А потом — ну как дверью по морде шмякнули, ей-богу. И дело не в том, что никто тебя не встречает… Подумаешь, привык, что батя выходит в коридор… Как привык, так и отвыкнешь. Дело в двери. Не во входной, а той, что в материнскую комнату. Она как раз с порога видна, а за ней — вход в твою, а дальше кладовка. «Отнорочек», как мать всегда называла. Это что-то детское совсем, из Маршака, что ли. «Сказка об умном мышонке» — вот. Мама ее на разные голоса всегда читала, ну как маленький спектакль. И тебя потом по макушке трепала — дескать, это у меня самый умный на свете мышоночек, и все дела. И ты в маму лицом тыкался, естественно, хотя от винных выхлопов тебя тогда мутило. Ну мелкий был, лет шесть. На червонец меньше, чем сейчас.
А сейчас тоже мутит, причем намертво. Непонятно от чего — от офигения, что ли: ведь дверь в комнаты захлопнута, такого в жизни у вас не было никогда. Вот отсутствие дверей — это запросто, они с петель слетали и у стен выстраивались, потому что мама — женщина, а ты маленький, приладить было некому. Так и жили без комнатных дверей много лет, мать их все называла «имя прилагательное», это из «Недоросля», она в нем играла раньше…
Да что ж за каша в голове такая, будто и вправду чего-то глотнул. А сейчас дверь намертво, не выходит никто и замок не поворачивается. Ты еще на нее нажимаешь, как последний дурак, скользишь пальцами по дверной ручке, она теплая такая, а у тебя лапы холодные, потому что без перчаток. Потом доходит, чего у них там закрыто: медовый месяц, блин-компот… Ускоренная версия.
Так и топчешься в прихожей, не зная, то ли слинять наружу, то ли забиться на кухню, борщ-то никто не отменял. Но сейчас кусок в горло не полезет, потому что дикая обида, злость на то, что они этой закрытой дверью из тебя идиота сделали… Ну как-то так, даже не сформулируешь толком. Потому что кроме борщевого запаха появляется другой. Что-то у них там в комнате грохнуло, вазу, что ли, разбили, кролики хреновы. Или бутылку с водярой — потому как запах спиртовой, густой и сильный, аж до тошноты. Ну вот реально сейчас наизнанку вывернет. Так что ты прямо в ботинках прешься на кухню (а линолеум новый, белый такой, взамен лоснящегося рыжего, батя стелил, и полы тоже он мыл), высовываешь башку в форточку и прокашливаешься. Тошнота прошла, а обида — ну ни разу.
И тут батя начинает хрипеть. Прям там, за дверью. Это ну просто кранты полные и бесповоротные, мамонт в весеннем гоне… Никогда с ним такого не было. Маму не слышно, а этот… Ты даже не знаешь, как бы его обозвать пообиднее, ничего в голову не лезет, она все равно еще ватная такая, гудит. Будто тебе по ней уже настучали.
А в комнате грохот опять. Это уже не ваза, это они уже стол опрокинули, если вообще не сервант. Ты как-то сразу подбираешься весь, словно соображалку включили: а вдруг батя — запойный? Ну полгода терпел, зашитый был там, и все дела, а сегодня вот развязал. И тебе уже по хрен, что они там о тебе подумают, ты начинаешь эту чертову ручку выкручивать. Сперва пальцами, так, что ногти обламываются, потом из-под ванны ящик с инструментами вытягиваешь, у бати там порядок такой всегда, но это по фиг сейчас, извинишься. Если ты был неправ, конечно… Шурупы не поддаются, то ли у тебя руки дрожат, то ли это по ноздрям спиртовый запах бьет. А потом — фигак! — и дверь отскакивает. Ручка у тебя из пальцев выламывается, отвертка втыкается в косяк. А ты упасть не успеваешь, потому что тебя батя в коридор выпирает. Прямо вот пузом на тебя прет и выталкивает, заслоняя обзор.
И ты как-то неуверенно вякаешь — как щенок подзаборный, что ли: «Ма-ам!» — чтобы просто понять, что с ней все нормально. Пусть себе и дальше там дрыгаются, только без бухла, и чтоб комнату проветрили, ты им слова не скажешь, поешь и к себе в комнату учешешь, прям с закрытыми глазами. Ну они же минуту могут потерпеть?
Ты это все про себя так думаешь, скороговоркой почти… Потому что мама сразу откликается, веселая такая, а если и пьяная, то только совсем малек:
— Да, мое солнышко! Ты уже пришел?
И в комнате снова что-то рушится, а мама смеется. Немного странно, но у нее бывает, она же актриса. У нее как у кошки, блин… у той девять жизней, а у мамы — два десятка голосов.
— Да, котинька! Как твои дела?
Ты не знаешь, что ответить. Потому как батя тебя впечатал спиной во входную дверь и теперь шипит, как кран без воды:
— Пошел отсюда, быстро!
Ты в это просто не веришь, он же трезвый, стопудово. Только злой до невозможности:
— Давай-давай, вали.
— А?
— Бэ… Чего ты там делал? В карты с пацанами играл?
— Бать…
— Долбать… Вот иди и играй, чтоб в ближайшие пару часов я тебя не видел.
И ты только мычишь в ответ, будто уже тогда онемел, заранее.
— Не видел и не слышал, ты меня понял?
Он на тебя смотрит, и ты думаешь, что вот сейчас прибьет на хрен. Хотя вроде никаких поводов не было, так, от балды. Сложно объяснить, но ты вот реально, ну просто жопой чуешь, как же ты тут сейчас не вовремя. Ведь спиртягой-то не от бати пахнет, это точно. В квартире воняет, да. Может, и от матери, конечно, но она бы в жизни столько не вылакала — по ощущениям, там спирта этого ведро. Как в анекдоте, ептыть. Откуда оно тут взялось, ведро это, ты даже и не спросишь, язык не поворачивается. Потому что у бати вид как у ошизевшего мамонта, он ведь огромный, особенно в этой вашей прихожей, которая по размерам — с короб отсутствующего лифта.
Да чего ж он так пырится-то? Ты ж чистый: ни курил, ни фига чего еще… Не совсем в завязке, как мать, но осторожный. После того как с тем «Моментом» спалился, сам себе пообещал, что ничего такого мутить не будешь. Ну и бате про это сказал.
А ведь он тогда не шумел вообще. Просто увидел тебя, перекрученного от страха, и начал правду вытрясать. Решил, оказывается, что тебя грабанули, там, или еще что похуже.
А у тебя глюк был. Глюканат кальция, гы. У всех восьмерки перед глазами или лампочки пляшут, а ты кошку у подъезда увидел — обычную такую, ободранную, черную… а у нее из спины крылья росли. Врастопырку — как два кленовых листа.
Вот ведь приход словил, врагу не пожелаешь. Потому как ты с этой кошкой, оказывается, минут сорок о жизни трепался, Клюква говорил. Заяц тоже говорил, их обоих одновременно так переклинить не могло. Да ты и сам помнишь, что трындели вы с кошкой, она тебе так внятно чего-то рассказывала. А пацаны потом утверждали, что ты все это время сидел на асфальте и мяукал как дебил. Ну дебил и есть, реально. Так бате и сказал сам. Не трепки боялся, а того, что все, подсел капитально и дальше будет только хуже. Батю тогда тоже переклинило, хоть он и маскировался. Успокоил тебя кое-как, хоть и попросил в такие игрушки больше не играть. Но ведь не бычил совсем ни разу. А сейчас вот пырится. Мамонт бешеный, чес-слово.
— Давай, Пашка, вали, быро…
Он говорит не «быстро», а «быро». Сокращает слова так, будто у него и впрямь цейтнот, со временем труба. Яйца звенят с недотраху, вот.
И ты понимаешь, что сейчас вправду лучше свинтить, целее будешь, но все равно пытаешься рыпнуться — до тех пор, пока за твоей спиной не начинает отступать входная дверь. А в комнате снова что-то грохает, и мама заполошно стонет: «Ми-тю-ша-а», — будто он уже там, рядом с ней, а не вышибает тебя на фиг из родного гнезда.
Но тут батя к тебе наклоняется, совсем к лицу — чтобы трезвость доказать, что ли:
— Пашка, я тебя как мужч… как человек человека прошу, уйди, а? Придешь в двенадцать — я тебе все объясню. А теперь вон пошел, ну?
И он тебя толкает — спиной вперед на лестничную клетку, скрежещет дверью и топает по коридору.
А ты остаешься в таком охрене, что сперва пялишься в штукатурку на потолке, она вся ощипанная, как рваная бумага, а только потом понимаешь, что у тебя до сих пор отвертка в руке. Мог бы и пырнуть, на самом-то деле.
Ты пробуешь надраться. Довольно умело, но безнадежно. Потому что алкоголь не лезет в горло. Только продукт переводишь — сперва банку кислого очаковского сидра, купленную реально на последние рубли, потом полторашник пива, «сиську». Это не твой, это во дворе за поликлиникой народ еще тусит. Из знакомых только Заяц, он тут, с понтом дела, самый главный, остальные — шелупонь какая-то, класс шестой-седьмой, им этого полторашника до утра сосать не пересосать. Клюква уже куда-то сныкался, и это хорошо — он бы обязательно начал залупаться по поводу бати, а Зайцу такие вещи до лампочки, даже не удивился толком. Сидит на спинке скамейки, ноги расклячил, перед ним Ириска шмыгает. Вроде тоже мелкая, ей лет тринадцать, а то и меньше, но свое дело знает… Можно, в принципе, и попробовать, раз уж в жизни такой раскардаш. У бати свои именины сердца, а у тебя, значит… Но, екарный бабай, этого не хочется совсем: еще больше не хочется, чем пить пиво, которое тупо течет по подбородку и не глотается. Хочется прислониться лицом к качельному столбу, он железный, холодный, а главное — мокрый, тыркнуться в него и выть по-собачьи, потому что никакими словами этот бред не объяснить.
Поэтому, когда Заяц сплевывает куда-то себе под ноги, чуть не зацепив Ириску, и выдыхает вместе с кислым дымом кислое же: «Че, Гунь, родаки доскреблись?» — ты обрадованно киваешь и начинаешь материться. Тебя просто на хрен рвет этими словами, потому что никаких нормальных, чтобы объяснить все происходящее, у тебя нет.
А потом ты как-то выдыхаешь, вяло ковыряешь качельный столб все той же отверткой, послушно глотаешь пойло из пластиковой бутылки, думая о том, что тебе сегодня никто не запретил этого делать… Даже не запретил! Вот тут на смену ошизению приходит злость. Примерно такая же, как у бати, только не особенно трезвая. И ты вливаешь в себя эту злость дальше — с каждым новым глотком ее становится все больше. Такое было у какого-то мультяшно-книжного героя, у Трусливого Льва или Железного Дровосека — сейчас фиг вспомнишь… И ты отрываешься от поликлиничной тусовки, чешешь напрямую домой, стараясь не протрезветь на ходу и не понимая, кто ты есть — Железный Лев или все-таки Трусливый Дровосек.
На подходе к дому тебя начинает колотить: не то от страха, не то… В общем, до родного сортира ты точно не дотерпишь. Хорошо, что на углу помойка есть. Такой бетонный короб, скобкой. У него всегда свадебные лимузины застревают, в окно четко видно. А сейчас — с помойки — не менее четко видны окна квартиры. В них темнота, и форточки наглухо задраены. И хрен бы со светом, отрубились — и шут с вами, но спиртягу-то выветрить надо? Но решительность куда-то делась, слилась, наверное. В общем, ты радуешься тому, что они спят или, может, куда свалили… Батя по вечерам никуда не шастает, это мама раньше могла…
Ты даже отгоняешь мысль о том, что может случиться, если эти двое начнут керосинить оптом. Главное, что сейчас никто не прискребется, утром посмотрим, что к чему, тебе проскользнуть бы и… Потому что никакой полуночи на фиг еще нет, а просто мокро, холодно, скользко и погано, снаружи и внутри… И ты ковыряешь домофонную дверь, понимая, что спать хочется сильнее, чем есть и кипешить по семейным поводам. На школу завтра, наверное, забьешь, надо же будет у бати выяснить, что это за бардак сегодня был и…
Бли-ин. Ядрены пассатижи, блин горелый! Именно что горелый — гарью пахнет на весь подъезд, от входной двери начиная… Ты сейчас в упор не вспомнишь: а не поставил ли тогда батин борщ на подогрев, мог ведь, в принципе, ты ж тогда в полной отключке был. И что теперь?
Ты снова клацаешь ключом о входную дверь. А она поддается сама, она открыта, хотя ты точно помнил, что батя тогда скрежетал щеколдой. А сейчас уже и не помнишь ни фига, просто шагаешь в… не в коридор, нет. В какое-то серое месиво из куцего воздуха, дыма, гари, спиртового запаха и страха… Это потом, при возрождении и выживании такое будет — безнадежный туман, первая стадия спячки, Старый скоро объяснит.
Но про Старого и остальной расклад ты еще не знаешь, когда шагаешь в этот коридор, на ощупь дергаешь дверь в родительскую комнату, не понимая, почему не работает выключатель, почему все заволокло этой штукой, почему нельзя дышать и губы вместо воздуха не ловят ничего… А потом дверь распахивается — будто ее толкнули изнутри. Но не батя, а огонь. Здоровенный такой вихрь чуть ли не с тебя ростом. Ты даже успеваешь его на секунду за человека принять — удивляешься, что это за чудило такое перекрученное стоит и горит. И все. Падаешь в темноту и стукаешься об темноту же.
Про дальнейшее мне было известно, Гунечку как раз в коридоре пожарные и обнаружили — с отверткой в руках, кстати сказать. Ударился макушкой о косяк — видимо, волной приложило, он же дверь распахнул, а помещение замкнутое, там волна воздуха как взрыв срабатывает. Лицо чудом не пожгло, а вот вырубило его о стену крепко. От того и близорукость потом спрогрессировала. Еще потеря сознания имелась, отек дыхательных путей, отравление продуктами горения и легкое алкогольное, пара-тройка крупных гематом и чего-то по мелочи. Мирские не сильно были уверены, что мальчишка выживет, но честно пытались откачать. Медицинские подробности меня мало интересовали, а про все остальное я не из учебников и статей знала, а из первых рук.
Зинка этот пожар на Волгоградке как несчастный случай заявляла, она ж эксперт, Гуньку со Старым из Русаковки в аэропорт Фельдшер подвозил, обратно их Васька-Извозчик встречал, по хозяйству Жека первое время помогала. Все мне что-нибудь про ученика да и говорили. Да и Гунькино житье в Инкубаторе я в общих чертах представляла. Понимала, какой именно техникой ему изувеченные легкие латали, могла вычислить, каким составом Старый собирался мальчишке память промыть, чтобы тот про соприкосновение с ведьминской жизнью намертво забыл. Предполагала, по каким каналам Гуньке новую семью искали, вроде как приемную, готовую сироту к себе взять и до совершеннолетия дотянуть. (У нас так положено, по Контрибуции: если что со Спутником при исполнении происходит, то сослуживцы его обязанности делят между собой. Единственное условие — при этом дележе близнецов не разлучать!)
В общем, техническая сторона ситуации мне была видна хорошо. Прямо как план на бумаге. Да только вот ни один план, никогда, за все мои три с лишним жизни, тютелька в тютельку не воплощался. Всегда какие-нибудь сбои были. Или наоборот, не сбои, а лучшие решения, импровизации так сказать. Так и тут: Старый уже обратные билеты из Ханты заказал, готовился Пашку в новую жизнь отправить, а этот неслух такое отколол, что после этого мальчишке одна дорога оставалась — в ученики. Причем обязательно с обетом молчания.
Вообще-то оброк нужен для того, чтобы мирской, если передумает и откажется от ученичества, не смог никому толком объяснить, что с ним было и где он пропадал. Если начнет говорить, так онемеет, оглохнет или ослепнет. Но уже не временно, а с концами. Жестоко, а что поделаешь. Dura lex,[9] так сказать… В Контрибуции это прописано, с ней не спорят.
Но в Гунькином случае все сложнее было. Старый сам ученику молчание выбрал: для того чтобы легкие с трахеей не тревожить на первое время и чтобы никто ничего лишнего не услышал.
Первое, что ты помнишь про себя потом, — одеяло. Тонкое, очень легкое, пахнущее лекарствами. Побелевшее до сине-сизого цвета, того же, что и казенный кафель на стенах. Кафель ты различить не можешь — зрение сильно упало, швы между плитками не видно, но то, что это кафель, почему-то знаешь. И про родителей знаешь тоже. Хотя, кто тебе сказал, когда, почему и тебе ли — а не над твоей безнадежно гудящей головой — не имеешь понятия. Но про маму и батю ты тогда уже точно в курсе. Веришь этому или нет, опять же непонятно. Вроде бы нет. Ты думаешь, что это знание уйдет — сразу после того, как перестанет болеть голова, прекратится дикая тошниловка, исчезнет желчь или что там у тебя скапливается под языком. Как только кончится болезнь — или боль? — кончится и эта правда. Все вернется на свои места. Тебя перестанет штормить, врачи снимут диагноз, а кто-то еще, в халате, или в форме, или просто так, придет и отменит слова про маму, батю, пожар и безнадежность.
Ты этого ждешь через всю свою мутоту, которая не отступает во сне. Ты снов толком не видишь — даже сквозь них чувствуешь боль или что-то похожее. С ней и с этим ожиданием засыпаешь, в них спишь и в них же просыпаешься. Смотришь на то, что можешь разглядеть: угол тумбочки, белый кант вокруг розетки, перекрученный серпантином провод — тоже белый, но в каких-то ржавых крошечных пятнах. Они похожи на муравьев, только не шевелятся. Иногда, правда, подрагивают — то ли от твоей боли, то ли от того, что глаза сильно слезятся. Но ты смотришь изо всех сил. Даже пытаешься думать: о том самом витом проводе или блеске кафеля. Ты их замечаешь.
Мать когда-то объясняла, что, когда все совсем фигово, надо запоминать детали, запасать материал для рассказа. Чтобы потом все изложить — с подробностями, кучей ржачных фишек, специальными заготовками, у них какое-то название особое есть, сейчас не вспомнить уже, какое именно. В общем, когда плохо — надо отстраниться и готовить внутри себя монолог. Она сама так делала обычно, любую происходящую хрень превращала потом в опупенную историю. Даже если это просто одноразовая байка для телефонного разговора фиг знает с кем. У тебя так трепаться не сильно получалось, мать всегда любой рассказ перебивала, озвучивала твои же похождения заново, так, чтобы действительно было смешно, но ты кое-как научился.
Сейчас вот тоже смотришь на провод, на блеск какой-то мутно виднеющейся штуки по соседству, на размытое пятно неоновой лампы на стене у потолка и собираешь это все в попытки фраз. Чтобы матери потом рассказать. Сперва ей, а потом бате. Так — чтобы они от смеха улетели, хохотали на всю кухню, отодвинув от себя тарелки, забыв жевать и курить…
Ты пробуешь собрать ощущения во фразы — в одну, две, иногда в три. Потом наступает отключка, после которой ты заново узнаешь все те же провод, кафель, угол тумбочки. А на середине второй или третьей фразы узнаешь внутри себя слова, которые потом отменят — сразу, как ты прочухаешься.
А потом ты видишь одеяло. Не помнишь, было оно на тебе раньше, или сейчас принесли, или ты его просто не чувствовал до этого — фиг его знает. Вся штука в том, что ты в него пробуешь замотаться. Не целиком — целиком тяжело, поворачиваться больно, а просто завернуть башку. Не для того, чтобы спастись от неонового света, а чтобы…
Дома одеяло было категорически другим: тяжелым, теплым и в пестром пододеяльнике. Но ты в него укутывался точно так же каждый вечер, уже года полтора, наверное, если не больше. Потому что мама на ночь к тебе заходила поцеловать перед сном или вроде того. А ты что, маленький, что ли? Самому перед собой было неудобно, вот и придумал башкой в одеяло заматываться. Вроде как ты спишь уже, она целовать не будет, только по голове погладит, и все. С одной стороны — никаких сантиментов, с другой — ты же не знаешь, что происходит, когда ты спишь, кто там тебя гладит, кто чего. Сам от себя скрывал, что это приятно, на самом-то деле. Вот и сейчас заматываешься, ждешь, что мама подойдет, поправит, зашелестит словами осторожно. Ты их не слышал вроде как, но они же одинаковые всегда. «Спи, мой котеночек маленький, все будет хорошо». Ну чтобы не возражать каждый раз — какой ты, на хрен, котеночек? — ты это все и придумал.
Вот и сейчас лежишь и ждешь. То ли сквозь сон, то ли сквозь боль, то ли сквозь все сразу. Двух вещей: сперва отменят слова про маму, а потом она войдет и одеяло поправит. И потом, вздрагивая и открывая в очередной раз глаза, все равно веришь, что она заходила, а ты все продрых, не успел увидеть и проснуться. Злишься на себя — те несколько секунд, в которые не помнишь, что мамы нет. Ни ее, ни бати. Только это чертово одеяло. Оно уже пахнет не лекарствами, а твоим дыханием.
По всему получается, что Старый к тому моменту к тебе уже приходил. Ну, может, кстати, и не он, а просто кто-то из своих… тех, кто потом станет своими. Но тебе больше нравится думать, что это был Савва… Да и по раскладу выходит именно так: потому что, когда ты первый раз вспоминаешь про Сав… про Старого, ты его уже откуда-то помнишь. Хотя отвести глаза медперсоналу и забуриться в «отраву» мог кто угодно из Сторожевых.
По-другому не получается: тебе же вообще благополучный исход не светил, с таким-то отеком легких.
Потом, кстати, при подготовке к устному по интенсивному врачеванию, тебе Старый подсунет твою же собственную историю болезни, заставит высчитывать, что именно и какими манипуляциями в тебе чинили, что пальцами делалось, что травками, что еще каким макаром. После искусственной вентиляции легких, барокамеры и хрен знает чего еще ты бы так быстро не оклемался — чтобы уже кафель на стенах видеть, это гребаное одеяло тискать, а главное — самостоятельно дышать. И если сознание вместо отключки, равно как и не совсем уж адову боль, ты можешь списать на медикаменты (это потом ты про них думать будешь малек пренебрежительно… ну через столько лет и с понтом дела-то…), то сама ремиссия на такой скорости — это уже наши подсуетились. И они же, наверное, на время воспоминания убрали — про ссору с батей, про то, как ты в квартиру входил. Обезболили тебе память. Временно. Хотя вот в этом ты не уверен, может, это организм сам так защищался, такой изворот психики, чтобы в больнице не сбрендить. Но это сложно понять, на выпускных экзаменах о таком не спрашивают, а за предстоящие жизни ты еще сто раз время найдешь, чтобы в этом поковыряться. В каком-нить две тысячи шестидесятом году, до которого бы мать точно не дотянула в нормальной ситуации. Тебе Лена, которая Лиля теперь, про такое потом объясняла: что про мирскую смерть нормально говорить можно только после того, как обычный срок этой мирской жизни миновал. Но это еще когда будет.
А сейчас ты про Старого… Как его помнишь первый раз. Как раз он одеяло с тебя откинул. Ты его так ненавидел в ту секунду, просто до рвоты, реально. Ну он тебе под желчь эту хрень изогнутую, которая на тумбочке была, подставил, переждал немного. Потом по спине погладил — тоже ты не знал тогда, а сейчас в курсе, что таким способом тошноту убирают. А тогда просто перестал полоскаться от спазмов. И все, что болит, перестал чувствовать. Одна пустота осталась, в которую сразу же набились горячие безнадежные мысли. Облепили тебя внутри, так что без разницы было, что там врач требует.
Ты же Старого за врача принял, естественно. Хотя — это запомнилось почему-то — четко видел, что он перед тобой в зимней обуви стоит. В обычных таких ботинках, поеденных солью. А врачи тут все в сменке ходят, если мужики — то чаще всего в кедах. А у посетителей бахилы. Это ты тоже откуда-то знал. А вот тогда, как только перестало мутить, ты пырился на эти долбаные ботинки. Первый предмет, на который просто смотрел, потому что хотелось смотреть, а не надо было себя отвлечь от боли. Это так дико было, что ты другому не удивился. Тому, что можешь слова говорить, а не глотать. Хотя тебе их до этого даже глотать было больно.
О чем говорили, в жизни бы не вспомнил, если бы Савва тебе потом не пересказал. У него это смачно так выходило — почти как у мамы. Оказывается, ты свое имя не мог вспомнить. На самом деле тебе просто по фиг было, как тебя зовут (не говоря уже про все остальное), но не ответить не мог. А сверху в памяти был тот кусок воспоминаний, где вы с Клюквой и Зайцем на лестнице в карты режетесь. После него — уже ничего, ну память-то обезболенная.
Ну вот ты пробуешь вспомнить, как тебя зовут, и как бы голос Зайца вспоминаешь, «Гуня, а ты чего с бубей пошел? Млин, ну щаз же продуешься как не хрен делать… Мля, ну, Гунь, разуй глаза, на них ботинки, Клюкве тебя сделать — как два пальца об асфальт». Ну точно. Заяц-то тогда вышел уже, отбился на две свои последние карты. И вот ту игру ты до деталей помнишь, включая узор на «рубашке» и стаю угрей на Зайцевой щеке, а свое паспортное имя — как корова языком. Так что ты Старому так и сказал: «Меня Гуня зовут». По идее — чистый анекдот, сам был готов его пересказать, когда обет кончится. Ну успеешь еще, впереди столько жизни.
А тогда Савв… Старый тебя за плечи с кровати тянет, легко так, будто ты весишь как это одеяло. «Ну давай тогда, Гуня, одеваться». И пакет со шмотками тебе выдает. Ты даже не сразу понимаешь, что двигаться не больно, будто с тобой ничего не случилось. Просто удивляешься, что все барахло чужое, не всегда даже новое. Ну труселя с магазинной биркой, носки и майка тоже, а остальное как из секонда. Чужим человеком пахнет, пусть и стираное. Не батино, нет, хоть размер-то большой, тебе все велико на хрен.
Однако надеваешь. Хоть и не хочешь этого делать абсолютно. Причем все так аккуратно напяливаешь, блин, словно ты на какую-то важную встречу сейчас пойдешь. Хоть на премьеру в этот мамин Дом творчества, хоть на паспорт фотографироваться. Еще и ботинки шнуруешь по всем правилам, а не наискось, как всю жизнь привык. Мощные такие говнодавы, на пару размеров больше нужного, потасканные малость. Старый их на тебе прямо там же и уменьшил, но ты не удивился тоже совсем.
Опять же потом узнаешь, что это фиксатор на всех эмоциях тогда стоял, чтобы ты не рехнулся раньше времени и не мешал с собой работать. А тогда ничего так, нормалек. Оделся, обулся, кровать заправил как следует, хоть и на ощупь слегонца. Савва тебе на дверь указал, ты туда зашагал спокойно, в коридоре увидел кресло-каталку, забурился в нее, зная, что от тебя именно этого хотят. Потом глаза закрыл — уж больно много новых предметов вокруг, страшно почему-то стало. Разожмурился обратно, когда звук изменился, ты этого испугался. Потому что до этого вы по коридору ехали и в лифте не то спускались, не то поднимались, а сейчас переход начался. Длиннющий такой стеклянный коридор с очень черной тьмой за окнами.
Ты не знаешь, холодно там или нет, просто неприятно смотреть, поэтому смотришь на серые плитки пола, они квадратные, кресло сильно дребезжит на стыках, звук несется по сторонам и, кажется, вас чуть ли не обгоняет. Это громко. Особенно по сравнению с той тишиной, которую ты привык помнить вокруг себя. Никто вас не обгоняет и не идет навстречу, в стеклянной полосе сбоку видны окна приближающегося корпуса, почти все черные и пустые. Ты еще не помнишь, что именно так видел в последний раз свою квартиру, тебе просто неприятно на них смотреть. Поэтому опускаешь голову, пробуешь уснуть, прижимая щеку к вздувшемуся воротнику теплой куртки.
На тебе точно куртка, темная, громоздкая, но не тяжелая. Но тебе все равно холодно — до невозможности. То ли в рукава и штанины дует, то ли у тебя жар, то ли заморозка ощущений дает такой эффект (об этом ты тоже впоследствии узнаешь). А потом вместо коридора желтое нутро очередного лифта и двери с большой вывеской «Дневной стационар» (буквы крупные, ты их различаешь). За дверями темнота с дежурной лампой на пустом письменном столе и незнакомый человек. Ты не удивляешься, просто отмечаешь, что незнакомый, не батя и не мама. А какого он пола — без разницы, тебе это неинтересно. Потом, опять же, узнаешь, что это был Фельдшер, он сам тебе расскажет, через почти семь лет, когда вы Лену (Лилю) будете провожать в светлый путь. Еще через несколько минут после этого разговора тебя застрелят, но это тоже будет потом.
А пока человек из темноты обращается к тому, кто стоит у тебя за спиной:
— Быстро вы, Савва Севастьянович, я даже подремать не успел…
И Савва ему отвечает что-то неразборчиво, а потом останавливает кресло. Скрип прекращается, боль не приходит, от мыслей ничего не отвлекает, и от этого плохо до дрожи. У тебя начинается такой реальный колотун, сам от себя не ожидал подобного — пальцы вздрагивают и подпрыгивают над вытертыми ручками кресла — будто вы на бешеной скорости мчитесь по еще одному коридору со стеклянными стенами. Ты смотришь на руки и почти не различаешь лицо присевшего рядом с креслом Старого. А он задерживает ладони на твоих щеках, фиксирует голову. Потом дует тебе в глаза. Как, опять же потом узнаешь, — закатывает тебя в сон. Вроде медикаментозного, но иной. Целительский. Это двадцать седьмой билет, третий вопрос. Потом выучишь.
А от следующих воспоминаний почти ничего не осталось: тебе ведь память смывать начали, ну, прежде чем на усыновление перекинуть или как-то типа того. Так что ни людей, ни разговоров, ни обстановки ты не помнишь. Потом тоже обидно будет — оба вылета в Ханты в бессознанке провел, а ведь ты от самолетов прешься как удав по стекловате. Не столько от самих «Боингов», или на чем вы там летали, а просто от путешествий. У тебя же их не было раньше. Батя все предлагал летом куда-нить в Крым забуриться, в Феодосию, что ли, вроде как тебя солнцем подкормить перед выпускными-вступительными. Не успели. Вместо Черноморского побережья Крыма намоталось два визита на Север, один другого страшней, хоть ты их и не помнишь целиком.
А из тогдашнего в памяти четко остался только вкус ржавой воды. Это тебя чем-то травяным отпаивали, но при этом спиртовым, настоянным на кошкиных слезках и забей-траве. У травы вкуса никакого, а слезки ржавчиной очень сильно отдают, если настой хороший. Ты даже не знаешь, хотелось тебе это пить или нет. Но глотал, не понимая, что ты делаешь и что в тебя вливается.
Второе сохранившееся ощущение — это живое тепло. Ни с чем не сравнить и потом поверить невозможно, что такое бывает. Это явно не человек, это непонятное нечто куда больше, его толком не ощупать. Но оно дышит, урчит и наговаривает тебе правильное, успокоительное. Или даже не тебе, а так, себе бормочет под невидимый нос: «Совсем еще котенок… Ш-ш-ш… Давай, кутька, пригревайся, дыши теплом, тебе надо… Тебе вырасти надо, а то вон какой маленький».
У слов другая интонация, не мамина и вообще какая-то не сильно человеческая, но тут куда важнее смысл. Ты ничего не помнишь, а поэтому очень хочешь жить. Угреться, как тебе предлагают, и вырасти. Ты зарываешься в это тепло, оно мягкое, меховое, пахнущее чем-то немного знакомым, елочным, что ли… Чем именно — не вспоминается, но тебе и не надо, ты просто вжимаешься в тепло и начинаешь дышать вместе с ним, тоже что-то урча в ответ: «Ты не уйдешь? Ты не кончишься?» И ответ тебе уже снится: «Не бойся, не бойся… Ш-ш-ш-ш… Эх, кутька ты, кутька…»
А вот потом воспоминание четкое, как на картинке. Оно и есть практически картинка — классика жанра, красиво сделанная легенда для мирской амнезии. Но это, опять же, когда билет при подготовке к экзамену разбираешь, то там все простое, как тот пряник, а когда сам через это прошел, то страшно думать.
Ну сперва тебе вспоминается вода. Ржавая на вид и кисловатая на вкус, теплая, почти бескрайняя. Целый бассейн воды. Ты в ней плывешь неторопливо и с удовольствием, хотя по жизни плавать не сильно любишь. Даже когда вы всей кодлой подрывались на Борисовские пруды, в Коломенское или еще куда, ты больше как-то на берегу отсиживался. А тут ничего так, плывешь себе, слегка удивляясь, что глаза слезятся и по лицу мягкий рыжеватый пар идет.
Описание этой штуки во всех учебниках есть. Так называемый «концентрат Леты», воды забвения. Она же — «огненная вода», «ржавая» или «медная». Название не главное, суть в том, что этот раствор вымывает из памяти все плохое, страшное, обидное и болезненное. По идее, бассейн-то здесь на фиг не сдался, «концентрат Леты» можно в обычную ванну залить или еще в какое корыто, очень хорошо церковная купель для такого дела подходит, а в старину и вовсе большие котлы под данное колдовство использовали… Но для тебя вот Сав… Старый расщедрился, целый бассейн тогда замутил.
Кстати, через семь лет, когда будешь тут к яблочному сердцу прирастать, сядешь в кресло около этого самого бассейна, вроде как с учебниками на подготовку, а читать не сможешь. Потому что за кафельным бортом Лена (Лиля которая) начнет бултыхаться. Для нее там обычную воду пустят, прозрачную, слегка синюшную из-за цвета кафеля. А ты-то все равно свою огненную-ржавую будешь вспоминать и за Ленку слегка бояться. По типу: а вдруг она тоже сейчас все перезабудет? Но до этого еще семь лет с небольшим хвостом осталось.
А тогда, значит, ржавая вода и твое абсолютное спокойствие. Не то чтобы эмоций не было, но они какие-то выцветшие, не стопроцентные. Ну примерно как если пиво водой развести, то оно на вкус вообще никаким окажется. Так и тут: помнишь все, что произошло, но ничего при этом не испытываешь. (Это первая стадия отходняка, описанная в любом учебнике по клинической психологии мирских. Она держится час-полтора, в зависимости от совокупности ряда факторов, важнейшим из которых считается… Тьфу, ну, короче, суть в том, что для тебя тогдашнего это нормально.)
Ты хорошо понимаешь, кто ты есть, как тебя зовут, сколько тебе лет и прочую анкетную пургу. Знаешь, что дома был пожар, ты спасся чудом, а маму с батей спасти не удалось. Что тебя подозревают в… в общем, что это ты квартиру поджег, но ты этого стопудово не делал, тебе ведь даже в дом батя войти толком не дал, отправил обратно на улицу на пару часов, а когда ты вернулся, там уже ловить было нечего. Так что родителей больше нет, а ты спасся. Сперва долго лежал в больнице, а сейчас вот прочухиваешься в чем-то типа дома отдыха или этого, реабилитационного центра. Короче, тебя сюда привез какой-то батянин сослуживец.
Оказывается, батя не всю жизнь сантехником проработал, он много лет служил, чуть ли не в горячих точках. Главное, что он связь со своими этими однополчанами, или как их там, поддерживал, вот они теперь тебе тоже не дали загнуться. В этот реабилитационный центр засунули, благо, что здесь пусто по зимним временам, скоро обратно в Москву увезут, причем так… В семью к еще одному батиному сослуживцу, в общем. Ты и его самого, и жену его уже вроде видел, разговаривал с ними о чем-то, вроде понравились друг другу. А даже если и нет, то ты все равно рыпаться не будешь. Не только потому, что в интернат или детдом не хочешь, но и потому, что у бати такая предсмертная воля была, завещание, там, или типа того, чтобы тебя вот так опекали.
(Опять же все строго по учебникам, идеальный образец для подражания. В случаях, когда Спутник погибает и его семью другим перепоручают, то легенду именно такую и берут. Дескать, ваш супруг или, там, отчим много лет служил на благо родины, мы его коллеги и однополчане, и от нас устав или еще какой долг офицерской чести требует позаботиться о вашей семье. Как правило, покойного Спутника бывшим офицером объявляют. А уж чего конкретно: спецназа, ФСБ, ГРУ или обычной в/ч, — зависит от контингента, от того, какой именно нынешняя спутниковая семья была, на что она купится — на легенду о служащих госбезопасности или же, наоборот, исключительно на порядочность бойцов, выполнявших интернациональный долг. Другое дело, что обычно-то Спутник ни фига не погибший, а только в спячку залегший, если организм вдруг неожиданно подвел, но мирским про такое знать не нужно, это инструкция четко оговаривает.)
В общем, у тебя все хорошо, ты в бассейне плаваешь, сил набираешься, завтра тебя домо… в Москву отвезут, прямо сразу к приемным родителям, они тебя очень ждут, полчаса назад вы про это по телефону трындели, так что ты уже часы считаешь до отлета. И в аэропорт хочется, и лечиться надоело, и вообще. Даже в школу и то хочется, хоть ты и в другую пойдешь, но догонять много придется, а поступление вообще на следующий год решили отложить. Но это неважно, главное, что ты в порядке, хотя плавать как-то замахался уже. Значит, щаз вылезешь, вон на берегу Тимофей Иваныч сидит — это врач местный, не столько на тебя пырится, сколько с Саввой Севастьяновичем трындит, с батиным сослуживцем. Севастьяныч сильно старше бати, а выглядит молодцом, это он тебя завтра домой повезет. Клевый мужик, чего-то в нем тоже такое есть, батянино…
Так что ты из бассейна выметаешься, в полотенце заматываешься и к этому Севастьянычу топаешь. Что он, что тот врач к тебе классно относятся, ты им честно говоришь, что спать уже хочешь, наверное, из-за отлета слегка дергаешься, в общем — ты пошел. Они соглашаются, обещают завтра разбудить пораньше, чтобы вещи собрать и все такое, и ты топаешь к себе. Вроде сто раз к себе в палату поднимался, а все одно — будто впервые туда отправляешься.
На самом деле это, конечно, ни фига не палата, а реальный гостиничный номер, причем такой, припонтованный, даже не эконом-класса ни разу, а просто как в хорошем кино. Фильмов ты тут, кстати, обсмотрелся по самое не могу, в основном какие-то тупые американские комедии, потому как мочилово в глотку не лезет совершенно, хотя раньше ты вроде перся по нему. А теперь вот у тебя в фаворитах разная древняя ржачка типа «Назад в будущее» и ты-ды, пока и видик не опостылел. В местном пункте проката (видеотека называется) в основном всякий советский хлам лежит. Все больше про войну, но комедии тоже есть, ты и их на видике гонял, когда пристойное кончилось. А сейчас ящик совсем не в масть, тебе бы упасть и рухнуть. Сил ни на что нет, будто не в бассейне плескался, а мешки таскал или какие-нить чугунные батареи. Чугуниевые, бляха-муха. В общем, в душ (контрастный, как батя приучил) и в койку. Наивно думаешь, что прямо сейчас отрубишься.
А вот фиг — сон не идет, хоть вешайся. (Это, опять же, если по учебнику, то вторая стадия действия «концентрированной Леты», когда с эмоций вроде как заморозка отходит постепенно. Обычно такое во сне происходит, поэтому не сильно болезненно, но у тебя все пошло наперекосяк.) Если про такое состояние не по учебнику объяснять, а по ощущениям, «на пальцах», как Старый любит выражаться, то это можно с похмельем сравнить. Когда вроде вскакиваешь — и ничего так, жить можно, только сушняк и озноб, а вот потом, через час где-то, наступает реальный отходняк, «тяжелый, как портянки прапора» (это уже батянино любимое выражение). Все болит, короче. Только не снаружи, а внутри, в душе.
Плохо. Словами не объяснить, до чего плохо. Ну вот правда как с бодуна, когда вспоминаешь, какую пургу вчера гнал, да с кем сцепился, да что творил. Так и тут, но другое. Мама вспоминается, живая-живая, как она одной рукой телефонную трубку держит, а другой сигарету и при этом сама себе в оконном отражении рожицы корчит. А батя рядом, на той же кухне, лук режет. Лук и помидоры — их, оказывается, с сердцевины надо коцать, чтобы мякоть во все стороны не брызнула, и только наточенным лезвием. И нож реально острющий, у вас такого раньше не было, все тупые, а этот вот блестит, рукоятка у него пластиковая и прозрачно-зеленая, как газировка «Тархун», гладкая и округлая, толщиной где-то в зажигалку примерно.
В общем, у тебя так резать не получалось, кафель и майка в мякоти томатной, она ещё почему-то так звонко шмякается, как живая. Мама даже перестает слушать телефон и говорит какую-то ерундень про коварную помидорную плазму, призванную поработить их мир… В общем, чушь полная, начнешь рассказывать — никому не смешно, но ты и не расскажешь никому, это воспоминание будет только у тебя. У тебя одного, потому что ни мамы, ни бати больше нет, они про эти гребаные помидоры больше не вспомнят и над ними ржать не станут. А тебе теперь тоже не смешно до ужаса, только это словами не скажешь. Ни словами, ни слезами, ты это уже знаешь откуда-то, это не помогает. Вот если башкой о спинку кровати стукнуться, то чуть-чуть отрубает, на полсекунды, когда снаружи тоже болит, ты на это типа отвлекаешься, но скоро и оно перестает действовать. И чего тогда делать — непонятно, разве что скулить почти шепотом, прося помощи непонятно от кого.
Почему-то кажется, что мама тебя должна слышать. Ну то ли первые сорок дней она где-то поблизости, то ли сколько еще. Ты знаешь, что времени вроде меньше прошло, максимум — месяц, но не сорок дней точно, так что… ты ее зовешь. И ее, и батю, шепотом, естественно, но таким, изо всех сил. Долго зовешь. Даже когда понимаешь, что это безнадега, все равно не останавливаешься: а вдруг поможет, вдруг всего одного приглушенного «ма-ам» не хватает для того, чтобы она услышала?
А потом ты лежишь и не шевелишься, хотя рука вроде затекла. Но передвигать ее — смысла не имеет. Не силы кончились, а именно смысл. Ты продолжаешь звать. Уже совсем беззвучно и безымянно, просто скулишь, требуя, чтобы это все прекратилось, и тебе снова стало как раньше, смешно, легко, тепло, спокойно. Вот тогда в коридоре и раздаются мягкие шаги. Не громкие, но какие-то огромные и приглушенные, будто кто-то бросает об пол подушки. Это не мама и не батя, но сейчас станет легче. Ты заранее слышишь не то урчание, не то шепот: «Да иду я уже, кутька, что ж ты так размяукался-то, а? Иду-иду, не ори, а то силы кончатся».
И это так правильно и хорошо, что ты совсем не удивляешься, когда в темноте дверь распахивается, и к тебе в палату мягко входит огромных размеров кот. Величиной если не с лошадь, то близко к тому. Мохнатый до невозможности, пахнущий теплом и вкусным жаром, как раскрытая духовка.
Под теплым зверем проминается кровать, почти прогибаешься ты сам, позволяя гигантской кошке укрыть тебя собой — как очень горячей и ласковой волной. «Ну чего? Угомонился? Дыши давай, а то опять замерзнешь». Ты дышишь, греешься, трешься лицом о мягкую шерсть, на которой слеза разве что не шипит при испарении. Ты несешь какую-то бредятину и ахинею, зная, что ответом будет все то же теплое мурчание, исходящие от…
— А ты кто?
— Ну как кто… коты мы, Гуня.
Странное «мы» тебя не смущает, уж больно величественный у зверя вид. Но при этом такой простецкий, без выпендрежа…
— Эй, котя.
Смешное слово. Почти как «батя».
— Ну что такое? Совсем еще котенок, а сам…
Теплая котя слегка сползает с тебя, ждет, пока ты свернешься поудобнее, и только потом укладывается сверху, жаркая, прочная и правильная.
— Да не уйду я… Спи…
— Хорошо.
Ты не благодаришь толком, потому как чуешь, понимаешь почему-то, что это все — само собой разумеющееся, что тебе это котово тепло просто полагается, и все тут. Ты уверен, что гигантская кошка — это такой сон. Или ты просто ее не боишься. А вот новых голосов в коридоре — очень даже. Хотя и узнаешь их сквозь дремоту: главврач Тимофей Иваныч и какая-то еще тетка, его подчиненная, то ли Варвара, то ли Тамара, не вспомнишь уже:
— Кисо-кисо-кисо… Пш…
— Ко мне! Мотька, зараза такая, ко мне!
— Кисо-кисо-кисо. Матильда, кыс-кыс… Варь, боковую смотрела?
— Да смотрела, естественно, вы что… Мотя, Мотенька. Конфуз-то какой… Мотя-а, кыс-кыс, бутерброд дам… Пш…
— Кисо-кисо… Ты как вообще такое допустила, а? Кыс…
— Кыс-кыс… Да чего сразу я? — плаксиво заоправдывался женский голос. — Я в ноль ноль вторую захожу, а там кровать пустая, а у меня Лютецкий после пересадки, там печень и обе почки, еще сутки греть надо, он же чуть не остыл… ой, кисо-кисо… Мотя, Мотенька, иди, вкусного дам. Мотька, икорки хочешь? Где-то здесь она, вы шерсть чуете?
Тимофей Иваныч выругался в том смысле, что именно и каким местом он чует. И дальше закыскал за соседней стеной.
Тебе вдруг резко стало смешно. До какой-то невдолбенной легкости, как в детстве на качелях, когда тело не чувствуешь, а только воздух и движения вверх-вниз. Необъятная котя даже зашипела, утихомиривая:
— А ну спать давай, вот ведь кутенок шебутной на мои уши взялся… Что ж за напасть?
Ты муркнул почти довольно и закопался обратно в горячую шерсть.
— Мотя-Мотька…
— Кисо-кисо-ки… Сто-ять! Варвара, стой где стоишь!
— А? Стою, как скажете. А на поляне не надо посмотреть? Она не течная вроде, но мало ли…
— Ти-ха! Ты дверь видишь?
— Мамочки! — вздрогнула совсем рядом невидимая Варвара. — Там ведь ребенок мирской лежит. Она взбесилась, Тимофей Иваныч, честное слово, святой истинный…
— Ти-ха! — снова рявкнул Тимофей Иваныч. — Ты справа, я слева, сеть давай сюда.
— Локоть неудобно, зацепила…
— Подую потом, все пройдет. Три-четыре… Павел! Это свои, все в порядке. Молчи, лежи и не шевелись. Слышишь меня?
Надо проснуться. Абсолютно влом, сил нет просыпаться, но… Ты все-таки открываешь глаза, близоруко мелькаешь ими — из-за продолговатого света двух фонарей. Шерсть мохнатой коти в этом освещении кажется слегка бордовой, как тот так и не съеденный борщ. И потому ты тупо не даешь согнать с тебя огромную кошку. Цепляешься за нее всеми лапами, мотаешь башкой и вполне конкретно посылаешь медперсонал по нужному адресу:
— …между глаз натяну и наизнанку выверну, понял, козел ты задроченный?!
— Кутька, ты что несешь? Мало тебя в котячестве за шкирятник трепали, остынь уже, горе ты мое блохастое.
— Нет, ну ты чего думаешь, я еще и тебя, что ли, отдать должен, млин? Ты, хрен очкастый, только подойди, я ж тебя закусаю щаз, понял?
— Мамочки мои! — завизжала вдруг почти над ухом та самая Варвара (на историчку школьную похожа, только историчка помоложе этой мымры будет лет на двадцать). — Тимофей Иваныч, это что же это такое…
— Ти-ха! — снова гаркнул главврач. — Варюш, беги за Старым, срочно. Или я умом тронулся, или это… Вот казус-то, а? Кисо-кисо, мать твою… Кисо-кисо… Матильда, да не трону я твоего ребенка, не шипи ты на меня. Ну-ка… Посмотрю котенка и верну… Паш, ты меня слышишь?
— Ну слышу, а че? — бурчишь ты почти виновато. Ну как с батей примерно, когда ты ему ляпнешь что, а он из-за этого не кипешит, а все на шутку переводит. — Че случилось-то вообще? Лежу, сплю, что за на фиг?
Главный снова матернулся. Причем с такими переборами, куда там твоим полуподъездным вяканьям. Охренеть можно. Ты этого очкастого кадра даже зауважал как-то резко. И ведь такое не воспроизведешь, даже наоборот, теперь самому ругаться не хочется, уж больно жалко это будет выглядеть по сравнению с такими наворотами.
— Оп-паньки… Та-ак. Павлик, ты мне еще что-нибудь можешь сказать? Ну… э-э… Который час?
— А я что, знаю? — У тебя над дверью в коридор часы висят с зелеными электронными циферками, но ты их разглядеть не можешь, только общие очертания, зрение-то село на фи… Блин, ведь решил же не ругаться. — Часов десять, наверное, да?
Мохнатая котя мягко обвила тебе шею хвостом, шепнула что-то хорошее. Что именно — ты не разобрал. Вцепился в котовый бок всеми пальцами.
— Да никто меня не отнимет, кутька, — мрякнула котя, — не бойся.
— Спасибо, — шепнул ты, сворачиваясь поуютнее. Тимофей Иваныч тыркнул светом от фонарика сперва в кошку, потом в тебя:
— Павел, она тебя кусала?
— Да вы чего, совсем ох… Нет, не кусала.
— А тогда как же… Вот сейчас ты ей чего сказал?
— Прям щаз? Ну «спасибо», а чего?
— Да как тебе сказать, Паша. Ты себя со стороны слышал?
— Доброй всем ночи… Варвара говорит, тут у вас светопреставление и прямо-таки Армагеддон местного масштаба? — Это Севастьяныч в дверях возник. Выключателем чпокнул и тоже весь перекосился, когда ты с ним поздоровался.
— Доброй… А… это самое… котя, а он чего икает-то, ты не знаешь?
Тут Гунька затребовал паузу. В горле от рассказа пересохло. У меня, кстати, тоже. И горло ссохлось, и ноги затекли, и даже в легких запершило так, будто я тем газом успела надышаться. А про дрожь во всех конечностях и вовсе молчу: Павлика ведь до боли было жалко. Так, будто я сама осиротела в неполные шестнадцать по неизвестно чьей вине. Но сейчас, пока мы на кухне чашками звенели, чайником шипели и Цирлю от холодильника отгоняли, я еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться в голос. Представила, какая физиономия была у Тимки-Кота в тот момент, когда полубольной мирской мальчишка на него по-котовому замявкал и рукой замахнулся, веря, что это тяжелая когтистая лапа. Как же, интересно знать, на языке тварюшек всяческие ненормативные лексемы звучат? Ведь звучат же? О таком непристойно спрашивать, но хочется очень, если совсем честно. Вот закончит Гунечка рассказ, надо будет его…
Гунечка не закончил. Только-только про самое интересное завел: про то, как поутру ошарашенный Тимофей и очень встревоженный Старый вышли вместе с ним на лесную тонкую тропу. Как снег на хвойных лапах лежал — тоже лапами, пушистыми и мягкими, но холоднющими. Как тропка еле нащупывалась среди округлых сугробов, как морозом пахло — до звона в носу. Как по первому мальчишкиному: «Эй, котя», — из-за еловых фигур показалась самка дикого кота, вальяжная и хмурая, строже, чем Савва Севастьяныч, но куда отходчивее. И как Гунька с ней в снегу кувыркался, позабыв про минус тридцать два градуса по Цельсию. Он же себя в этот момент котом считал, хоть и подросткового возраста (такой зверек обычно кутенком называется, кутькой), так что местная погода совсем не страшила, ведь шерсть-то у него крепкая, густая и надежная. Я прям почувствовала, как пар от лохматой морды идет и иней на гибких усах выступает. А тут звонок в дверь.
Принесло Евдокию вовремя, ничего не скажешь. Вот как она нужна, так никогда сразу не найдется, а как разговор такой вкусный, так вечно…
Я же знаю, что при Дуське Гуня лишнего слова не скажет, будто его снова за какую-то провинность права голоса лишили. А мне так хотелось узнать, как именно Старый Гуньке про наших объяснял да как уговаривал в ученики идти. Уже понятно было, что при всей странности ситуации Павлик в помощники не по приказу отправился, а сам, из любопытства и добровольно. Только вот я понять не могу, почему он это сделал? Не хотел с котами разлучаться, решил стать таким же, как его батя Митя, или что-то еще там было между ним и Саввой? Ну вот вечно из-за Жеки все наискосок происходит, непутевая она все-таки.
Только это я зря на Евдокию ругалась. В глазок фигура, может, и напоминала Дуськину, но только общими женскими достоинствами, выпиравшими сквозь дубленку. А когда я дверь открыла, то ахнула, честное слово. На пороге совсем другая гостья стояла, мирская. Редко я ее видела да часто про нее думала. Опасностью от Семеновой жены сейчас не пахло. Одним только отчаянием да растерянностью. Ну неловкостью еще, но после первой чашки чая это сразу прошло.
— Я — Даша, — снова повторила Сенина жена, не зная, на кого смотреть, на меня или на Гуньку.
— Бывает. Я вот Паша и ничего, живу. — Гунечка решительно обогнул визитершу, клацнул у нее за спиной кругляшком дверного замка. Ясно же, что девочка к нам не по ошибке заглянула.
Так что мы с ней теперь друг на друга смотрели. Примерно как в зеркало или враг на врага. Хотя я про это как-то не сразу подумала, в голове Пашкина история все еще крутилась и никак оборваться не могла. Хорошо, конечно, что не он своих родителей убил, я в это и раньше верила, но все-таки так легче. Но это мне легче, Гуня-то не успокоится никак, до сих пор не знает, кто маму с батей тогда порешил. Впрочем, у нас этого вроде никто не знает. Разве что Старый?
Зато вон сколько другого интересного выяснилось! Что у парня способности явно от рождения были, я поняла. Но вот кто их ими наградил и как Гунька учеником стал, было непонятно. И любопытно до ужаса. Да и просто любопытно тоже: с таким-то погружением в ситуацию и деталями. Все-таки хороший Гунька рассказчик, не зря мама-актерка ему разговорную речь ставила. Мне вон до сих пор запах котовой шерсти мерещится. Более того, кажется даже, что Гуня и сейчас не по-человечески говорит, а на языке тварюшек.
Вон как гласные вымяукивает. Но девочка ничего так, понимает его вроде.
— Хм… это вас в честь дедушки, да? Я его видела. На его свадьбе. Он вам не рассказывал?
— Не успел, — мрякнул Гуня, вытаскивая из гардеробной свободные «плечики». — Я тут вас раздену слегка. Ничего?
Девочка мелко засуетилась, освобождая рукава дубленки и бесконечный, во много раз намотанный на шею оранжевый шарф. Цвета мандариновых корок, кажется. Я их обычно Клаксончику в глинтвейн крошу.
Я сейчас о чем угодно хотела думать: о Клаксошке, о способах варки глинтвейна, о Гуниной недосказанной истории, о том, что мы с Сениной женой одного возраста примерно, а она все равно моложе выглядит, без всякого ведьмовства. А по-хорошему если, то надо было о назначенной на сегодня встрече соображать. А не на нее ли девочка Даша пришла? Так что я выдохнула глубоко и Даше в глаза заглянула. Неприятно было.
— Да вы проходите, проходите, мы вас сейчас чаем… к чаю… — сообщила я через несколько секунд. Как-то все опасности нашей нынешней жизни у меня из головы повылетали сразу. Не для этого у нас сегодня гостья. Не будет она никого убивать, ей бы самой не убиться. Ой, беда-а.
Гунька подхватил мою инициативу и заодно гостьину сумочку, спросил, чего барышня желают: гостевые тапочки или бахилы на сапоги. Девочка выбрала второе, протянула ладошку за двумя шуршащими голубыми полиэтиленовыми лепестками, а потом охала смущенно, пока Гуня принца из «Золушки» изображал, упаковывая барышнины ножки в это одноразовое безобразие. И все намяукивал ей чего-то, хоть и по-людски.
— Ой, какая у вас киса чудесная. — Сенечкина жена переступила неловко, подождала, когда Гунька выпрямится, и сама присела на корточки, мазнув по крылаткиному хребту наманикюренной пятерней. Цирля фыркнула неучтиво, прижимая крылья к холке, но девочка все равно до них пару раз дотронулась, хоть и не заметила. — Я так кошек люблю, очень, просто обожаю. А Сережа заводить не хочет, говорит, что они бестолковые.
Я как-то даже и не поняла, что Сережа — это Сенино нынешнее имя в миру. Потом сообразила, изумилась. Какие это «бестолковые», если мне Сенечка почти двадцать лет назад в подземном переходе котенка в подарок приобрел. Сам же и решил, что кошку Софико будут звать, сам над ней умилялся и ласкал всячески, заходя ко мне в гости. Вот те на! «Бестолковые»?
Девочка, впрочем, мое недоумение на незнание списала.
— Сережа — это мой муж. Он сюда меня приводил однажды, понимаете? Я, собственно, из-за него. Я сейчас все объясню. Мне ваша бабушка нужна. Она дома? Ну или дедушка…