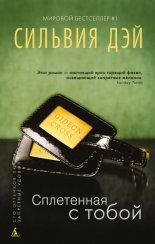История второй русской революции. С предисловием и послесловием Николая Старикова Милюков Павел
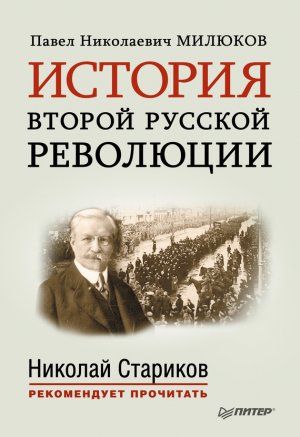
Выдача и бегство Керенского. Ночь на 1 ноября прошла в крайней тревоге. В мрачных коридорах старого Павловского дворца «толпились настороженные, обозленные люди». «Офицеры сбились в одну комнату, спали на полу, не раздеваясь. Казаки, не расставаясь с ружьями, лежали в коридорах и уже не верили друг другу». В комнатах Керенского, еще вчера переполненных, не было ни души. До рассвета Керенский «уничтожал все бумаги и письма, которых нельзя было оставить в чужих руках». Потом он «прилег на постель и задремал с единственной мыслью: придут ли утром эшелоны?».
В 10 часов его внезапно разбудили. Вместо перемирия казаки, посланные в Красное Село парламентерами, вернулись с матросской делегацией с Дыбенко во главе. Основное требование — безусловная выдача Керенского. Казаки готовы принять это условие.
«Громадного роста красавец-мужчина, с вьющимися черными кудрями, сверкающий белыми зубами, с готовой шуткой на смеющемся рте, физический силач, позирующий на благородство», Дыбенко, по словам Краснова, «в несколько минут очаровал не только казаков, но и многих офицеров». «Давайте нам Керенского, а мы вам Ленина предоставим — тут же у дворца и повесите». Краснов выгнал казаков, пришедших к нему с этим предложением. Керенский решил... «вывести на свежую воду самого Краснова». Около полудня он вызвал его к себе.
«Приходит — корректный, слишком спокойный», — рассказывает Керенский. Потом «нервность, сменившая наружное спокойствие первых минут, бегающие глаза, странная улыбка — все это не оставляло никаких сомнений». Сомнений — в чем? Керенский и в эту минуту не оставляет позы величия. Он беседует с Красновым, как беседовал с В. Львовым, с Крымовым. Что происходит внизу? Как мог он допустить матросов во дворец? Как мог не предупредить, не осведомить? Краснов длинно объясняет.
Вот как сам генерал Краснов передает этот последний разговор с верховным главнокомандующим:
«Я застал Керенского, нервно шагающим по диагонали средней комнаты своей квартиры и в сильном волнении. Когда я вошел к нему, он остановился напротив, почти вплотную ко мне, и сказал взволнованным голосом: «“Генерал, вы меня предали. Ваши казаки определенно говорят, что они меня арестуют и выдадут матросам”».
— Да, — отвечал я, — разговоры об этом идут, и я знаю, что ни сочувствия, ни веры в вас нигде нет.
— Но и офицеры говорят то же.
— Да, офицеры особенно настроены против вас.
— Что же мне делать? Остается одно: покончить с собой.
— Если вы честный человек и любите Россию, вы поедете сейчас, днем, на автомобиле с белым флагом в Петроград и явитесь в революционный комитет, где переговорите как глава правительства.
А. Ф. задумался; потом, пристально глядя мне в глаза, сказал:
— Да, я это сделаю, генерал.
— Я дам вам охрану и попрошу, чтобы с вами на автомобиле поехал матрос.
— Нет, — быстро возразил Керенский. — Только не матрос. Вы знаете, что здесь Дыбенко.
Я ответил, что не знаю, кто такой Дыбенко.
— Это мой политический враг, — сказал мне А. Ф. Керенский.
— Что же делать, — отвечал я. — У человека, занимающего столь высокое место, естественно, есть друзья и враги. Вам приходится теперь дать ответ во многом, но если ваша совесть чиста, Россия, которая так любит вас, поддержит вас, и вы доведете ее до Учредительного собрания.
—Хорошо, но я уеду ночью, — сказал, немного подумав, А. Ф. Керенский.
— Я не советую вам делать так, — возразил я ему. — Это будет походить на бегство. Поезжайте спокойно и открыто, как глава правительства.
— Хорошо, но только дайте мне надежный конвой.
Я вышел из его квартиры, потребовал себе казака Руссова (который был выбран для наблюдения за Керенским) для того, чтобы вызвать надежных людей для сопровождения А. Ф. Керенского в Петроград»[137].
Были собраны дивизионные комитеты, и после шестичасовых переговоров, в два часа пополудни, выработаны следующие условия перемирия:
«1) полная амнистия и выпуск на свободу всех юнкеров, офицеров и других лиц, принимавших участие в борьбе, кроме имеющих за собой обоснованное обвинение в государственной измене;
2) выпуск на свободу и выдача надлежащих пропусков всем членам совета Союза казачьих войск;
3) прекращение грабежей, насилий и неистовств над мирными жителями, если таковые происходили и впредь предотвратить;
4) свободный и организованный пропуск всех семейств казаков, находящихся в Петрограде, с правом вывезти необходимое имущество;
5) установление надежной охраны в г. Гатчине и окрестностях после отъезда казаков;
6) полная гарантия спокойствия и нормальной жизни в Гатчинской школе прапорщиков и авиационной школе;
7) дать возможность приготовить все для погрузки отряда казаков не спеша;
8) немедленно по окончании переговоров открыть движение всех железных дорог, чтобы дать возможность подвоза продовольствия и всего нео бходимого;
9) открыть все заставы и установить свободное сообщение со столицей. Товарищи Ленин и Троцкий, впредь до выяснения их невиновности в государственной измене, не должны входить как в министерство, так и в народные организации. «С другой стороны, было постановлено по заслушании доклада представителей революционного комитета»: «передать Керенского в распоряжение революционного комитета для предания гласному народному суду под охраной трех представителей от казаков, трех от партий и трех от матросов, солдат и рабочих Петрограда. Обе стороны дают честное слово, что над ним и вообще ни над кем ни в коем случае не будут допущены никакие насилия и самосуды».
Керенский, как видим, был прав, что «внизу» происходил «торг о цене его головы». Понятны в связи с содержанием этих решений, которые здесь переданы по данным первоначальной брошюры Краснова, и советы Краснова Керенскому поехать в Петроград добровольно, с надежным эскортом. В некоторых пунктах соглашения видны следы предложений Краснова о перемирии, посланных накануне в Красное Село. Едва ли, конечно, Краснов мог поверить в добросовестность предложения «румяного и веселого красавца-мужчины» Дыбенко поменять Керенского на Ленина, «ухо за ухо».
Казаки, однако, этому верили. Вскоре по принятии приведенных решений, в три часа дня, к Краснову, по его позднейшим воспоминаниям, «ворвался комитет 9-го Донского полка с войсковым старшиной Лаврухиным». Казаки истерично требовали немедленной выдачи Керенского, которого они под своей охраной отвезут в Смольный. «Ничего ему не будет, — говорили они. — мы волоса на его голове не позволим тронуть».
Дальше в показаниях Краснова и Керенского начинается важное разноречие. Конец разговора своего со станичниками Краснов передает здесь так, как выше передан его разговор с той же делегацией 9-го Донского полка, происшедший (по первоначальной брошюре Краснова) в пять часов вечера накануне, 31 октября. Надо думать, что в позднейших воспоминаниях произошло смешение, и тот же разговор отнесен к 3 часам 1 ноября. Если это так, то и в дальнейшем рассказе Краснова мы можем предполагать путаницу. Краснов рассказывает следующее:
«Когда они (казаки) вышли, я прошел к Керенскому. Я застал его смертельно бледным в дальней комнате его квартиры. Я рассказал ему, что настало время, когда ему надо уйти. Двор был полон матросов и казаков, но дворец имел и другие выходы. Я указал на то, что часовые стоят только у парадного входа. “Как ни велика ваша вина перед Россией, — сказал я, — не считаю себя вправе судить вас. За полчаса времени я вам ручаюсь”. Выйдя от Керенского, я устроил так, что надежный караул (обещанный депутацией 9-го полка) долго не могли собрать. Когда он явился и пошел осматривать помещение, Керенского не было. Он бежал».
Керенский в своих воспоминаниях утверждает, что «все это вздор и вымысел» и что никакого свидания с Красновым непосредственно перед побегом у него не было. Утверждение Керенского подтверждается не только подозрительно театральным тоном обращения, которым отличаются и части предыдущей беседы, но и тем обстоятельством, что в своем первоначальном рассказе, составленном тогда, когда воспоминания были свежее, Краснов также ничего не говорил о втором разговоре с Керенским. Там он рассказывал о бегстве Керенского как совершенно неожиданном для него самого. Он описывал, как после приведенного выше разговора, происходившего около полудня, он едва успел получить сведения о ходе переговоров с казаками, отправить телеграмму в Ставку и вызвать к аппарату казачьего комиссара в Ставке, как наткнулся в комнате офицеров штаба на растерянных казаков и офицеров, сообщивших ему, что Керенский бежал. «Это известие показалось мне совершенно невероятным, — сообщает Краснов в своем первоначальном «Описании». — Был полный день: коридор дворца (квартира Керенского выходила на два коридора, охранялся же только один вход, другой был заперт), дворцовый двор и площадь перед дворцом кишели казаками и солдатами. Как можно было бежать через всю эту кипень людей такому приметному наружно человеку, каким был А. Ф. Керенский?» Из расспросов Краснов установил, что Керенский «ушел в матросской куртке и синих очках».
По-видимому, покрывая себя перед начальством, Краснов телеграфировал в Ставку генералу Духонину: «Приказал арестовать главковерха: он успел скрыться».
От приказа арестовать до пособничества в побеге — расстояние, конечно, очень большое, и единственным исходом из этого ряда внутренних противоречий генерала Краснова является признать более правильным изложение Керенского, совпадающее с первоначальным свидетельством самого Краснова. Керенский рассказывает («Гатчина»), как после своего «последнего свидания» с Красновым, изложенного выше, он «рассказал всю правду тем, кто еще оставался с ним». По его словам, тут же было решено, что он с адъютантом останется в своих комнатах, но живым не сдастся, а с наступлением сумерек выйдет из дворца подземным ходом, который был указан ему одним из высших служащих дворца. Но в третьем часу к нему вбежал «тот самый солдат, который утром принес весть о Дыбенко», и сообщил, что «торг состоялся» и что для ареста Керенского и выдачи его большевикам уже избрана смешанная комиссия. «Каждую минуту матросы и казаки могли ворваться». «Я ушел из дворца, — рассказывает Керенский, — за 10 минут до того, как предатели ворвались в мои комнаты. Я ушел, не зная еще за минуту, что пойду. Прошел нелепо переодетый под носом у врагов и предателей. Я еще шел по улицам Гатчины, когда началось преследование»... Потом на автомобиле он уехал по шоссе к Луге.
Адъютанты Керенского тогда же сообщили печати следующее официальное объяснение его исчезновения. «Около 3 часов дня, когда стала известна вся безнадежность создавшейся обстановки для А. Ф. Керенского, решение казаков выдать его большевикам, по его мнению, должно было повлечь за собой самосуд: тем более, что у него не было надежды на то, что его дело будет рассматриваться в условиях нормального политического процесса, он решился временно скрыться, с тем чтобы, когда улягутся страсти и настроение общества будет более объективным, объяснить стране как обстановку, в которой он действовал в последние дни, так и те причины, которые заставили его решиться сделать этот шаг».
В самый момент обнаружения бегства Керенского комиссар Северного фронта Войтинский сообщил генералу Краснову, что «соглашение между отрядом Краснова и представителями Петроградского гарнизона достигнуто на основании низложения Керенского». В Псков и в Ставку Войтинский послал следующие телеграммы. В Псков (после только что приведенной фразы): «Предпишите немедленно остановить все двигающиеся к Петрограду эшелоны и прекратить всякие действия, связанные с формированием отряда Керенского». Наштаверху (после того же сообщения): «Все проявления гражданской войны должны быть немедленно ликвидированы. В частности, прекратите движение эшелонов и известите всех о прекращении военных действий между столкнувшимися сторонами». «Всем, всем» была послана третья телеграмма (после той же вступительной фразы): «Вопрос управления Россией этим соглашением не предрешается, но устанавливается безусловное прекращение гражданской войны. Керенский покинул отряд».
Ликвидация похода генерала Краснова. В первую очередь предстояла ликвидация красновского похода. Казачий комиссар при Ставке Шапкин, еще не зная о соглашении и исчезновении Керенского, телефонировал Краснову, что казачьим частям надо соединиться и добиваться пропуска на Дон, а Керенскому, не выдавая его, «чего не допускает казачья честь», надо «дать возможность скрыться». Слух об этом разговоре немедленно дошел до казаков, и мысль об уходе домой окончательно разрушила в их среде остатки дисциплины. Офицеры пребывали в состоянии растерянности, когда колонна солдат лейб-гвардейского Финляндского полка в несколько тысяч человек в стройном порядке беспрепятственно прошла казацкие заставы и подошла к дворцу. «Казаки оставили меня и разбежались куда попало, — рассказывает Краснов. — За финляндцами шли матросы, за матросами — красная гвардия. В окна, сколько было видно, все было черно от черных шинелей матросов и пальто красной гвардии. Тысяч двадцать народа заполнили Гатчину, и в их темной массе совершенно растворились казаки».
О заключенном перемирии вновь приходившие части ничего не знали и считали, что они «взяли Гатчину». Солдаты, матросы, красногвардейцы, казаки — все перемешалось. Смешанная толпа наполнила коридоры, лестницы и комнаты дворца. Они «шатались по коридорам, тащили ковры, подушки, матрацы». «Прибывшие с матросами народные комиссары Дыбенко, мичман Раскольников, Рошаль сбивались с ног, успокаивая свое непослушное войско. Всюду стоял гомон голосов, происходили летучие митинги, шли споры, легко переходившие в брань. Матросы упрекали казаков в том, что они шли за Керенским, казаки упрекали матросов в том, что они стояли за Ленина... Обе стороны упорно открещивались от своих вождей и до хрипоты кричали, что они стоят за Учредительное собрание».
В 11 часов ночи Краснов отправил в Ставку телеграмму, в которой сообщал о разложении казаков и прибавлял: «Ночуем, окруженные часовыми финляндцев (Финляндского полка), стоящими вперемежку с нашими». Последовала тревожная ночь на 2 ноября: в час ночи явился главнокомандующий петроградскими войсками «подполковник Муравьев и объявил генерала Краснова со штабом арестованными «именем Временного правительства». Уведомленные о том, что это правительство уже заключило перемирие, одним из условий которого является отказ от ареста и насилия, Муравьев смутился и извинился. Вопрос об аресте был исчерпан, но Муравьев потребовал приезда генерала Краснова в Смольный «для допроса»[138]. За поздним временем поездка была отложена на утро. Утром в Гатчинский дворец приехал посланец из Смольного, уверивший Краснова, что допрос продолжится «не более часа». Краснов поехал.
В Смольном, переполненном вооруженными «товарищами» часовыми и канцелярскими барышнями, Краснова поместили в комнату, где уже содержались другие лица, причастные к защите Временного правительства: один адъютант Керенского, комендант Гатчинского дворца и т. д. Через несколько часов явился матрос для вопроса Краснову, «по чьему приказу он выступил и как бежал Керенский». Вскоре, однако, нормальный ход этого расследования был нарушен появлением всего комитета 1-й Донской дивизии в сопровождении Дыбенко. Между ними и прапорщиком Крыленко шел спор. Крыленко требовал, чтобы, отправляясь на Дон, казаки выдали пушки. Казаки отказывались и настаивали на своем. В этот момент, не считая еще свое дело окончательно выигранным, большевики их боялись. Крыленко спрашивал Краснова, правда ли, что генерал Каледин уже под Москвой. Через начальника штаба Краснова Троцкий давал понять Краснову, что он может получить высокий пост у большевиков.
Ввиду явного нежелания Краснова пойти на это предложение он был объявлен под домашним арестом и отвезен на свою квартиру. Крыленко объявил, что договор с казаками аннулирован народными комиссарами, так как не исполнен первый пункт его — выпущен Керенский. Спутник Краснова ответил, что тогда не исполнен и последний пункт, ибо Ленин и Троцкий не под следствием, а во главе власти. Последовали переговоры о том, куда двинуть казаков из Гатчины, оставить у них пушки или отобрать и т. д. Так прошли 2, 3 и 4 ноября, и все это время генерала Краснова продержали под домашним арестом. Ввиду настойчивости, проявленной казаками, их желания были в конце концов удовлетворены, отряд направлен в Великие Луки, куда поехал и Краснов. Ночью 10 ноября 1-я Донская казачья дивизия отправлена на Дон. Краснов писал Каледину, что туда придут совершенно небоеспособные и разложившиеся части, которые надо распустить по домам и заменить новой молодежью. Каледин отвечал, что для этого у него нет власти. Краснов «понял, что течение несло неудержимо к большевикам».
Отношение Ставки ко всему совершившемуся определилось в самый день исчезновения Керенского, 1 ноября. Это явствует из следующей телеграммы генерала Духонина, разосланной после получения приведенных выше телеграмм Войтинского. «Сегодня, 1 ноября, войсками генерала Краснова, собранными под Гатчиной, было заключено перемирие с гарнизоном Петрограда, дабы остановить кровопролитие гражданской войны. По донесениям генерала Краснова, главковерх Керенский оставил отряд, и место пребывания его не установлено.
Вследствие сего, на основании положения о полевом управлении войск я вступил во временное исполнение должности верховного главнокомандующего и приказал остановить дальнейшую отправку войск на Петроград. В настоящее время между различными политическими партиями происходят переговоры для формирования Временного правительства. В ожидании разрешения кризиса призываю войска фронта спокойно исполнять свой долг перед родиной, дабы не дать противнику возможности воспользоваться смутой, разразившейся внутри страны, и еще более углубиться в пределы родной земли. Духонин».
«Переговоры между политическими партиями», о которых упоминается здесь, очевидно, происходили не в Ставке, а в Петрограде. В ожидании их окончания генерал Духонин встал на единственно возможную формальную точку зрения. Но практически эта позиция равнялась отказу от дальнейшей поддержки правительства Керенского. Все усилия Савинкова и Вендзягольского, выехавших из Гатчины с целью убедить армии фронта продолжать борьбу, были, таким образом, заранее обречены на неудачу. В Пскове, куда они выехали 1 ноября, окончательно выяснилось, что именно распоряжениями генерала Черемисова, а вовсе не большевистскими настроениями пехотных частей объяснялось главным образом то опоздание, которое стало причиной неудачи похода генерала Краснова. Двусмысленная позиция главнокомандующего Северным фронтом заставила и его подчиненных быть крайне уклончивыми. Начальник штаба генерал Лукирский сидел дома и не ходил в штаб. Он признал, что приказы Черемисова обнаруживают его нежелание допустить движение пехотных частей к Петрограду, но от дальнейшего обсуждения причин, побуждений и последствий этой тактики главнокомандующего отказался. Генерал Барановский, родственник Керенского, ответил приезжим: «В моем положении мне неудобно вмешиваться во все это». Генерал Духонин, запрошенный Савинковым по аппарату 3 ноября, ответил только, что приглашает бывшего управляющего военным министерством лично прибыть в Ставку. Уже 4 ноября Савинков ответил на это приглашение письмом из Луги, что не может приехать, потому что «его ищут», но что при безостановочном движении эшелонов в Луге еще может собраться отряд в 2-5 пехотных дивизий, который «при достаточной артиллерии и хотя бы небольших конных частях» мог бы «без особого труда» предпринять поход на Петроград, который «должен увенчаться успехом». Не дожидаясь ответа, Савинков снова едет в Псков и делает безнадежную попытку убедить дивизионный комитет и штаб, что Черемисова, который сошелся с большевиками, надо арестовать.
Ликвидация обороны Петрограда. Дивизионный комитет пытался «всячески выпрямлять извилистые пути» эшелонов, разбрасываемых Черемисовым в разные стороны. Действительно, 3 ноября приходит первый эшелон 35-й дивизии. Но за ним не следуют другие. И «дисциплина берет верх». Решено обратиться еще раз к высшей власти, к генералу Духонину. Савинков и Вендзягольский 5 ноября шлют ему телеграмму, в которой просят срочно указать, «сосредоточиваться ли частям 35-й и 3-й Финляндской дивизии в районе Луги или отбывать по другим направлениям». Черемисову они телеграфируют одновременно, что «при восстановлении законного Временного правительства ими будет ему доложено о его противоречивых распоряжениях, кои могут дать повод усмотреть в них нежелание защищать законную власть в столь ответственную минуту». Части 35-й дивизии, получившие накануне приказ Черемисова грузиться обратно, из Луги на Псков, отказываются выполнить этот приказ.
Все это были последние судороги. 5 ноября пришло распоряжение Духонина, подтверждавшее приказ Черемисова. Еще накануне, 4 ноября, Духонин повторил свой приказ от 1 ноября, остановивший дальнейшую отправку войск на Петроград. С каким настроением он это делал, видно из его разговора по аппарату с новым начальством, прапорщиком Крыленко. В эти же дни Крыленко прямо спрашивал Духонина: «Как и чего мы можем ждать с вашей стороны по отношению к создавшемуся положению вещей?» Духонин, который в телеграмме от 27 октября Каледину заверял.., «что мы все в тесном сотрудничестве с комиссарами и войсковыми комитетами... до последнего предела будем бороться для восстановления в данное время Временного правительства и Совета республики», не мог сразу решиться признать, что наступил «последний предел». Фактически сам положив этот предел своим распоряжением об остановке движения эшелонов и, конечно, не разделяя упорной настойчивости Савинкова и его упрямого оптимизма, Духонин, однако, не мог решиться и на признание новой власти. Он отвечал Крыленко: «Ставка не может... принять участие в решении вопроса о законности верховной власти... Я как временно исполняющий должность верховного главнокомандующего готов войти в деловые сношения с генералом Маниковским». На повторные заявления Крыленко, что речь идет, собственно, не об этом, а о прекращении передвижения войск, возбуждающего «волнения гарнизона Петрограда», Духонин отвечал односложной справкой: «Мой приказ 1 ноября выполняется». Печатая юзограмму этих переговоров, «Известия» прибавили от себя, что «так могут поступать только люди, которые еще пока не знают, чего держаться», и что генерал Духонин, конечно, не может остаться на своем посту, раз в такой критический момент он колеблется безоговорочно признать власть Советов». Так готовилась агония Ставки и личная трагедия Духонина.
Сопротивление армии перевороту большевиков было, таким образом, остановлено на первых робких попытках. Савинкову и Вендзягольскому оставалось спасаться самим, что они и сделали, вернувшись в Псков с погрузившимися воинскими частями. В момент их отъезда, 6 ноября утром, разведка сообщила, что на вокзале в Луге уже находятся Дыбенко и Рошаль во главе отряда матросов и что солдаты с ними братаются... В Пскове было получено новое распоряжение генерала Духонина: направлять все части, двигающиеся на Лугу, обратно в Невель и в первоначальные места погрузки.
В Петрограде сопротивление большевикам после 25 октября сосредоточилось в руках «комитета спасения родины и революции», созданного городской думой. Одновременно борьбой руководила военная комиссия при центральном комитете партии эсеров. Связь между комитетом и комиссией поддерживалась тем, что некоторые члены, как Гоц, участвовали и там, и здесь.
Вероятно, в этой среде существовало убеждение, высказанное Керенским («Гатчина»), что в «Санкт-Петербургском гарнизоне, как в полках, так и в специальных войсках, было еще достаточно организованных антибольшевистских элементов, готовых при первом удобном случае выступить против большевиков». Мы видели, что между Петроградом и Гатчиной не прерывались сношения, целью которых, очевидно, была координация борьбы. Известия, получавшиеся в Гатчине, были то оптимистические, то, наоборот, очень пессимистические. Можно сказать, что Петроград возлагал надежды на Гатчину, а Гатчина — на Петроград.
Из показаний Ракитина-Брауна, Краковецкого и Фейта в московском процессе эсеров в июне 1922 г. видно, что военной комиссией эсеров был разработан план восстания, целью которого был захват Смольного и удар в тыл стоявшим против отряда Краснова в Гатчине частей Петроградского гарнизона. План этот был утвержден на особом совещании, в котором участвовали Авксентьев, Гоц, Богданов и полковник Полковников (подозрения против последнего, высказывавшиеся Керенским и некоторыми министрами, тем самым оказываются преувеличенными). Успех плана зависел от согласования его с движениями красновского отряда, а также, разумеется, от численности войск, которые примут участие в выполнении. Но части Петроградского гарнизона вопреки расчетам эсеров и «комитета спасения» уклонились от участия. Единственным надежным элементом оказались юнкера. И как раз тут случилось обстоятельство, которое повело к провалу всего предприятия и к кровавой расправе с юнкерами. В Смольном узнали о плане эсеров.
Получив об этом сведения, рассказывает Ракитин, мы (по смыслу показания, инициаторы плана) «решили форсировать события и, не дожидаясь прихода Керенского в Гатчину (очевидно, деталь неточная), поднять восстание.
Я (Ракитин) составил приказ, в котором говорилось, что власть большевиков свергнута и что все члены военно-революционного комитета должны быть задержаны. Этот приказ должны были подписать Авксентьев, Гоц, я и Синани».
В данном случае инициаторы, очевидно, пошли дальше руководителей. По рассказу Керенского, «на заседании военного совета, происходившем вечером 28 октября, никакой резолюции о немедленном восстании принято не было». Это произошло позже, когда заседание кончилось и большая часть участников его разошлась[139]. В этот момент в помещение заседания Совета явилось несколько военных с известием, «которое Керенский называет крайне тревожным, но едва ли верным». Военные заявили, что «большевики, узнав о готовящихся событиях, решили с утра 29-го приступить к разоружению всех военных училищ». Они выводили отсюда, что «больше медлить нельзя, завтра же нужно рисковать».
Этот ход событий объясняет, почему, когда нужно было подписать приказ (составленный Ракитиным), «налицо не оказалось ни Авксентьева, ни Гоца». Гоц заявил на суде тотчас после показания Ракитина, что он не видал приказа, а потому и не подписывал. Инициаторы восстания, однако, перед этим не остановились. «Мы, — говорит Ракитин, — решились опубликовать приказ, поставив на нем их фамилии»[140].
Это едва ли была «провокация», как выражается Керенский. Но это во всяком случае была крайняя неосторожность и опрометчивость, повлекшие за собой роковые последствия.
Утром 29 октября началась канонада, «происхождение и смысл которой», по свидетельству Керенского, «оставались совершенно непонятными большинству гражданских и военных руководителей антибольшевистского движения в Санкт-Петербурге». Ракитин показывает, что начало восстания было удачно и что в этот момент он распространил заготовленный им приказ от имени «комитета спасения». Но, очевидно, сразу же обнаружилось крайнее неравенство сил — началась расправа.
Мы имеем свидетельство очевидца И. Кузьмина, напечатанное в органе правых эсеров «Народ», о том, что происходило 29 октября в Петрограде. «С 7-8 часов утра началась осада Владимирского военного училища. Я был разбужен пальбой из пушек, пулеметов и ружей. Юнкера и женский ударный батальон отстреливались до 2 часов и потом сдались. С той и другой стороны были раненые и убитые. Сколько их, я не знаю. В стенах училища пробиты бреши; двери и окна разбиты и разворочены... С момента сдачи толпа вооруженных зверей с диким ревом ворвалась в училище и учинила кровавое побоище. Многие были заколоты штыками, заколоты безоружные! Мертвые подвергались издевательствам: у них отрубали головы, руки, ноги. Убийцы грабили мертвых и снимали с них шинели и сапоги, тут же надевая их на себя.
Оставшихся в живых повели группами под усиленным конвоем в Петропавловскую крепость, подвергая их издевательствам и провожая ругательствами и угрозами. Это было кровавое шествие на Голгофу. Здесь свершилось. На вопрос, что делать с пленными, последовало распоряжение: “Расстрелять’! Раздалась команда первой группе юнкеров: “Становись в ряды”. Юнкера с бледными лицами выстроились у стены.
Однако солдаты, которым был поручен расстрел, с проклятьями бросили ружья в сторону и убежали.
“Кто добровольно хочет стрелять?”
Юнкера стояли и ждали.
Потом — несколько залпов, и они упали.
Приводили еще партии юнкеров и женщин из ударного батальона. По-видимому, их тоже расстреливали, хотя очевидец расстрела первой партии юнкеров не был свидетелем расстрела двух партий: он бежал от ужасов и только по раздавшимся залпам заключил, что и другие партии расстреляны. Это происходило днем, в центре города... Очевидец-солдат, который рассказал мне о злодеянии, совершившемся в Петропавловской крепости, закрыл лицо руками и, плача, отошел в сторону...»
Вот другое свидетельство, в письме А. И. Шингарева в «Русские ведомости» от 27 октября.
«Артиллерийским огнем не только покорено юнкерское Владимирское училище, но и разрушены соседние дома, убиты и ранены дети, женщины, расстреляно мирное гражданское население. Сдавшиеся юнкера на городской телефонной станции выводились на улицу и здесь зверски убивались; еще живые, с огнестрельными ранами, сбрасывались в Мойку, добивались о перила набережной и расстреливались в воде. Убийцы-мародеры тут же хладнокровно грабили их, отнимая сапоги, деньги и ценные вещи. Рассказ комиссара Адмиралтейского района об этих фактах, лично им наблюдавшихся, вызвал стоны и крики в заседании городской думы.
...Еще вчера от одного из гласных я слышал фактическое описание обыска в одной из женских организаций. Были издевательства, безмерная наглость и грубость, аресты. Во время обыска исчезли ценные вещи, серебряные ложки, платья, деньги. Новые жандармы унесли с собой все, что имело в их глазах какую-либо ценность, но оставили кое-что и свое: на полу после их ухода нашлась германская марка».
Так в столице было положено формальное начало гражданской войны, начало той бесконечной цепи страданий неорганизованных масс от вооруженного господства организованных шаек, в которой погибла русская государственность. Процесс распада власти, который мы проследили на протяжении всего нашего изложения, здесь пришел к своему естественному, давно предсказанному и предвиденному концу. В процессе разрушения отступила в сущности на второй план даже та идеология, во имя которой это разрушение совершалось. Вожди нового переворота были вовлечены в тот же стихийный процесс, которому открыли путь и не смогли противиться их предшественники. Этот контраст между возвышенными лозунгами, предполагавшими исключительное и неограниченное господство государства над частными интересами, и печальной действительностью, в которой групповые интересы привилегированной кучки получили неограниченную свободу злоупотребления среди разбушевавшегося океана народных страстей, составит предмет следующей части нашей истории.
Нам остается теперь рассказать о последней попытке спасти гибнущую государственную власть. Взятие Петрограда и центрального правительственного аппарата большевиками еще не решало вопроса, подчинится ли вся Россия захвату власти солдатами Петроградского гарнизона. Слово было за Москвой.
Сопротивление Москвы. Коммунистическая партия в Москве была, конечно, в курсе всего, что происходило в Петрограде. Как и в Петрограде, здесь боролись два течения: за и против восстания и немедленного захвата власти. Бухарин, Осинский, Смирнов стояли за восстание, ссылаясь на мнение Ленина. Ногин, Рыков, Скворцов, Норов возражали. За неделю до Октябрьского восстания в редакции московского «Социал-демократа» обсуждалось письмо Ленина, в котором Московский комитет партии приглашался взять на себя инициативу восстания, если ЦК и Петроградский комитет не захотят взять на себя ответственности. В партийном совещании руководитель военной организации Ярославский доложил, что «огромное большинство солдат на стороне пролетариата». Мешал только Совет солдатских депутатов, где продолжали преобладать эсеры. Для окончательного решения в большой аудитории Политехнического музея была собрана общегородская конференция коммунистической партии, которая после докладов Осинского, Семашко и Смирнова единогласно вотировала восстание.
Накануне Октябрьского восстания в Петрограде московские представители Рыков и Ломов участвовали в совещаниях в Смольном, на которые являлся Ленин, бритый и в парике. В день восстания Ломов был отряжен в Москву «брать там вместе с товарищами власть». Партийные организации коммунистов (Московский комитет, окружной комитет и областное бюро) немедленно выделили из себя центр, который занялся объединением работы этих организаций в Москве и мобилизацией, «по условленному конспиративному призыву», всех партийных сил в губернии и в области на помощь Москве[141].
Прежде чем перейти к результатам этой деятельности партийных учреждений, посмотрим, что предпринималось в антибольшевистском лагере при первых известиях о петроградских событиях 25 октября. Средоточием московских противников большевиков с самого начала явилась городская дума. Городской голова В. В. Руднев, эсер, немедленно созвал экстренное заседание думы и предложил ей высказаться по поводу переворота. Лично он высказался отрицательно, и даже в случае, если перемена правительства будет признана необходимой, считал возможным только правительство коалиционное, а не чисто социалистическое. В защиту переворота выступил большевик Скворцов-Степанов, сообщивший собранию, что захват власти Советами «хорошо организован и совершается почти безболезненно». Ему возражал Н. И. Астров, представитель партии народной свободы, находивший, что «безболезненность» переворота не исключает насилий и погромов, а хитрая обдуманность плана свидетельствует об участии германцев. Астров предлагал думе создать орган для руководства защитой столицы и охраны жизни и имущества населения. Ораторы-меньшевики разошлись во мнениях. Социалисты-революционеры поддерживали Руднева и Временное правительство. В заключение было принято воззвание к московскому населению — сплотиться вокруг думы для защиты Временного правительства, и решено было поручить управе создать при городском управлении комитет общественной безопасности с представительством демократических организаций. С утра 26 октября и было приступлено к организации этого комитета.
По идее эсеров, комитет должен был быть составлен не из представителей комитетов политических партий, а из представителей учреждений. Этим устранялись межпартийные споры; этим же, с другой стороны, определился и фактический перевес тех политических групп, которые преобладали в составе объединенных в комитете учреждений. В комитет безопасности вошли, таким образом: президиум городской управы в лице городского головы Руднева и трех его товарищей, представители уездного земства, президиум Совета солдатских депутатов[142], исполнительный комитет крестьянских депутатов, представители железнодорожного и почтово-телеграфного союзов, представители штаба военного округа. Представители думских фракций, то есть политических групп, были допущены лишь для осведомления, в качестве информационного комитета.
Комитет объявлял, что все обязательные распоряжения могут публиковаться только от его имени, и ставил своей задачей «защиту порядка и безопасности» и «уменьшение испытаний, которые грозят населению». Командующий войсками Московского округа в своем приказе от 26 октября «призывал не поднимать никакой гражданской войны, охранять национальные ценности и казенные учреждения и не допускать никаких выступлений темных сил и погромов».
Ограничение комитета пассивной задачей охраны безопасности вытекало из тогдашнего настроения. Психологии немедленного призыва к борьбе не было налицо, и даже те, кто с самого начала видел необходимость борьбы, считали необходимым привести население постепенно к сознанию этой необходимости. Городская дума, взявшая на себя руководство защитой, принципиально не хотела призывать к гражданской войне. Она лишь брала на себя своеобразную роль политического прикрытия между армиями и мятежниками. Это была, по выражению одного эсера, видного участника событий, «педантически-государственная концепция». Не признавая переворота, думский комитет взывал к стране и к фронту: «решающий голос в борьбе должен был принадлежать, по этой концепции, всей демократии России и действующей армии».
Получив от министра Никитина право пользоваться телеграфом, комитет апеллировал на решение Петрограда к стране. На тысячи телеграмм он получил сотни ответов. Но они запоздали и пришли после развязки. Ошибочна была и надежда продержаться, пока не выскажется фронт: мы видели, что фронт сам выжидал, пока не появилась возможность перейти на сторону победителя. Вся надежда в Москве была возложена на командование округом, но представитель командования полковник Рябцев два первых дня отсутствовал в комитете. Он был в Кремле и... переговаривался с большевиками. Приказаний от комитета он не получал и в силу упомянутой основной «концепции» комитета.
Для большевиков, напротив, все было ясно. К своей цели они шли, ни на кого не полагаясь и не оглядываясь направо и налево. Одновременно с заседанием городской думы 25 октября состоялось заседание Совета рабочих и солдатских депутатов, на котором были приняты решения, желательные большевикам. Правда, этому заседанию предшествовал общий сговор фракций Совета, и бюро фракций вынесло выработанную сообща платформу, сообразно которой предполагалось «для охраны порядка и борьбы с натиском контрреволюционных сил образовать временный общедемократический революционный орган в составе представителей от Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, представителей городского и земского самоуправлений, штаба округа и всероссийских железнодорожного и почтово-телеграфного союзов».
Но создание такого органа, который по составу совпадал бы с комитетом безопасности, организованным думой, вовсе не нравилось большевикам. Они потребовали перерыва и внесли свою формулу: «Московские Советы рабочих и солдатских депутатов выбирают на сегодняшнем пленарном заседании революционный комитет из 7 лиц. Этому революционному комитету предоставляется право кооптации представителей других революционных демократических групп, с утверждения пленума и социал-демократов. Избранный революционный комитет начинает действовать немедленно, ставя себе задачей оказывать всемерную поддержку комитету петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов». Социалисты-революционеры решительно протестовали против «создания организаций, направленных к захвату власти». «Снимая с себя всякую ответственность за результаты большевистской попытки государственного переворота», они от голосования отказались. Меньшевики голосовали против, но формула большевиков получила большинство 394 против 113 при 26 воздержавшихся, и московский «военно-революционный комитет», предназначенный действовать в «поддержку» петроградскому, был тут же выбран. «Большинство в нем (4 из 7) принадлежало к большевикам. Социалисты-революционеры отказались войти. Меньшевики вошли с оговоркой, что входят не для того, чтобы содействовать захвату власти Советами, а для того, чтобы помочь пролетариату и армии возможно безболезненнее изжить все последствия этой попытки авантюризма большевистских вождей и чтобы бороться внутри комитета за замену его общедемократическим революционным органом». Позиция довольно своеобразная в органе, который должен был заставить говорить пушки. Нужно прибавить, что и меньшевики, и объединенцы скоро почувствовали невозможность своего пребывания в составе органа, который вовсе не желал с ними считаться. «Ввиду явного нарушения большевиками принципа коллективности и стремления подавить волю меньшинства и действовать за его спиной, они вынуждены были покинуть комитет»[143].
Большевистский штаб восстания начал действовать немедленно. В помещении Совета рабочих и солдатских депутатов работа кипела. Одним из первых его действий было объявить на следующий день всеобщую забастовку и запретить выход «буржуазных» газет. Товарищ Голенко немедленно организовал нападение на типографии этих газет, начатый набор был разобран, и утром 26-го вышли только «Известия» и «Правда». Чтобы закрепить за собой московские войска, не знавшие в первую минуту, кого слушаться и запрашивавшие об этом «контрреволюционный» Совет солдатских депутатов, 26 октября была созвана конференция представителей всех частей Московского гарнизона. Огромным большинством 116 голосов против 18 она постановила выразить доверие большевистскому военно-революционному комитету. Прокламацией, напечатанной 27 октября в «Известиях», военно-революционный комитет брал власть в свои руки. «Революционные рабочие и солдаты г. Петербурга во главе с петербургским Советом рабочих и солдатских депутатов, — говорилось в этой прокламации, — начали решительную борьбу с изменившим революции Временным правительством. Долг московских солдат и рабочих — поддержать петербургских товарищей в этой борьбе. Для руководства ею московский Совет рабочих и солдатских депутатов избрал военно-революционный комитет, который и вступил в исполнение своих обязанностей. Военно-революционный комитет объявляет: 1. Весь Московский гарнизон немедленно должен быть приведен в боевую готовность. Каждая воинская часть должна быть готова выступить по первому приказанию военно-революционного комитета. 2. Никакие приказы и распоряжения, не исходящие от военно-революционного комитета или не скрепленные его подписью, исполнению не подлежат».
Немедленно же было сделано употребление из этих полномочий, взятых на себя военно-революционным комитетом. Занимавшие караулы в Кремле роты 56-го полка были на стороне большевиков, но решено было подкрепить их ротами 193-го полка, и приказ об этом, привезенный в ночь на 27 октября в Хамовнические казармы большевиком Ярославским, был немедленно выполнен. Начальник арсенала в Кремле Лазарев подчинился и требованию военно-революционного комитета о выдаче оружия. К 10 часам утра было выдано 1500 винтовок с патронами. Входы и выходы из Кремля были заперты. Прапорщик Берзин назначен начальником гарнизона Кремля.
С другой стороны центром сопротивления военно-революционному комитету, заседавшему в губернаторском доме на Скобелевской площади, становились военные училища, в особенности Александровское на Знаменке. Туда стекалось к юнкерам и офицерство, желавшее принять участие в борьбе с большевиками, и горячая студенческая молодежь. Первая стратегическая задача, которая была тут поставлена, — занятие доминирующих позиций и важнейших пунктов: Кремля, почты, телеграфа, телефона. Второй задачей являлось окружение Скобелевской площади, где заседал Совет. В первые дни восстания выполнение этих задач представлялось не только возможным, но и легким, так как военно-революционный комитет еще не успел стянуть своих войск. Но и Кремль, и почта были уже заняты ротами 56-го полка, сочувствовавшими восстанию. Начались переговоры между командующим округом полковником Рябцовым и военно-революционным комитетом о предупреждении кровавого столкновения.
Полковник Рябцов очутился в трудном положении между юнкерами, Комитетом общественной безопасности и военно-революционным комитетом. Человек не сильный и колеблющийся, он пытался лавировать среди противоположных требований, предъявлявшихся к нему, и очень скоро потерял всякий авторитет. В течение всего дня 27 октября он вел бесплодные переговоры с большевиками об очищении Кремля и занятии его юнкерами. При этом Рябцов оставался в Кремле среди восставших солдат, а Кремль был окружен юнкерами, не пропускавшими никого из ворот. Большевики требовали, чтобы юнкера очистили Манеж, который они занимали, и дали провезти из Кремля оружие, взятое из арсенала для вооружения солдат и рабочих. Взамен этого они соглашались увести из Кремля роту 193-го полка, но настаивали на оставлении там рот 56-го полка. Рябцов настаивал, чтобы охрана Кремля и арсенала были поручены юнкерам или чтобы по крайней мере они были впущены для охраны окружного суда. Солдаты 56-го полка, среди которых велись эти переговоры, волновались, требовали ареста Рябцова и грозили убить его. Рябцов, наконец, обещал отвести юнкеров от ворот Кремля и отдал соответствующий приказ, которого, однако, юнкера не хотели исполнять. К вечеру 27-го Рябцову наконец удалось выбраться из Кремля и перейти в помещение думы, откуда он вел дальнейшие переговоры.
Попав в район влияния Комитета общественной безопасности, Рябцов стал смелее. В 7 часов вечера он протелефонировал в военно-революционный комитет ультиматум: Кремль должен быть очищен, военно-революционный комитет распущен. Ответ должен быть дан через десять минут, иначе начнутся военные действия. Решение это было мотивировано тем, что военно-революционный комитет, «несмотря на все уверения, не вывел из Кремля отказавшуюся повиноваться воинскую часть и было допущено самое широкое расхищение оружия, пулеметов и снарядов из разных мест и снабжение ими большевистских организаций». «Мы испытывали большие колебания, — свидетельствует по поводу ультиматума Рябцова член военно-революционного комитета Аросев. — Никогда мое сердце так не трепетало, как в тот раз, когда приходилось решительно голосовать: отвергнуть ультиматум или нет»... «Товарищ председатель сосчитал голоса: за то, чтобы отвергнуть ультиматум Рябцова, большинство. Трезвые, твердые цифры голосов за и против убили колебания».
Действительно, в тот момент военно-революционный комитет еще не знал, чем он может располагать. Через два часа после принятого решения пролилась первая солдатская кровь на Красной площади. Но это был только небольшой авангард революции: отряд «двинцев», большевистских солдат, арестованных в Двинске еще в августе и переведенных в сентябре в Бутырскую тюрьму, откуда в количестве 860 они были выпущены 1 сентября «по постановлению московского Совета рабочих депутатов». «Двинцы» оказались первыми убежденными сторонниками восстания и его защитниками. Отряд в 300 человек бросился «пролить кровь за идею социализма», и «45 лучших товарищей двинцев легло у стен Кремля под выстрелами юнкеров». Остальные отбились и добрались до Скобелевской площади, где и составили основное ядро гвардии военно-революционного комитета.
В течение этого вечера, следующей ночи и утра 28 октября военно-революционный комитет пережил тревожные часы. Помещение Совета опустело: в нем остались только лица, непосредственно связанные с текущей работой. С уходящими в районы прощались, точно навсегда. Настроение оставшихся приближалось к паническому. «Начался поток тревожных вестей, — вспоминает большевичка П. Виноградская. — Доносили, что наших теснят, юнкера окружают Совет. Связь с районами определенно порывается. Как бы в подтверждение этих ошеломляющих донесений, во всех переулках, прилегающих к Совету со стороны Б. Никитской, начали показываться юнкера. Неприятельская артиллерия то и дело стала попадать в здание Совета. Нам отвечать было нечем: артиллерия к нам еще не пришла. Приток донесений из районов прекратился, и с часу на час можно было ждать, что мы очутимся в мешке, окруженные со всех сторон и отрезанные от внешнего мира. Этот момент надо считать самым тревожным, самым тяжелым на всем протяжении октябрьских дней».
Утром 28 октября в Кремле были получены сведения, что вся Москва в руках Рябцова, гарнизон сдался и обезоружен, заняты почта, телеграф и все вокзалы. По телефону Рябцов подтвердил эти сведения: «Все войска разоружены мной, я требую немедленного безусловного подчинения, требую немедленной сдачи Кремля». Подавленный этими сообщениями большевистский комендант Кремля Берзин «решил подчиниться приказу и сдать Кремль, чтобы спасти солдат от расстрела». Солдаты не хотели сдаваться: «Нам все равно погибать», но уступили необходимости и разоружились. Офицеры и юнкера вошли в Кремль, арестовали Берзина и членов большевистского комитета. Последовали расстрелы солдат арсенала.
Юнкера наступали и в других местах Москвы. «Весь центр города, — вспоминает большевик М. Ольминский, — кроме части Тверской улицы, был в руках юнкеров, в их руках вокзалы, трамвайная электрическая станция, телефон (кроме Замоскворецкого), военно-революционный комитет сразу оказался почти отрезанным от районов, и районы, плохо связанные между собой, вынесли на своих плечах всю тяжесть борьбы, не зная, что делается в центре. Отрезанность центра от районов (связь кое-как поддерживалась только через Страстную площадь) подвергала его ежеминутной опасности разгрома. Юнкерские броневики появились на самой Советской площади. Бывали моменты, когда казалось, что центру только и остается, что бежать. Это сильно отражалось на настроении членов военно-революционного комитета, делало их склонными к переговорам о перемирии и уступкам. Совсем иное настроение наблюдалось в районах».
Однако и в рядах победителей данной минуты настроение было далеко не радужное. Состав военной молодежи, собравшейся в Александровском училище, юнкеров, прапорщиков, студентов, мобилизованных интеллигентов был отборный и очень твердо настроенный. Но единства настроения и здесь не было. Вначале эта молодежь с ужасом смотрела на перспективу участвовать в гражданской войне. Иначе настроена была группа правого офицерства, с самого начала примкнувшая к защитникам Москвы. Но этим правым демократически настроенная молодежь не доверялась и побаивалась их влияния на себя. С другой стороны, не удовлетворяла этой молодежи и «педанчески-государственная» позиция Комитета безопасности, не желавшего непосредственно руководить борьбой и ссылавшегося на командующего округом. А командующий округом Рябцов страшно боялся сделать какой-либо шаг, за который его мог бы впоследствии привлечь к ответственности какой-нибудь орган «революционной демократии». Он оказался крайним неврастеником, бесконечно говорившим, когда надо было действовать, абсолютно не способным распоряжаться, не сумевшим запасти вовремя ни продовольствия, ни снарядов. Молодежь еще менее доверяла Рябцову, чем Комитету безопасности, обвиняя его в намеренной дезорганизации обороны и в контактах с большевиками. На комитет негодовали, что он не хочет сменить Рябцова надежным военным руководителем (в руководители, между прочим, предлагал себя Брусилов). Но комитет, как мы видели, принципиально избегал распорядительных действий, опасался офицерства правого настроения и, наконец, считал неудобным менять командование в разгар борьбы.
Была еще одна сила, которая при других условиях могла бы сыграть роль в борьбе: это представители низвергнутого в Петрограде правительства. В эти дни противники большевиков не могли не смотреть на них как на единственных представителей законной власти. С. Н. Прокопович был единственным из министров, не арестованным в Зимнем дворце. Он был арестован еще по пути туда в 10 часов утра, а около пяти часов пополудни освобожден из Смольного. Днем 26 октября под его председательством состоялось совещание товарищей министров, бывших в Петербурге. По словам С. Н. Прокоповича, «на этом совещании он указал на необходимость после потери Петербурга организовать сопротивление в Москве и просил дать соответствующие полномочия». Получив эти полномочия, 27-го утром он приехал в Москву и прямо с вокзала приехал в городскую думу, где заседал Общественный комитет; с ним были его товарищи Хиж-няков и Кондратьев. В думе они предложили «кооптировать» комитет во Временное правительство. Но авторитет Временного правительства, как мы видели, был невысок, и принять его фирму в Москве не значило облегчить борьбу. Сам С. Н. Прокопович вспоминает, что в Москве правые тогда говорили открыто: «Лишь бы большевики свергли власть Временного правительства, а там уже справиться с ними будет легко». «В стане правых и левых, — прибавляет С. Н. Прокопович, — я видел в эти дни чуть не открытое ликование по поводу молодцеватости большевиков».
При таких настроениях предложение Прокоповича «о кооптации» встретило в думе более чем сдержанный прием. Полномочия, данные товарищами министров в Петрограде, в Москве, очевидно, теряли свою силу. Идея Прокоповича и его товарищей — создать в Москве суррогат Временного правительства, таким образом, не могла осуществиться.
Другой идеей министра и его товарищей было опубликовать воззвание к населению, приняв тем самым на себя руководство борьбой. Текст этого воззвания был спешно составлен при участии членов партии к.-д. На следующий же день воззвание должно было появиться в газетах и показать Москве, что, несмотря на захват правительства в Зимнем дворце, законная власть Временного правительства не погибла и что в Москве имеются налицо ее представители, готовые возглавить сопротивление Москвы вооруженному покушению на власть, созданную революцией. Однако и этому плану не суждено было осуществиться. Воззвание не было опубликовано, и присутствие в Москве представителей законной власти совершенно не сказалось на ходе событий.
Отстранение представителей Временного правительства от руководства борьбой произошло как-то автоматически, само собой, как неизбежный результат соотношения вступивших в борьбу сил. Но вместе с этим терялась конкретная цель борьбы. С. Н. Прокопович рассказывает, что на третий или четвертый день борьбы к нему явились четыре общественных деятеля, которые заявили, что поддерживать Временное правительство они не хотят, но готовы поддержать его, если он объявит себя диктатором. Это фантастическое предложение характеризует настроение правых кругов. В более влиятельных левых кругах зрела другая мысль — та же самая, которая высказывалась в дни Петроградского восстания среди представителей социалистических партий: образование нового, чисто социалистического правительства. Но для большинства юнкеров и офицеров, наиболее активных участников борьбы, эта идея делала бесцельной саму борьбу.
Все эти внутренние противоречия в ближайшие дни вышли наружу. Но уже с самого начала они сказались в том, что вместо единства руководства и немедленных решительных действий защитникам государственности пришлось тратить дорогое время на ведение переговоров и на придумывание компромиссов между различными течениями, объединившимися для совместной борьбы[144].
Посредничество социалистов и перемирие. Мы видели, что вечером 27-го и утром 28-го большевистский комитет находился в положении, близком к панике, и проявлял готовность пойти на компромисс и на оттяжку решения. Правда, положение это несколько изменилось в течение 28 октября. После полудня 28-го вернулся, наконец, посланный на Ходынку за артиллерией член военно-революционного комитета В. Смирнов и привел три орудия, немедленно расставленные и начавшие стрелять вниз и вверх по Тверской от Скобелевской площади и по Космодемьянскому переулку. «Теперь голыми руками они Совета не возьмут, теперь мы продержимся день-другой, пока не подтянутся районы», — так формулирует впечатление, произведенное на военно-революционный комитет появлением этих орудий большевик В. Соловьев. Затем появились делегации с фронта, чтобы осведомиться о положении. Оживилась деятельность в районах. Тем не менее склонность к переговорам о перемирии у военно-революционного комитета еще не прошла, а в посредниках между ним и Комитетом безопасности не оказалось недостатка.
Первую попытку наладить переговоры между двумя вступившими в борьбу лагерями сделали меньшевики. Они заявили сторонам, что желают «мирной ликвидации гражданской войны» и хотят для этой цели «сплотить третью силу, которая заставила бы считаться с собой обе стороны». Меньшевики предложили для этого превратить сам Комитет безопасности в «общедемократический орган, независимый ни от думы, ни от Советов». Превращение это должно было состояться путем включения в комитет представителей социалистических партий. Эсеры и к.-д., вошедшие в думский комитет, на это не согласились, опираясь на то основное правило, что Комитет безопасности объединяет не политические партии, а учреждения и организации. После этого отказа меньшевики отозвали из Комитета безопасности всех членов партии, входивших в него от учреждений. Они, таким образом, остались вне обеих борющихся организаций.
«Третьей силой», несравненно более могущественной и действительно заставившей стороны идти на переговоры, явился знакомый нам «Викжель». «Викжель» заявил, что он только при том условии допустит подвоз к Москве войск, готовых поддержать Временное правительство, если «Комитет безопасности согласится на создание однородного (то есть чисто социалистического) министерства». «Скрепя сердце и идя на тяжелый компромисс, — свидетельствует прокурор палаты А. Ф. Стааль, — Комитет безопасности подчинился требованию “Викжеля”
«Что нам оставалось делать?» — говорил впоследствии один из видных членов Комитета безопасности автору этой книги. — Между нами не было ни одного сторонника однородного социалистического министерства. Но что бы было, если бы мы сказали, что не признаем этого лозунга? «Викжель» оставил под Москвой подходившие войска и обещал пропустить их лишь после исполнения его требований. Военные убеждали нас не упорствовать и соглашаться на что угодно. Члены комитета, вызванные в Александровское училище, были спрошены поименно, и все поголовно согласились нести ответственность за состоявшееся решение».
С другой стороны, однако, «Викжель» предъявил ряд требований и большевикам. Так как большевики этих требований не удовлетворили, то «Викжель» заявил, что с этого момента железнодорожный союз активно выступает против большевиков и будет пропускать в Москву войска беспрепятственно. При этих условиях военно-революционный комитет решился пойти на перемирие. Оно было заключено на срок с 12 часов 29-го по 12 часов 30 октября на следующих условиях: 1) полное разоружение белой и красной гвардии; 2) возвращение всего разобранного оружия; 3) роспуск обоих комитетов — военно-революционного и общественной безопасности; 4) привлечение всех виновных к судебной ответственности; 5) установление нейтральной зоны; 6) перемирие на 24 часа для выработки технических условий сдачи оружия и развода по казармам военных частей; 7) весь гарнизон подчиняется командующему войсками Московского военного округа. При штабе восстанавливается военный совет; 8) организация общего демократического органа.
Комитет безопасности, идя на все уступки, какие требовались, руководствовался уже известным нам соображением, что он составляет только «политическое прикрытие военной борьбы». На уступках, притом немедленных, настаивали военные по стратегическим соображениям. Делегаты комитета являлись в Александровское училище, где и обсуждались эти вопросы, перед большой аудиторией военных. По указаниям военных защитников Москвы, было заключено и упомянутое перемирие[145].
В течение ночи с 29-го на 30 октября особая «согласительная комиссия» разрабатывала «военно-технические вопросы и устанавливала «нейтральную зону», на линии которой уполномоченные «Викжеля» должны были предупреждать столкновения. Кольцо большевистских войск проходило через Крымскую площадь, Остоженку, переулки, идущие от нее (до Еропкинского) к Поварской, продолжение Ржевского переулка к северу от Поварской, Скатертный, Медвежий, Мерзляковский, проезд ц. Вознесения между Б. и М. Никитской, Спиридоновка, Спиридоновский пер., Большая и Малая Бронная, Богословский пер., юго-западная часть градоначальства, выходы переулка на Большую Никитскую, юго-западная часть Большого театра.
Перемирие осталось на бумаге. Большевики его не соблюдали, а местами о нем даже и не знали. Заключая перемирие, военно-революционный комитет руководствовался лишь одной целью: выиграть время для подвоза подкреплений. Полученные в промежутке сведения о неудачах отряда Краснова укрепили большевиков в решимости продолжать борьбу. На категорический вопрос, хотят ли они идти на соглашение, большевики отвечали уклончиво. В конце концов они выдвинули требования, заведомо неприемлемые. Они отказались даже от создания «однородного» министерства и вернулись к своему чистому лозунгу «вся власть Советам». Далее они требовали своего большинства в совещательном органе, который должен был функционировать до Учредительного собрания, настаивали на том, чтобы офицеры и юнкера были разоружены, а большевикам было оставлено оружие.
Таким образом, выяснилось, что все до сих пор сделанные уступки были напрасны. Если хитрили военные, то хитрили и большевики, оттягивая время из «стратегических» соображений. Но выиграли от затяжки только последние.
После ухода большевистских парламентеров, предъявивших приведенные условия, в помещении думы состоялось последнее заседание комитета с участием представителей войсковых частей, президиума Совета солдатских депутатов, бежавшего из генерал-губернаторского дома, и на этот раз «также всех вольных и невольных обитателей здания» осажденной городской думы, включая к.-д. Юренева и думских служащих. Перед этим собранием городской голова Руднев констатировал «вероломство большевиков, использовавших перемирие для передвижения и подкрепления своих частей» и возложил «всю вину за неизбежное продолжение борьбы исключительно на большевиков». В тоне самооправдания велись и дальнейшие прения, пока потухшее электричество не напомнило присутствующим, кто действительные господа положения.
На другой день, 31 октября, появилось воззвание Комитета общественной безопасности «гражданам и товарищам», в котором констатировались пункты расхождения его с военно-революционным комитетом. Комитет безопасности считал «единственными условиями прекращения военных действий ликвидацию большевистского военно-революционного комитета, очищение отрядами военно-революционного комитета занятых ими пунктов и возвращения Москвы к нормальному порядку. «Победе насилия» комитет противопоставлял, «на основании соглашения с “Викжелем” «организацию временной власти на основах ответственности нового правительства перед органами революционной демократии и его социалистического состава».
Так же, как и условия перемирия, эта формула была принята по соглашению с военными в Александровском училище, куда были вызваны представители Комитета безопасности, вынужденные согласиться на формулу социалистического министерства и взять за нее на себя ответственность (Руднев, Филатьев, Бурышкин, Студенецкий, представители почтово-телеграфного союза и земской управы). Но, как сказано, большевиков даже и эта уступка уже не удовлетворяла.
Большевики ответили комитету в 4 часа утра категорическим «требованием безусловной сдачи, с угрозой артиллерийского обстрела думы». Комитету оставалось возобновить борьбу при изменившихся к худшему условиях. Приглашая население к проявлению наибольшей самостоятельности для собственной защиты, комитет ободрял своих единомышленников известием, что «к Москве приближаются части, посланные фронтом для подавления мятежников тыла, и что “войска Керенского вступают в Петроград’. Комитет мог лишь повторить тут то, что получил сам. Иорданский и Моисеенко действительно слали в Москву сообщения, что с фронта командируются на помощь защитникам Москвы определенные части.
В этой связи следует упомянуть о предложении штабс-капитана Соколова, приехавшего в Москву от Каледина и доложившего на каком-то совещании общественных деятелей под председательством Н. Н. Щепкина о готовности донского атамана послать помощь Москве. Об этом предложении рассказал сам Соколов корреспонденту белградского «Нового времени»[146], прибавив, что «товарищи министров от этой помощи отказались». Но даже независимо от того, что предложение Соколова дальше совещания не пошло, оно не могло иметь никакого практического значения при быстром ходе событий. С. Н. Прокопович решительно отрицает свое участие в упомянутом заседании.
Ночь с 30-го на 31 октября была моментом перелома в настроении борющихся сторон. Измученная непрерывными усилиями, потерявшая надежду на успех первого быстрого удара и недостаточно снабженная для длительной борьбы кучка защитников Москвы и России, чем дальше, тем больше чувствовала себя изолированной и от остальной России, и от других общественных элементов. Слова «юнкер», «офицер», «студент» сделались бранными словами, и геройский порыв людей, носивших эти звания, бледнел перед пассивным отношением или даже явной враждебностью к ним населения, на защиту которого они выступили и жертвовали жизнью. Поведение командующего войсками чем дальше, тем больше вызывало все более сильные подозрения. Бесполезная уступка, сделанная идее «однородного» социалистического министерства, поставила перед многими из юнкеров и офицеров вопрос, за кого же, за какую политическую ориентацию они, собственно, борются и какая в сущности разница между «передачей всей власти» Советам и «ответственностью» исключительно социалистического партийного правительства перед «органами революционной демократии». В довершение всего надежда на подход войск к Москве, ради которого была куплена этой уступкой помощь «Викжеля», тоже оказалась призрачной. Никакие войска не подходили, а малочисленные отряды юнкеров терпели серьезные потери или, отрезанные, попадали в плен к большевикам.
В момент наибольшего развития силы этих отрядов, с трудом удерживавших за собой центр Москвы от Кремля до Никитских ворот и от Театральной площади до Зубовского бульвара, доходили тысяч до пяти[147]. С удивлением и с беспокойством эта армия замечала, что она изолирована не только топографически, но и социально; что, защищая порядок и законную власть, она в то же время путем исключения и против своей воли оказывается представительницей определенных классов. Имя «юнкер» начало с ненавистью произноситься демократическим населением Москвы и противопоставляться «народу». В газетах тех дней можно найти следы смущения, испытанного людьми, пошедшими на идейный подвиг и очутившимися в роли, столь непривычной для русской интеллигенции. Представители шести школ прапорщиков, зовя в свои ряды солдат, печатно заявляли, что в их среде почти нет дворян, что в огромном большинстве они — выслужившиеся солдаты-фронтовики, «истинные представители солдатской массы», и среди них «много истинных и давнишних социалистов», борющихся лишь с «небольшой кучкой безумцев-мечтателей». А с другой стороны, группа студентов-большевиков в официальных «Известиях» признавала «позорным» и «выражала презрение и протест против бесстыдного, антинародного выступления буржуазной кучки студентов», примкнувших в числе 600 к защитникам Москвы и проявлявших чудеса геройского самоотвержения.
Пяти тысячам защитников противостояли десятки тысяч Московского гарнизона, правда, относившегося далеко не сознательно к борьбе «пролетариата с капиталистами». Солдаты гарнизона начали даже после нескольких дней борьбы разбегаться из Москвы. Но на смену этим равнодушным и испуганным подходили из окрестностей другие тысячи — более сознательных; подвозились орудия, в том числе и тяжелые, и распределялись для бомбардировки центра и Кремля; мобилизовались броневики, которых у юнкеров было всего два, и те сломанные; рылись окопы, заготовлялись запасы снарядов.
Настроение рабочей массы, как и настроение солдат, не было, однако же, всецело на стороне большевиков. Об этом настроении свидетельствует любопытная запись доклада по телефону, сделанного на третий день борьбы социалистом-революционером своему центральному начальству. Вот этот интересный памятник дней Московского восстания:
«Сущевский район. Многочисленные митинги, скорее толпа; ночью. Солдаты не стали слушать. Выступал рабочий Ферейна. Спросили, какой партии. Ответ: социалист-меньшевик. Крики “Долой”. Одинаковое отношение к представителям других социалистических партий. Резолюция: бесполезность вооруженной борьбы, начавшейся без опроса пролетариата. Требование — предать суду обе организации, стоящие во главе (то есть и военно-революционный комитет, и Комитет безопасности). Отношение к эсерам — самое отвратительное.
Район Пятницкий (Серпуховской, Александровский). Большая толпа. Митинг. Обвиняют революционный комитет и Руднева. Выступал меньшевик с Сытинской фабрики. Не дали говорить. Крики: “Долой социалистов, к черту" Выступал — с таким же успехом. Выступавший кадет пользовался огромным сочувствием. Соглашение в будущем, видимо, состояться не может. Надо выпускать листовки для осведомления масс. Социалистов-революционеров, распространявших их, ощупывали дозоры большевиков и отнимали. Ночью большевиками были выпущены прокламации, в которых вводят в обман обывателя. Крайне нужно воззвание к населению от всех партий».
Таково подлинное настроение массы, недисциплинированной, темной, сбиваемой с толку и переставшей верить вчерашним вождям, инстинктивно чувствовавшей, неорганизованной и не привыкшей к активному участию в борьбе. Активно лишь большевистское меньшинство. Оно выставляет нафанатизированных красногвардейцев, преимущественно из рабочей зеленой молодежи, и этот элемент обнаруживает особую непримиримость и жестокость в борьбе.
Перелом в победе большевиков. После полуночи на 31 октября, с окончанием перемирия, борьба возобновилась с особым ожесточением со стороны большевиков, ободренных приливом новых сил и известиями о поражении защитников Керенского[148].
В течение 31 октября и 1 ноября большевики разрушили дома у концов Никитского и Тверского бульваров, в которых оставались юнкера, после продолжительного обстрела захватили сильно пострадавшую телефонную станцию в Милютинском переулке, где юнкера вынуждены были сдаться, заняли «Национальную» гостиницу и сильно поврежденную гостиницу «Метрополь», а затем принялись обстреливать Государственную думу, защитники которой вместе с гласными и членами Комитета безопасности, принуждены были к трем часам дня 1 ноября уйти в Исторический музей и в Кремль, оставив в Думе раненых и медицинский персонал. Другая часть комитета находилась в Александровском военном училище. Эти два центра сопротивления подверглись ожесточенной орудийной бомбардировке, которая продолжала усиливаться в течение 2 ноября, превратившись, по отзывам офицеров, «из солдатской в офицерскую или немецкую, очень точную». Заняв Исторический музей, большевики принялись с его вышек обстреливать Красную площадь, сделав выход из Кремля опасным для жизни и превратив, таким образом, Кремль в осажденную крепость. В эти дни сам Кремль с его историческими святынями подвергся усиленному артиллерийскому обстрелу. Повреждения, причиненные при этом древним соборам Кремля были первым ударом по религиозной совести московского населения: они вызвали даже из среды большевистских вождей болезненный крик возмущения Луначарского, печатно заявившего, что он не может долее терпеть большевистских ужасов и уходит из числа «народных комиссаров» увы, ненадолго...
Уже вечером 1 ноября представители Комитета общественной безопасности Руднев и Коварский были приглашены в Александровское училище. Исполнительный комитет Совета офицерских депутатов вместе с советом представителей частей, входивших в состав правительственного отряда, поставили им девять вопросов. Их спрашивали о фактическом положении дел на фронте, об отношении московского населения к борьбе, о причинах неприхода обещанных подкреплений, о шансах успеха борьбы, какие имеются у комитета, и т. д. Если по всем этим вопросам Комитет безопасности не даст удовлетворительных ответов, то ему прямо ставили вопрос: какие меры надо принять для прекращения бесполезной борьбы? Комитет, выдерживая раз принятую линию «политического прикрытия», подчиняющегося условиям стратегической целесообразности, отвечал, что готов принять на себя исполнение тех мер, которые будут решены военными защитниками Москвы.
Тогда комитету было дано поручение начать мирные переговоры. Днем 2 ноября делегация Комитета безопасности отправилась в военно-революционный комитет с предложением начать мирные переговоры. Делегация поставила себе задачей провести только два пункта, которые считала вопросом чести. Во-первых, был устранен вопрос о признании в прямой форме совершившегося переворота. Во-вторых, была получена гарантия свободного вывода войск, правда, очень скоро нарушенная большевиками.
В 5 часов дня мирное соглашение на основе разоружения «белой гвардии» было достигнуто. Не желавшие идти на это юнкера приехали из Александровского училища в Кремль, и здесь было решено «не сдаваться, защищать принцип государственности до конца, пробиться сквозь кольцо, выйти за город и добраться до верных правительству войск». В 7 часов вечера с этим решением юнкера вышли из Кремля и направились в Александровское училище, в «торжественном и напряженном настроении, хотя сознание того, что надо пройти сквозь ряд улиц, где из окон и с крыш будут стрелять, тяжело действовало на психику» (свидетельство Стааля). Решение свое юнкерам, конечно, не удалось осуществить, ибо никаких «верных правительству» войск вне Москвы не было, и 3 ноября происходило печальное зрелище — разоружение «белой гвардии». «Небольшими отрядами, — пишет очевидец, — человек по 10-20 подходили к зданию Александровского училища офицеры, юнкера и студенты. Начальники отрядов среди общей тишины собравшейся публики рапортовали председателю комиссии названия отрядов и их количество. Юнкера с винтовками проходили в здание училища, офицеры и студенты складывали оружие тут же, на тротуар. К 12 часам на улицах можно было видеть только вооруженных солдат и рабочих».
Победа большевиков была полной и окончательной. Их победой в Москве решился вопрос о победе в России. В тот момент все еще верили, что победа будет кратковременной и что захваченной власти большевики удержать не смогут. В тон этому настроению ходили фантастические слухи о приближении к Москве войск Каледина, и начиналась тяга на Дон разбитых в Москве защитников порядка и законного Временного правительства.
Господство большевиков начиналось при уверенных предсказаниях партий, что большевистская власть не сможет осуществить ни одного из данных ею обещаний: не даст обманутому ею народу ни мира, ни земли, ни хлеба, ни «социализации» промышленности и что разочарованное население не потерпит над собой господства насильников. Партия народной свободы предсказывала при этом, что победа большевиков повлечет за собой проигрыш войны и разделение России на части. Но никто, включая и эту партию, не предвидел, что здесь возникает режим, который будет длиться долгие годы и который доведет Россию до крайней степени разрушения всех ее национальных целей — государственных, экономических и культурных, которые копились долгими веками.
Послесловие
Третьим выпуском «Истории второй русской революции» заканчивается фактический рассказ, доведенный автором до падения Временного правительства и победы большевиков. Четвертый и последний выпуск будет содержать описание внутреннего распада России за период времени от марта до октября и историю борьбы за мир в международном масштабе. Написанные одновременно с напечатанным текстом трех выпусков, эти главы нуждаются в переработке по новым источникам. При новом издании «Истории» такой же переработке должен подвергнуться, конечно, и фактический рассказ. В ожидании этой переработки автор считает необходимым дополнить последний выпуск еще одной главой, которая будет заключать в себе подробную характеристику литературы о революции, появившейся после окончания труда автора. Там он ответит и на критические замечания, появившиеся в этой литературе, как о его роли, как политика, во время революции, так и о его исторических взглядах на революцию.
Автор, однако, считает нелишним предупредить, что появившиеся в печати материалы и исследования по истории второй революции не изменили ни в чем существенном его понимания этой истории. Те, кому этот взгляд представляется односторонним и субъективным, во всяком случае, не откажут признать его цельность и определенность. Автор еще раз напоминает сказанное им в начале «Истории»: он не хотел быть только мемуаристом и добровольно отказался от некоторых преимуществ мемуарного изложения, чтобы тем более приблизиться к выполнению задачи историка.
Н. Стариков
Послесловие, или История все расставила по своим местам
История все расставила по своим местам. Павел Михайлович Милюков сегодня широкой общественности в России неизвестен. Впрочем, его практически не знали и в советское время — как глава партии кадетов, которую большевики после Октября очень быстро запретили, он был своеобразной персоной нон грата для учебников и кинофильмов. И в этом есть своя трагическая справедливость.
Тот, кто в силу политической близорукости, тщеславности и просто глупости приложил немало сил к крушению Российской империи, своей Родины, оказался Россией отвергнут. И это один из главных уроков истории для современных политических деятелей.
Мемуары, написанные П. М. Милюковым, являются ценнейшим источником знания и, что еще важнее, — понимания истории нашей страны, устройства мировой политической системы и борьбы. Вечной борьбы одних геополитических сил против других, одних стран против других, чужой родины против твоей Родины. П. М. Милюков — яркий пример недооценки этих принципов, и потому его политическая карьера закончилась молниеносно, в период, казалось бы, максимального расцвета. Его использовали геополитические соперники России, использовали и выбросили за ненадобностью на свалку истории вместе со всей партией Конституционных демократов (кадетов).
Давайте вспомним биографию Павла Николаевича Милюкова. Дворянин, 19-летним юношей участвовал добровольцем санитарного отряда в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. По образованию историк, окончил Московский университет, где позже преподавал. Активный противник самодержавия как формы государственного устройства, Милюков в 1895 г. был уволен и сослан в Рязань, затем выехал за границу. В 1903 — начале 1905 г. читал лекции в США. В 1904 г. был председателем Конференции представителей русских оппозиционных и революционных партий и групп за рубежом, на которой принимались решения о желательности поражения России в войне с Японией и налаживались контакты с японской разведкой. После чего на революционные партии и «демократических» деятелей из-за границы обрушился «золотой дождь» — в России началась смута 1905-1907 гг.
В 1905 г., когда печально знаменитым царским манифестом 17 октября 1905 г. была введена многопартийность, Милюков стал одним из создателей партии кадетов. Идейными наследниками кадетов на сегодняшнем политическом поле России являются все «демократические» партии. Тут и «Яблоко», и почивший в бозе СПС, а теперь — «Гражданская платформа». Но, на мой взгляд, более всего подходят под кадетскую программу действия и взгляды партии РПР «Парнас» во главе с Рыжковым, Немцовым и Касьяновым. Милюков тогда точно так же боролся за интересы Запада, как сегодня эти деятели во всем и всегда ориентируются на Вашингтон и Брюссель. Желание просто пересадить западные порядки на русскую почву плюс слепая вера в непогрешимость государственного устройства Великобритании и США — вот основа взглядов таких политиков. Чем подкреплена эта вера — солидными счетами в зарубежных банках или граничащим с наивностью непониманием устройства мировой политической системы — это отдельный разговор. В 1905 г., когда пала русская крепость Порт-Артур, тогдашние либералы посылали поздравительные открытки японскому императору. Что ж удивляться тому, что в 2008 г. либеральная общественность России встала на сторону США и Грузии во время конфликта в Южной Осетии. Таковы традиции, увы.
Но было бы совершенно несправедливым говорить, что сегодняшние «белоленточники» — полная копия Милюкова и кадетов. В начале ХХ века «оранжевый сценарий» не прошел, хотя и был реализован в Феврале 1917 г. А один из активных организаторов крушения нашей государственности, П. М. Милюков, во второй половине своей жизни сумел хотя бы частично искупить свою вину перед Россией.
Неоднократно избиравшийся в парламент Милюков стал одним из авторитетнейших политиков того времени. Он всегда находился в оппозиции к власти. Он — один из создателей в Думе так называемого «Прогрессивного блока», который стал центром всех антиправительственных действий. Чтобы понимать суть происходящих тогда событий, нужно знать следующее. Великобритания старалась организовать военный конфликт, в котором собиралась столкнуть Россию и Германию. Смысл этого действия прост: уничтожить во взаимной схватке двух главных своих соперников (точно так же сегодня США были бы рады войне России с Китаем, которая позволила бы Вашингтону сохранить главенство в мире). Так началась Первая мировая война. Планы наших «союзников» были таковы: воевать по минимуму, максимально переложив тяжесть боевых действий на русских. После чего, используя трудности внутри России, с помощью пятой колонны «милюковых и керенских» произвести государственный переворот. Успехи русских войск делали для «союзников» организацию внутренней смуты в России не менее важной, чем для противников — немцев. В случае победы Антанты Россия должна была получить турецкие проливы. А это прямой выход в мировой океан для русского флота, чему Великобритания всячески противилась еще с петровских времен. Задачей английской разведки и «русской оппозиции» стала организация революции любой ценой ДО начала общего наступления союзников, назначенного на апрель 1917 г.
Милюков открыл «сезон» революции знаменитым выступлением в Думе 1 ноября 1916 г., в котором облил грязью, обвиняя в измене и не приводя никаких доказательств, императрицу Александру Федоровну, премьер-министра Б. В. Штюрмера и косвенным образом самого Николая II. Многократно повторенная фраза «Что это — глупость или измена?» стала крылатой. Текст речи Милюкова распространялся в списках и сыграл свою злую роль в кампании «черного пиара» против царской семьи. Все, о чем сказал Милюков в речи, не подтвердилось — все это было ложью. За этим последовало убийство Распутина, организованное с помощью Феликса Юсупова английской разведкой. Достаточно сказать, что пулю в лоб Распутину пустил друг и любовник Юсупова — британец Феликс Райнер. Смерть старца должна была предотвратить возможность мирных переговоров и сепаратного мира с Германией.
Февральская революция стала закономерным итогом деятельности Милюкова. Походы в британское посольство, создание Комитета Государственной Думы, отречение царя. Затем думская делегация добилась передачи власти от брата государя Временному правительству, во время которой сам Милюков, наоборот, выступил против отречения Михаила Александровича. С этого момента и начинается закат его карьеры. Почему? Да потому, что он просто не понимал, что происходит. Ведь главной задачей Временного правительства, контролируемого Англией и Францией, была быстрая организация коллапса в экономике с целью разрушить Россию и вывести ее из войны. А это в свою очередь послужило бы предлогом для того, чтобы не отдавать турецкие проливы русским. Поэтому англичанам нужны были большевики, которые бы взяли власть, начали переговоры с немцами о мире и не только лишили Россию плодов борьбы, но и «заразили» революцией Германию. Однако для осуществления данного плана царская династия должна быть сметена — для чего и был необходим Февраль и отречения.
В мемуарах Милюкова вы найдете массу фактов о «странных» поступках Временного правительства, которые были не «глупостью», а сознательными предательскими ударами по Русскому государству. Тут и амнистия всем политическим и УГОЛОВНЫМ преступникам одновременно с роспуском полиции и жандармерии. И уничтожение вертикали власти — увольнение всех губернаторов и прочих начальников без замены их другими. И появление продовольственных карточек, разрушение продовольственного снабжения армии, которая к Октябрю 1917 г. уже начала голодать. И разрешение политической агитации в армии, и выборность командиров согласно Приказу № 1 — «временщики» не пресекают деятельность Петроградского совета...
Самого же Милюкова выпихивают из Временного правительства очень быстро. Ведь, будучи министром иностранных дел, он заявляет о «войне до победного конца», выступает за получение Россией Босфора и Дарданелл. За это его и отправят в отставку — в правительстве Милюков будет ровно два месяца — со 2 марта по 1 мая 1917 г. После большевистского переворота Милюков находится в антибольшевистском движении. Но он не боец. На фронт не идет, жизнью не рискует. Сразу после крушения Германии в ноябре 1918 г. Павел Михайлович уезжает в эмиграцию. Кстати, именно Берлин был главным эмигрантским центром — не Париж и не Лондон. Не союзники пустили к себе сотни тысяч бежавших от Гражданской войны и террора, а бывшие противники. Но Милюков очень быстро переместился как раз в Лондон и потом надолго — в Париж. В эмиграции он уже не является одной из ведущих фигур русской политики — он «один из». Работая редактором парижской газеты «Последние новости», Милюков выдвинул идею «внутреннего преодоления большевизма», которая означала отсутствие вооруженной борьбы. Следствием такого заявления стало то, что 28 марта 1922 г. в Берлине в зале филармонии, где Милюков читал лекцию с характерным названием «Америка и восстановление России», два бывших офицера-монархиста пытались застрелить его — того, кто предал царскую семью, а теперь призывает не бороться с большевиками. «Я мщу за царскую семью», — сказал один из них, стреляя в Милюкова. Однако по случайности в результате этого инцидента убит был Владимир Дмитриевич Набоков — отец известного писателя Владимира Набокова.
Последние годы жизни Милюкова ознаменовались тем, что он всегда поддерживал Россию — пусть и красную. Он выступал на стороне СССР, приветствуя подписание Договора о ненападении с Германией 23 августа 1939 г. Во время войны с Финляндией Павел Михайлович заявил: «Мне жаль финнов, но я за Выборгскую губернию». В отличие от некоторых деятелей эмиграции, поддержавших Гитлера после нападения на СССР, Милюков подобно Деникину остался верным Родине, а не политическим пристрастиям. Но до конца войны он не дожил, скончавшись в 1943 г.
Книга, которую вы держите в руках, представляет собой самую интересную часть мемуаров Милюкова, посвященную Февральской и Октябрьской революциям. Особую ценность его свидетельствам придает тот факт, что писал ее активный деятель-февралист, который позже стал в оппозицию к Временному правительству и выступил против большевиков.
Автор будет признателен за ваш отклик:
www.nstarikov.ru