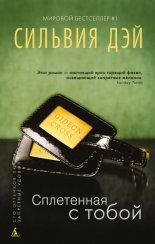История второй русской революции. С предисловием и послесловием Николая Старикова Милюков Павел
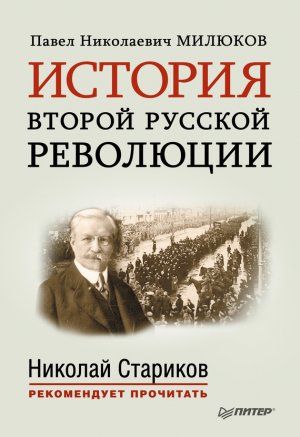
Павел Николаевич МИЛЮКОВ
ИСТОРИЯ
ВТОРОЙ РУССКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
С предисловием и послесловием
Николая Старикова
Н. Стариков
Предисловие
Историю лучше всего изучать двумя способами: читая мемуары или читая документы. Воспоминания лидера кадетской партии Павла Николаевича Милюкова дают нам эти две возможности одновременно. Это и воспоминания активного деятеля революционного движения России, и документы, которые он приводит в мемуарах. Политическая жизнь Милюкова полна парадоксов. Он был одним из главных отцов Февраля 1917 г., и его же предали соратники почти сразу после революции. Он не стал жертвой Октября 1917 г., хотя и пытался активно противодействовать с большевиками. Уехал в эмиграцию, но не начал, как многие, бороться против новой России-СССР, используя любые средства. Поэтому во время Второй мировой войны он поддержал Советский Союз, выступая за поражение Германии.
Но сначала была революция. Революция, прошедшая два этапа, две ступени, которые вели к крушению русской государственности. И такие деятели, как Милюков, всячески это крушение приближали. Позволим себе небольшое сравнение: представьте ситуацию 1941 г.: немцы на окраине Москвы, а в СССР проводятся всеобщие выборы. Глупость? Чушь несусветная? Да. Но ведь именно так Милюков и его соратники по Временному правительству поступили в страшный для России 1917 г. В то время, когда шла Первая мировая война, они решили провести в стране выборы в Учредительное собрание. А до победы подождать было нельзя? Сначала победить — а потом все остальное? В 1941-1945 гг. страна пережила куда более страшную войну с той же самой Германией, которая была уже намного сильнее. И наша страна победила. А в 1917 г. государство рухнуло, армия была разложена революционерами и затем распущена. Итогом стала еще более ужасающая война — Гражданская. Миллионы жертв. Тиф. Голод. Разруха.
Как все это получилось? Почему пала могучая Российская империя? Читайте историю двух русских революций, написанную одним из ее авторов. Свидетельство от первого лица. Масса малоизвестных фактов.
И что немаловажно — полное отсутствие ангажированности. Ведь Милюков уехал, и у него не было необходимости прятать концы в воду.
Хотите понять русскую революцию — читайте Милюкова.
Предисловие
Первый том «Истории второй русской революции» написан очень скоро после описываемых в нем событий. Автор начал работать над ним вскоре после Октябрьской революции, заставившей его покинуть Петроград, в конце ноября 1917 г. в Ростове-на-Дону. Первых три выпуска первого тома были закончены в августе 1918 г., перед переездом автора в Киев. В Киеве пересмотрена и дополнена глава о Корниловском движении на основании данных, сообщенных А. Ф. Керенским в его показании о «Деле Корнилова». Из двух глав четвертого выпуска одна (международная борьба за мир) была первоначально написана для не вышедшего в свет очередного «Ежегодника» газеты «Речь»; она пересмотрена и дополнена для издания уже во время пребывания автора в Лондоне. Другая глава — о распаде власти — написана в Киеве летом 1918 г. Предполагалось, что все четыре выпуска тогда же появятся в свет в Киеве, в издательстве «Летопись». Но издательство успело отпечатать лишь первый выпуск без конца, когда (декабрь 1918 г.) Киев был занят петлюровскими войсками и типография подверглась разгрому. Конец набора первого выпуска и остальная рукопись были уничтожены петлюровцами, и издание было остановлено. Только осенью 1920 г. автор получил от издателя, переехавшего в Софию, сохраненную им копию рукописи, с пробелами, пополнение которых в Лондоне оказалось невозможным. Лишь в декабре 1920 г. автор получил доступ к обширной коллекции русских периодических изданий, хранящейся в Musee de la guerre в Париже. При помощи этого материала пропуски восстановлены и полный текст «Истории» приготовлен к печати.
Автор назвал свой труд «Историей», хотя он хорошо сознает, что для истории революции в строгом смысле слова время настанет не скоро.
Выбирая это заглавие, он хотел лишь сказать, что его цель в этой книге идет дальше личных «Воспоминаний».
Для воспоминаний, предназначенных для немедленного опубликования, время также не наступило. Действующие лица описываемой эпохи еще не сошли со сцены, вызванные их деятельностью чувства еще далеко не улеглись, их интимные мотивы не сделались достоянием гласности. При этих условиях вводить читателя в интимную атмосферу событий, доступную только для их непосредственного участника, показалось бы и нескромно, и чересчур субъективно.
«История» ставит себе иную задачу, чем «Мемуары». Она принципиально отказывается от субъективного освещения и заставляет говорить факты. Факты подлежат объективной проверке, и поскольку они верны, постольку же бесспорны и вытекающие из них выводы. Историк по профессии, автор не хотел и не мог подгонять факты к выводам; наоборот, он принимал выводы из фактов как нечто бесспорное, хотя бы эти выводы и противоречили настроению того момента, когда переживались события и писалась «История».
Другой вопрос: насколько сами факты известны и насколько они собраны с надлежащей полнотой, чтобы позволить определенные выводы. Не может быть сомнения, конечно, что дальнейшее накопление и изучение фактов оставит далеко позади предлагаемый первый опыт их предварительной установки. Но автор льстит себя надеждой, что при этом не очень изменятся намечаемые им выводы. По сравнению со своими преемниками он находится в выгодном положении непосредственного наблюдателя и свидетеля событий. Он знает о них часто больше, чем говорят известные до сих пор факты, и в самой группировке фактов уже дает известный комментарий к событиям.
Вообще фактическое изложение не составляет главной задачи автора. Читатель не найдет в этой «Истории» описания памятных ему, быть может, «великих дней» революции. Он найдет здесь не столько картины и краски, сколько руководящие линии, основные штрихи рисунка. Анализ событий с точки зрения определенного их понимания был той основной целью, которая, собственно, и побудила автора взяться за написание «Истории». Из рассказа, несомненно, вытекал определенный политический вывод.
Так же ли бесспорен этот вывод, как положенное в его основу фактическое описание? Три года, истекшие со времени описанных событий, уже дают возможность некоторой проверки. На первый взгляд может казаться, что «История» этой проверки не выдержала. Тот же угол зрения, под которым произведен в ней анализ событий 1917 г., перенесенный на события 1918-1920 гг., оказался бы, несомненно, неверным и односторонним. «История» проследила последствия коренных ошибок тактики, сделанных господствовавшими за этот промежуток умеренными социалистическими партиями. Более правые течения, сменившие их в период гражданской войны, несомненно, руководствовались уроками неудач 1917 г. И тем не менее их тактика, выведенная из этих уроков, кончилась, в свою очередь, катастрофой конца 1920 г. Сам собой возникает вопрос: не являются ли выводы из ошибок 1917 г. неверными и односторонними, если даже и противники этих ошибок, принявшие их во внимание, не спаслись от провала?
Ответ на этот вопрос довольно прост. В 1918-1920 гг. не только были избегнуты ошибки 1917 г., ошибки нашего левого «интеллигентского» максимализма. Были сделаны новые ошибки, противоположные прежним, — ошибки правого максимализма. Указать на первые — вовсе не значит рекомендовать вторые. Таким образом, события 1918-1920 гг., приведшие к неудаче антибольшевистской военной борьбы, не могут служить нам доказательством. Анализ событий 1917 г., сводящихся к неудаче социалистической революционной тактики, был неверным.
Это просто два разных круга явлений, к объяснению которых должны быть приложены и две разные мерки. Во втором томе «Истории», когда он будет написан, читатель встретится с анализом ошибок правого максимализма, который, однако, вовсе не будет исходить из предложения, что ошибки левого максимализма были указаны неправильно.
Один вывод, однако, несомненно вытекает из сопоставления одних ошибок с другими. Если ясное представление о старых ошибках не помешало людям, которые их прекрасно видели, впасть в новые ошибки противоположного характера, то это, очевидно, должно побудить их относиться вообще несколько скромнее к чужим ошибкам. Приходится вообще внести некоторую поправку в наше представление о пределах возможности для индивидуальной человеческой воли управлять такими массовыми явлениями, как народная революция. Мы указали в конце первой главы, что будущий историк отнесется к волевому элементу революции иначе, чем современный исторический деятель. На правах последнего мы отмечали ошибки буржуазных вождей «революционной демократии» в первом томе «Истории». Мы отметим с таким же правом ошибки наших военных вождей и их правительств во втором томе. Но с завершением того и другого циклов событий уже вступает в силу право «будущего историка» искать объективные причины тех и других «ошибок» и показать, почему при данных обстоятельствах те и другие оказались неизбежны.
Еще одна поправка вытекает из вывода, что революционный процесс вышел более стихийным и менее сознательным, чем хотелось бы непосредственным деятелям революционной эпохи. Если роль вождей в событиях оказывается менее активной, то зато должно быть сильно исправлено и расхожее представление о пассивной роли инертной массы. Масса русского населения, казалось, действительно только терпела. В первой главе мы указали на причины этой пассивности, заложенные в нашем прошлом. Но, обозревая теперь весь процесс в его разных фазисах, мы начинаем приходить к выводу, что терпение масс все же не было вполне пассивным. Массы принимали от революции то, что соответствовало их желаниям, но тотчас же противопоставляли железную стену пассивного сопротивления, как только начинали подозревать, что события клонятся не в сторону их интересов. Отойдя на известное расстояние от событий, мы только теперь начинаем разбирать, пока еще в неясных очертаниях, что в этом поведении масс, инертных, невежественных, забитых, сказалась коллективная народная мудрость. Пусть Россия разорена, отброшена из двадцатого столетия в семнадцатое, пусть разрушены промышленность, торговля, городская жизнь, высшая и средняя культура. Когда мы будем подводить актив и пассив громадного переворота, через который мы проходим, мы, весьма вероятно, увидим то же, что показало изучение Великой французской революции. Разрушились целые классы, оборвалась традиция культурного слоя, но народ перешел в новую жизнь, обогащенный запасом нового опыта и решивший для себя бесповоротно свой главный жизненный вопрос: вопрос о земле. Если из мрака небытия, в котором мы погребены под обломками великих руин, нам удастся зафиксировать эту светлую точку вдали, то это соображение поможет излечить самый упорный пессимизм и, быть может, внушить отчаявшимся и тонущим, каких теперь так много, желание жить дальше, чтобы работать для родного народа на новом пути, избранном им самим.
Лондон, 27 декабря 1920.
Часть I
Противоречия
революции
I. Четвертая Гос. дума низлагает монархию
(27 февраля — 2 марта)
Корни в историческом прошлом. С чего начинать историю второй революции? Тот, кто будет писать философию русской революции, должен будет, конечно, искать ее корни глубоко в прошлом, в истории русской культуры. Ибо при всем ультрамодерном содержании выставленных в этой революции программ, призывов и лозунгов действительность русской революции вскрыла ее тесную и неразрывную связь со всем русским прошлым. Как могучий геологический переворот шутя сбрасывает тонкий покров позднейших культурных наслоений и выносит на поверхность давно покрытые ими пласты, напоминающие о седой старине, о давно минувших эпохах истории земли, так русская революция обнажила перед нами всю нашу историческую структуру, лишь слабо прикрытую поверхностным слоем недавних культурных приобретений. Изучение русской истории приобретает в наши дни новый своеобразный интерес, ибо по социальным и культурным пластам, оказавшимся на поверхности русского переворота, внимательный наблюдатель может наглядно проследить историю нашего прошлого. То, что поражает в современных событиях постороннего зрителя, что впервые является для него разгадкой векового молчания «сфинкса», русского народа, то давно было известно социологу и исследователю русской исторической эволюции. Ленин и Троцкий для него возглавляют движение, гораздо более близкое к Пугачеву, к Разину, к Болотникову — к XVIII и XVII вв. нашей истории, чем к последним словам европейского анархо-синдикализма.
Слабость государственности. Слабость социальных прослоек. В самом деле, основная черта, проявленная нашим революционным процессом, составляющая и основную причину его печального исхода, есть слабость русской государственности и преобладание в стране безгосударственных и анархических элементов. Но разве не является эта черта неизбежным последствием такого хода исторического процесса, в котором пришедшая извне государственность постоянно, при Рюрике, как и при Петре Великом, как и в нашем «империализме» XIX и XX вв., — опережала внутренний органический рост государственности? А другая характерная черта — слабость верхних социальных слоев, так легко уступивших место, а потом и отброшенных в сторону народным потоком? Разве не вытекает эта слабость из всей истории нашего «первенствующего сословия», созданного властью для государственных нужд, как это практиковалось в деспотиях Востока, и сохранившего до самого последнего момента черты старого «служилого» класса? Разве не связан с этим прошлым, перешедшим в настоящее, и традиционный взгляд русского крестьянства на землю, сохранившую в самом названии «помещичьей» память о своем историческом предназначении? А почти полное отсутствие «буржуазии» в истинном смысле этого слова, ее политическое бессилие, при всем широком применении революционной клички «буржуй» ко всякому, кто носит крахмальный воротничок и ходит в котелке? Не напоминает ли оно нам о глубокой разнице в истории всей борьбы за политическую свободу между нами и европейским Западом, о громадном хронологическом расстоянии между началом этой борьбы там и у нас, о неизбежном последствии этой разницы, о слиянии у нас политического переворота с социальным, а в социальном перевороте — о смешении борьбы против непрочно сложившегося и быстро разрушившегося крепостничества с борьбой против совсем не успевшего сложиться «капитализма»? Читайте историю французской революции Тэна, и вы увидите, как с употреблением лозунга «буржуазии» в нашей революции до мелочей повторяется все то, что в гражданской войне Великой революции применялось к «дворянству». У нас, конечно, изменен только лозунг, содержание гражданской войны осталось то же. Да и как могло быть иначе, когда и развитие русской промышленности, и развитие городов явилось в сколько-нибудь серьезных размерах плодом последних десятилетий и когда еще 30 лет назад серьезные писатели глубокомысленно обсуждали вопрос о том, не может ли Россия вообще миновать «стадию капитализма»?
Максимализм интеллигенции. Незаконченность культурного типа. С двумя отмеченными чертами: слабостью русской государственности и с примитивностью русской социальной структуры — тесно связана и третья характерная черта нашего революционного процесса — идейная беспомощность и утопичность стремлений, «максимализм» русской интеллигенции. Когда-то я взял эту интеллигенцию под защиту против П. Б. Струве и его «Вех», но только в одном смысле: я защищал ее право не искать корней в нашем прошлом, где, как уже сказано, заложены лишь корни нашей слабости и нашего бессилия. Неорганичность нашего культурного развития есть неизбежное последствие его запоздалости. Как может быть иначе, когда вся наша новая культурная традиция (с Петра) создана всего лишь восемью поколениями наших предшественников и когда эта работа резко и безвозвратно отделена от бытовой культуры длинного периода национальной бессознательности: того периода, который у других культурных народов составляет его доисторическую эпоху? Стоя на плечах всего лишь восьми поколений, мы могли усвоить культурные приобретения Запада — и усвоили их с гибкостью и тонкостью восприимчивости, которая поражает иностранцев. Мы обогатили эти заимствования и нашими собственными национальными чертами, тоже поражающими иностранцев, как странная прививка утонченности к примитиву. Но мы не могли сделать одного: мы не могли еще выработать что-либо подобное устойчивому западному культурному типу. Эту западную культурную устойчивость мы еще склонны называть «ограниченностью» и мы продолжаем предпочитать ту безграничную свободу славянской натуры, «самой свободной в мире», о которой не то с умилением, не то с сокрушением говорил гениальный наблюдатель Герцен. В других своих произведениях я проследил, как на почве этой незаконченности культурного типа у нас легко прививался западный идеализм в его наиболее крайних и индивидуальных проявлениях и как туго и медленно вырастала серьезная государственная мысль. Я пытался проследить также и то, какие успехи сделали в направлении взаимного сближения и постепенного освобождения, с одной стороны, от утопических, с другой, от классовых элементов два главных течения нашей общественной мысли: течение социалистическое и течение либеральное при первых столкновениях с жизнью[1]. Мне казалось (в 1904 г.), что дальнейший ход политической борьбы должен привести к устранению целого ряда разногласий, называвшихся принципиальными, и установить возможность совместных действий обоих течений в борьбе с общим врагом, со старым режимом. Полтора десятка лет, прошедшие с тех пор, показали мне, что я оценивал возможность этого сближения слишком оптимистически. С тех пор сформировались действующие ныне политические партии, и вместо сотрудничества началась непримиримая взаимная борьба. В процессе этой борьбы воскресли многие из утопий, которые я считал похороненными; и политические круги, которые, по моим предположениям, должны были бы бороться с этими утопиями, оказались нечуждыми им идейно и не способными к стойкому сопротивлению. За это неполное приспособление русских политических партий к условиям и требованиям русской действительности Россия поплатилась неудачей двух своих революций и бесплодной растратой национальных ценностей, особенно дорогих в небогатой такими ценностями стране.
Неподготовленность масс. Конечно, несовершенство и незрелость политической мысли на почве безгосударственности, слабости социальных прослоек не могут явиться единственным объяснением неудач, постигавших до сих пор наше политическое движение. Другим фактором являются бессознательность и темнота русской народной массы, которые, собственно, и сделали утопичным применение к нашей действительности даже идей, являющихся вполне своевременными, а частью даже и осуществленными среди народов, более подготовленных к непосредственному участию в государственной деятельности. Народные массы — «народная душа» — сами являлись объектом интеллигентских утопий в прошлом и едва ли перестали быть им в настоящем. Я лично был всегда далек от тех, кто готов был возвеличивать русский народ как народ избранный, «народ-богоносец» и, преклоняясь перед ним, всячески принижать русскую интеллигенцию и новую русскую культурную традицию. На борьбу с этими тенденциями в разных их проявлениях я употребил немало усилий в течение первой половины моей общественной деятельности, когда эти тенденции выступали сильней и казались более опасными, чем теперь. Но я также далек и от тех, кто теперь, под влиянием пережитого ужасного опыта и тяжелых переживаний последних месяцев склонен говорить о «народе-звере». Да, конечно, этот народ, сохранивший мировоззрение иных столетий, чем наше, а в последнее время старого режима умышленно удерживавшийся в темноте и невежестве сторонниками этого режима, этот народ действительно предстал перед наблюдателями его психоза почти как какая-то другая, низшая раса. Интернационалистическому социализму было легко провести на почве культурной розни глубокую социальную грань и раздуть в яркое пламя социальную вражду народа к «варягам», «земщины» к «дружине», выражаясь славянофильскими терминами. Но элементы истинного, здорового интернационализма при этом оказались не внизу, а наверху — в культурных слоях, идеях и учреждениях. И рост интернациональной культуры с разрушением этих верхов оказался задержанным — не будем утверждать, что надолго. Как бы то ни было, исправление последствий нашей истории и ошибок переворота идет в том же направлении, что и раньше: в направлении восстановления нашего культурного слоя, так безжалостно уничтожавшегося революцией. В этом смысле должны быть пересмотрены все демократические программы, которые, ничего еще не дав народу, хотели «все» создавать «через народ». Неосновательное разочарование в народе после столь же неосновательного преклонения перед ним не должно, конечно, возвращать нас к той системе «недоверия к народу, ограниченного страхом», которое, по меткому определению Гладстона, лежит в основе реакционной политики. Суть правильной политики, приспособленной к действительному уровню массы, должна, пользуясь выражением того же Гладстона, заключаться в «доверии к народу, ограниченном благоразумием». Эта формула, разумеется, не мирится с формулой полного и неограниченного народовластия. Это надо ясно усвоить, определенно сказать себе и сделать отсюда надлежащие политические выводы. В политике не существует абсолютных рецептов, годных для всех времен и при всех обстоятельствах. Пора понять, что и демократическая политика не составляет исключения из этого правила. Пора усвоить, что и в ее лозунгах не заключается панацей и лекарств от всех болезней.
Еще одна оговорка в пределах того же вопроса о народных массах как политическом факторе. Есть люди, готовые искать в физиономии этих масс не только те изменяющиеся черты, в которых запечатлелся ход нашей исторической эволюции, но и того неизменного мистического ядра, которое германские метафизики, так же как и новейшие социологи типа «Густава Лебона», называли «душой народа», l’аmе ancestrale — «душой предков». Наблюдая французскую психику времен войны, Лебон искал в этой «душе предков» объяснения, почему недавняя «упадочная» Франция вдруг превратилась перед лицом врага во Францию героическую. Увы, ход и исход русской революции до сих пор не уполномочивает нас искать подобных параллелей. Традиционное сравнение 1613 и 1813 гг. напоминает, правда, о моментах просветления национального сознания и о чрезвычайных народных усилиях, на которые способен был русский народ, когда в его сознании запечатлевалось представление об опасности, грозившей самому его существованию. Быть может, можно надеяться, что в 1919 г. такое просветление перед лицом великой национальной катастрофы примет более культурную форму — чего-либо вроде германского возрождения начала XIX в. Может быть, эта катастрофа послужит толчком, которым закончится доисторическое, подсознательное, так сказать, этнографическое существование народа и начнется исторический период связного самосознания и непрерывной социальной памяти. С очень большим опозданием мы и в этом случае пойдем по пути, уже давно пройденному культурными народами. Но в ожидании, пока все эти надежды осуществятся, мы должны признать, что сами надежды этого рода служат, так сказать, хронологической вехой. Наша русская mе ancestrale продолжает, очевидно, представлять ту плазму, на которой лишь слабо и отрывочно запечатлелись отметки истории. Основным ее свойством еще остается та всеобщая приспособляемость и пластичность, в которой Достоевский признал основное свойство русской души, идеализировав его как «всечеловечность». В политическом же применении бесформенность этой души проявляется как тот натуральный, догосударственный «анархизм», то «естественное состояние человека», по выражению старой политической доктрины, которое так ярко и сильно выразил «великий писатель земли русской», отразивший, как в зеркале, на удивление цивилизованному миру это состоние народной души.
Повторяем: философ истории русской революции не сможет обойти всех этих глубоких корней и нитей, связывающих вторую русскую революцию со всем ходом и результатом русского исторического процесса. Но наша задача гораздо проще. Мы ставим себе целью возможно точное и подробное фактическое описание совершившегося на наших глазах. Те недостатки описания, которые усмотрит в нем последующий историк, отчасти вознаградятся чертами, для будущего историка этой революции уже недоступными: элементом личного свидетельства очевидца-наблю-дателя и отчасти близкого участника совершившихся событий. Эта более близкая к наблюдаемым явлениям позиция обусловливает, конечно, и иной характер объяснений причин и мотивов. В этом порядке мыслей мы прежде всего должны коснуться тех более детальных объяснений второй русской революции, которые, как они ни важны сами по себе, тоже останутся за пределами настоящего изложения.
Мы подразумеваем громадное влияние фактора, до сих пор не упомянутого, но имевшего первостепенное отрицательное значение. Если общая физиономия русской революции определилась в значительной степени нашим прошлым, то ее характер именно как революции, как насильственного переворота определился наличием фактора, противодействовавшего мирному разрешению конфликтов и внутренних противоречий между старыми формами политической жизни и не вмещавшимся более в эти формы содержанием. Инстинкт самосохранения старого режима и его защитников — таков этот отрицательный фактор.
Упорство старого режима. Неискренность его уступок. В упомянутой выше работе 1903-1904 гг. я объяснил подробно, как этот инстинкт самосохранения с неизбежностью привел к политике все усиливавшихся репрессий и к разделению России на два лагеря: Россию официальную и всю остальную Россию, в которой культурные и народные элементы были одинаково непримиримо настроены по отношению к дореформенной государственности. Не только в эти годы, но уже гораздо раньше, с шестидесятых, с сороковых годов, с конца XVIII столетия, было очевидно, что конфликт старой государственности с новыми требованиями есть лишь вопрос времени. Под углом этого грядущего конфликта складывалось все мировоззрение русской интеллигенции, по крайней мере шести последних поколений. Немудрено, что это мировоззрение и вышло таким односторонним. Описывать всю историю этой борьбы — значило бы в сущности пересказывать всю историю русской культуры двух последних столетий. Естественно, подобная задача не может быть целью настоящего изложения. Мне достаточно сослаться на мои уже приведенные прежние сочинения, которые в предвидении грядущего конфликта посильно готовили к пониманию его русское и иностранное общественное мнение.
Может быть, следовало бы здесь остановиться лишь на последней стадии этого конфликта между старой государственностью и новой общественностью, на том последнем десятилетии, когда хронический конфликт перешел в стадию неискренних уступок власти общественным течениям. Это десятилетие знаменуется открытым началом политической жизни в России под знаменем первого политического народного представительства. Германские публицисты уже придумали для этого периода меткое название: эпоха «мнимого конституционализма» (Scheinkonstitutionalismus). Если можно в одном слове сформулировать причину того, почему с первыми уступками власти конфликт не прекратился, а принял затяжной характер и в конце концов привел к настоящей катастрофе, то это объяснение дано в этом слове: Scheinkonstitutionalismus. Уступки власти не только потому не могли удовлетворить общество и народ, что они были недостаточны и неполны. Они были неискренни и лживы, и давшая их власть сама ни минуты не смотрела на них как на уступленные навсегда и окончательно. Я помню момент, когда граф Витте в ноябре 1905 г. после октябрьского манифеста, пригласил меня для политической беседы. Я сказал ему, что никакое общественное сотрудничество с правительством невозможно до тех пор, пока власть не произнесет открыто слова «конституция». Пусть, говорил я, это будет конституция октроированная, но нужно, чтобы она была дана окончательно. Граф Витте не скрыл от меня, что он не может исполнить этого условия, ибо этого «не хочет царь». Довольно известно, что даже манифест 17 октября император Николай II считал данным «в лихорадке» и никогда не мирился даже с этими более чем скромными уступками. Не хотел, конечно, конституции и граф Витте, исходя из своих старых славянофильских взглядов; не хотели конституции даже такие общественные деятели, как Дм. Ник Шипов. Для защиты создавшейся, таким образом, двусмысленности была создана специальная партия — «Союз 17 октября», и все последующее десятилетие прошло под знаком политического лицемерия. Так как страна не могла этим удовлетвориться, то и само существование представительных учреждений послужило лишь к расширению базиса для дальнейшей борьбы общественности с защитниками старого порядка. Если опорой для общественности служила при этом оппозиция Государственной думы, не смолкавшая даже в самые трудные минуты существования этого учреждения, то опорой для власти служил Государственный совет, принявший в себя все силы и сосредоточивший все усердие сановников старого режима.
В результате борьбы этих двух центров в России за десять лет в сущности вовсе не было законодательства. Все проекты реформ, даже самых умеренных, застревали под «пробкой» Государственного совета, превратившегося с годами в настоящее кладбище благих начинаний Государственной думы. Проходили через законодательные учреждения лишь те меры, которых хотела власть в союзе с правящим сословием. Так прошла аграрная реформа Столыпина, так прошли постыдные для русского имени законы о Финляндии. Гибкость и услужливость октябристов казались власти уже недостаточными. Курс политики поворачивался все более вправо. «Конституционализм» становился все более призрачным, и на очередь дня становился самый беззастенчивый «национализм». Старая формула Уварова «православие, самодержавие и народность» была выкопана из архивов, слегка подновлена и серьезно пущена в ход как платформа для выборов и как программа очередного политического курса. Желание императора Николая II сохранить самодержавие таким, каким оно было «встарь», было принято к исполнению не только «Союзом русского народа», вызвавшим это заявление царя, но и политическими деятелями, выдававшими себя за государственных мужей и, чем дальше, тем откровеннее предлагавшими себя наперебой в организаторы государственного переворота. Здесь нет надобности упоминать имен. Имена всем памятны; многие из лиц, их носившие, заплатили трагической кончиной за свою вину перед родиной и перед русским народом. Это их работа в связи со все усиливавшимся влиянием при дворе случайных людей и проходимцев создала в стране то состояние полнейшей неуверенности в завтрашнем дне, которое, собственно, и подготовило психологию переворота, изолировав двор и власть от всех слоев населения и от всех народностей Российского государства.
Для самых умных из этих прислужников старого режима было ясно, что при подобной напряженности общего настроения, при таком состоянии неустойчивого равновесия, с трудом поддерживаемого политикой репрессий и опирающегося на искусственно сорганизованное ничтожное меньшинство, Россия не выдержит никакого серьезного внешнего толчка или внутреннего потрясения. Опыт 1905 г., казалось, должен был служить уроком. Тогда с большим трудом удалось ликвидировать последствия неудачной войны и спасти власть от неизбежного ее результата — внутренней революции. Граф Витте был призван специально для выполнения этой миссии. Ошибки первой русской революции, поддержка Европы дали ему возможность выполнить ее блистательно. Но близорукая власть относилась с подозрением к самым лучшим и верным своим защитникам. Граф Витте едва выхлопотал себе право спасти эту власть, оставшись на своем посту до заключения займа во Франции и до возвращения русских войск из Маньчжурии. Далее его услуги были не нужны. Его соперникам поручили ликвидацию уступок, сделанных «в лихорадке», уступок, которых никогда не могли простить графу Витте. И началась борьба с молодым народным представительством, приведшая к первому нарушению «мнимой конституции», к изданию избирательного закона 3 июня 1907 г., окончательно изолировавшего власть от населения и передавшего народное представительство в руки случайных людей и случайных партий. Кое-как сколоченный государственный воз скрипел до первого толчка.
Можно ли было его предупредить? Сторонники старого режима считали, что можно и нужно в союзе с Германией. А жизнь повела русскую политику по иному направлению, в сторону держав «согласия», и новорожденное русское представительство сыграло тут известную роль. Так или иначе при разделении Европы на два лагеря Россия не могла не быть втянута в международные конфликты. Она могла лишь избежать создания конфликтов по собственной вине, но для этого ее балканская политика была недостаточно умна и проницательна. Общая бестолковость управления привела к тому, что, идя более или менее сознательно на возможный конфликт, Россия оказалась к нему не подготовленной в военном смысле. Как во внешней политике, так и в вопросе об усилении военной мощи Государственная дума имела определенное влияние, и тем связала себя с патриотически настроенными политическими кругами. Этим она впервые приобрела известную независимость от веяний в «сферах» и на случай внешнего конфликта приготовила себя к роли серьезного политического фактора — серьезного тем более, чем слабее, растеряннее и неподготовленнее оказалось бы само правительство. К Государственной думе в этом случае неизбежно должна была перейти роль идейного руководства нацией.
И вот она наступила, эта война: наступила в форме громадного мирового конфликта. В ряду факторов, определивших особую физиономию второй революции, войне 1914-1918 гг. принадлежит, конечно, первое место. Многие и многие из явлений, которые принято считать специфически революционными, фактически предшествовали революции и созданы именно обстоятельствами военного времени. Ввиду этого на влиянии войны на революцию надо остановиться несколько подробнее.
Общее действие войны на внутренний порядок. 1915 год. Прежде всего, конечно, при этом напрашивается параллель между 1905 и 1917 гг. Тогда, как и теперь, война произвела все те разрушения во внутренней жизни страны, в строе чувств и мысли, которые она всегда производит. Изменения народной психологии в моменты войны станут понятны, если принять во внимание, что война поощряет как раз те качества и создает те привычки, которые во всем противоположны привычкам и качествам, одобряемым в нормальной жизни. Все обычные понятия при этом оказываются перевернутыми. Нечего и говорить уже о сохранении политических прав и свобод, которые даже в странах глубоко демократических, как Англия, в значительной степени были принесены в жертву сильной, почти диктаторской власти правительства военного времени. Но и элементарные понятия — о собственности, даже о человеческой жизни — оказываются затемненными. Военное законодательство воюющих стран само идет навстречу этим изменениям и помогает создавать их, вовлекая в государственный оборот и подчиняя государственному руководству такие стороны жизни, которые обычно остаются предоставленными свободной частной инициативе. В условиях русской жизни этот «военный социализм» сверху встретил не менее препятствий и сопротивления, чем на Западе, тем более что наряду со стеснениями для одних общественных групп он сопровождался значительными материальными преимуществами для других. Свободный торговый оборот был почти разрушен расширением сферы государственной монополии, зато расцвела спекуляция и создались хищнические цены на предметы военного производства. Нормальное функционирование капиталов прекратилось, но рабочая плата росла беспредельно. При огромных чрезвычайных государственных расходах на войну обычный бюджет настолько отстал, что на него вообще перестали обращать внимание. Как неоплатный должник, который все равно не может свести концов с концами, государство стало расточительно за чужой счет. Неограниченный внешний кредит и печатный станок, выпускавший каждый день бумажек на десятки миллионов, из которых складывались миллиарды, совершенно устранили всякое понятие о необходимости быть бережливым. Широкие общественные слои один за другим переходили на содержание государства. Деревня не платила налогов и получала пайки. Рабочие не работали и получали быстро возраставшие оклады заработной платы. Фабрикантам эта плата возмещалась в столь же быстро возраставшей цене казенных заказов. Громадная армия тыла, содержавшаяся на казенный счет, приучала народ к праздности и к извлечению чрезвычайных доходов из народных бедствий, расстройства торговли и транспорта.
Среди этого показного благополучия страдали как раз те элементы, против которых направлялась вся ненависть «революционной демократии»: служащая «буржуазная» интеллигенция и чиновничество. Но и в среде последнего могущественные союзы, как железнодорожный, почтово-телеграфный и т. д., умели извлекать из казначейства многие сотни миллионов добавочного вознаграждения.
Чтобы справиться со всеми этими явлениями ненормального времени, нужна была действительно военная диктатура, в которую мало-помалу и превратилось управление таких демократических стран, как Англия и Франция. У нас, наоборот, эти же самые явления создали для власти и закона обстановку полного бессилия. Это бессилие власти чувствовалось уже при монархии. Оно и было причиной того, что умеренные элементы, понимавшие значение усиления власти для благополучного исхода войны, пошли на революционный переворот. Переворот этот в сущности был поставлен на очередь тогда, когда весной 1915 г. стало общеизвестно, что уже с первых месяцев войны русские войска терпят неудачи и обречены на них впредь вследствие полнейшей нашей неподготовленности, вследствие отсутствия в армии достаточного количества ружей, патронов, снарядов. Не одна Россия очутилась в этом положении. Но в других странах, как ее союзников, так и ее противников, недостатки были быстро замечены и в согласии с народным представительством приняты энергичные меры к усилению военной производительности и к поднятию военной техники. В то время как там, на Западе, получались поистине чудодейственные результаты этого дружного сотрудничества всей страны с властью, у нас весь пыл и энтузиазм народного представительства, проявленный с самого начала войны, пропадал даром. После однодневной сессии 26 июля 1914 г., обнаружившей общее патриотическое единодушие партий в деле обороны страны, правительство решило было не собирать Государственную думу до ноября следующего года. И только настойчивые заявления депутатов привели к тому, что оно согласилось созвать Думу «не позже 1 февраля». В промежутке разнеслись слухи о записке правых, которая настаивала на скорейшем заключении мира с Германией во избежание внутренних осложнений. Правительство явно не хотело соблюдать условий молчаливого «перемирия», на которое шли партии в своем стремлении к единению. При таком уже испортившемся настроении состоялось закрытое совещание членов Государственной думы с правительством (25 января 1915 г.), в котором народные представители впервые отдали себе ясный отчет в том, что правительство или скрывает действительное положение дел в стране и армии и, следовательно, «обманывает Государственную думу», или само не понимает серьезности этого положения и, следовательно, органически не способно его улучшить.
Конфликт между законодательными учреждениями и правительством на почве военной неподготовленности. Уступки в частностях и расхождение в главном. С этого дня начался конфликт между законодательными учреждениями и правительством. В заседании 27 января Государственная дума возобновила обет «свято хранить духовное единство, залог победы». Но, во-первых, правительство само себя исключило из этого единства, а во-вторых, в речах крайних правых и крайних левых, профессора Левашова и Керенского, уже появились ноты, существенно нарушавшие это духовное единство. Оратор левых уже стал на точку зрения социалистов-интернационалистов и требовал скорого мира.
Отступление русских войск из Галиции во второй половине апреля 1915 г. подтвердило худшие опасения Государственной думы и заставило правительство пойти на некоторые уступки. Члены Государственной думы были введены в особый правительственный комитет, которому были поручены дела по распределению и выполнению военных заказов. Общественные круги добивались большего. Они требовали привлечения общественных сил к обслуживанию нужд войны и сосредоточения этих дел в особом министерстве «снабжения» с известным и пользующимся доверием армии деятелем во главе, по примеру Англии и Франции. Они требовали далее созыва Государственной думы не на короткую однодневную, а на длительную сессию и, наконец, создания правительства, которое могло бы пользоваться общественным доверием. 5 июня 1915 г. эти пожелания были высказаны князем Г. Е. Львовым на совещании уполномоченных от губернских земств и Н. И. Астровым в совещании городских голов, более радикально настроенных. Земский и городской союзы выделили из себя отделы, преобразованные в июле в «главный комитет по снабжению армий».
После упорных настояний общественных кругов и столь же упорного сопротивления правительства Государственная дума 19 июля, наконец, была созвана на длительную сессию. Правительство понимало, что, после всего случившегося оно не может встретиться с Государственной думой в прежнем составе. Правительство «почистилось». Ушел военный министр В. А. Сухомлинов, которого вся страна обвиняла в военных неудачах; ушел министр внутренних дел Н. А. Маклаков, которого обвиняли в возбуждении внутренней розни. Их места заняли выдвинутые думскими кругами А. А. Поливанов и доброжелательный, но слабый князь Щербатов. Перед самым открытием сессии ушли Щегловитов и Саблер, замененные кандидатами правых А. А. Хвостовым и А. Д. Самариным. Но Горемыкин остался в качестве доверенного лица государя, а с ним осталось и недоверие общества к власти.
При открытии Государственной думы в речах ораторов послышались новые тона. Даже националист граф В. А. Бобринский требовал проявления «патриотического скептицизма ко всему, что предъявит правительство». Внесенная им формула перехода требовала «единения со всей страной правительства, пользующегося ее полным доверием». То же требование варьировалось в речах В. Н. Львова и Н. В. Савича. А И. Н. Ефремов от имени партии прогрессистов уже выдвинул лозунг «ответственного перед народным представительством» министерства. Пишущий эти строки настоял на сохранении более скромной, но зато объединявшей более широкий фронт формулы: «министерства, пользующегося доверием страны», и перечислил те реформы, которые необходимо было провести немедленно вопреки заявлению И. Л. Горемыкина, желавшего ограничить деятельность Государственной думы «только законопроектами, вызванными потребностями войны», в узком смысле.
В первой половине августа все эти стремления, одновременно в Москве и в Петрограде, приняли определенную форму. В Петрограде высказанные думскими ораторами мнения легли в основу платформы «прогрессивного блока». Четвертая Дума — Дума без определенного большинства — была игралищем власти. Война дала Государственной думе большинство, и тем самым на твердую почву был поставлен вопрос об «ответственности» правительства перед этим большинством. Вот почему, когда программа «прогрессивного блока» после долгих обсуждений и споров была, наконец, опубликована 21 августа, более прогрессивные члены правительства сразу поняли, что самое меньшее, что нужно, — это войти со вновь образовавшимся большинством в определенные отношения.
Момент был решительный. Если бы власть сумела воспользоваться предоставленным ей шансом, то дальнейшего разъединения между правительством и обществом можно было бы надолго избегнуть. Понял это даже И. Л. Горемыкин и поспешил забежать вперед, пригласив к себе 15 августа лидеров правой части блока, чтобы с их помощью перехватить идею создания большинства и использовать эту идею для поддержки существующего правительства.
Неловкий эксперимент не удался. После этого в заседании Совета министров мнения разделились. Правое меньшинство поддерживало Горемыкина во мнении, что Государственную думу надо поскорее распустить. Большинство опасалось осложнений в случае роспуска и решило войти в контакт с представителями блока. Обсудив с ними 27 августа программу «прогрессивного блока», эти министры во главе с Харитоновым пришли к заключению, что «программа не встречает возражений, но Совет министров в нынешнем составе не может ее проводить». Намек был достаточно ясен. Через день, 29 августа, И. Л. Горемыкин выехал в Ставку к государю. Еще через день (31 августа) он вернулся и... сообщил коллегам, что Государственная дума 3 сентября должна быть распущена...
Протянутую руку оттолкнули. Конфликт власти с народным представительством и с обществом отныне превращался в открытый разрыв. Испытав безрезультатно все мирные пути, общественная мысль получила толчок в ином направлении. Вначале тайно, а потом все более открыто начала обсуждаться мысль о необходимости и неизбежности революционного исхода.
«Мнимый конституционализм» распадается на свои противоречия: большинство Думы идет к парламентаризму, власть — к восстановлению самодержавия. Со своей стороны не молчали и противники «мнимого конституционализма» с правой стороны. С роспуском Думы они подняли голову и начали тоже действовать открыто. На заседании Совета Министров в ставке 17 сентября под председательством государя были приняты решения в духе правого курса. Министра Щербатова сменил А. Н. Хвостов, кандидат крайних правых организаций. В тот же день в очень резкой форме был уволен обер-прокурор А. Д. Самарин, не поладивший с придворными фаворитами из духовных и не соглашавшийся в угоду им нарушить церковные каноны. Через месяц ушел А. В. Кривошеин, противник спешного роспуска Государственной думы. Намечены были к отставке и другие сторонники сближения с прогрессивным блоком. Напротив, снова выдвинулся Щегловитов, на съезде крайних правых (21 ноября) открыто заявивший о своих симпатиях к самодержавию и объявивший манифест 17 октября «потерянной грамотой». Обломки провинциальных отделов «Союза русского народа» были восстановлены и принялись за ту же работу, которой занимались в 1905-1907 гг.: они резко нападали на прогрессивный блок, на городской и земский союзы, видя в оживившейся деятельности общественных организаций подготовку революционного выступления. Под их влиянием назначенная «не позднее 15 ноября» сессия Государственной думы была отсрочена без точного указания срока созыва: первый случай за время существования законодательных учреждений. Съезды городского и земского союзов, назначенные на 5 декабря, были запрещены. Депутация этих союзов с жалобами на роспуск Государственной думы и с требованиями «министерства доверия» не была принята государем.
Настроение Николая Второго характеризуется тем, что еще 23 августа он принял на себя командование всеми сухопутными и морскими силами. Все попытки (в том числе письмо, подписанное восемью министрами) отговорить царя указанием на опасность и риск занятия этой должности не помогли. Распутин убедил императрицу и императора, что принятие командования в момент, «когда враг углубился в пределы империи», есть религиозный долг самодержца. Мистический взгляд на свое призвание, поддерживаемый сплотившимся придворным кружком, окончательно парализовал все другие влияния. Отныне все попытки извне указать царю на возрастающую опасность народного недовольства наталкивались на пассивное сопротивление человека, подчинившегося чужой воле и потерявшего способность и желание прислушиваться к новым доводам. Ходили слухи, что это состояние умственной и моральной апатии поддерживается в царе усиленным употреблением алкоголя. Отъезд царя на жительство в ставку выдвинул оставшуюся в Петрограде императрицу, посредницу и средоточие всех «безответственных» влияний. Министры, желавшие укрепить свое положение, начали ездить к императрице с докладами. Шайка крупных и мелких мошенников и аферистов окружила царицу и пользовалась своим влиянием, чтобы за денежную мзду обходить закон и доставлять частные изъятия и льготы: назначение на должности, освобождение от суда, от воинской повинности и т. д. Слухи об этих сделках распространились в обществе и совершенно уронили уважение ко двору. Постоянно слышалось историческое сравнение с «ожерельем королевы Марии Антуанетты».
1916 год. Разрыв и позиционная война. 1916 год, последний перед революцией, не представляет того драматизма политической борьбы, как 1915 г. Но это только потому, что парламентская борьба уже использовала все свои возможности и остановилась перед тупиком, из которого не было выхода. Позиции были заняты окончательно, и для обеих сторон стало ясно, что примирение невозможно. Общественные круги, которые сдерживались в 1915 г. в ожидании возможного компромисса, теперь окончательно потеряли надежду на мирный исход. Вместе с тем и основное требование «министерства доверия» уступило место более решительному требованию «ответственного министерства», то есть требованию парламентаризма. Мы видели, что в это же время придворным кругам даже «мнимый конституционализм» начинал казаться опасным опытом, от которого надо отказаться и вернуться к самодержавию.
Кое у кого при дворе, однако, сохранились проблески понимания, что с Государственной думой нельзя просто расстаться во время войны, не опасаясь взрыва и ослабления боеспособности армии. Настроение высшего командования, несомненно, склонялось в пользу умеренных уступок, которых требовало большинство Государственной думы в программе «прогрессивного блока». И под влиянием этих фактов в течение года было сделано несколько попыток как-нибудь наладить хотя бы внешне приличные отношения с Государственной думой. И. Л. Горемыкин после своего разрыва с министрами, поддерживавшими блок, и после небывалого и противоконституционного акта отсрочки сессии Государственной думы стал невозможен. Поэтому, когда вопрос о созыве Государственной думы после Рождественских каникул был вновь поднят и когда Горемыкин вновь повел борьбу против ее созыва, на этом сыграли новые любимцы двора. Преемником Горемыкина оказался... Б. В. Штюрмер. Одного этого назначения было достаточно, чтобы охарактеризовать пропасть, существовавшую между двором и общественными кругами. Для двора Штюрмер был приемлем, потому что его лично знали и ему лично верили. Кроме того, он получил необходимую санкцию: поддержку Распутина и императрицы. Для общественных кругов Штюрмер был типом старого губернатора, усмирителем Тверского земства. Его личной особенностью была любовь к деньгам, и из провинции следом за ним тащился длинный хвост пикантных анекдотов о его темных и скандальных способах стяжания. Но... Штюрмер явился в неожиданной роли защитника законодательных учреждений. Через А. Н. Хвостова, нового министра внутренних дел, он вошел в переговоры с отдельными членами Государственной думы (в том числе и с пишущим эти строки). В переговорах этих для созыва Думы ставилось одно условие: не говорить о Распутине! Конечно, Штюрмер получил ответ, что Государственная дума интересуется не придворными сплетнями, а политическим курсом правительства, что в Государственной думе есть хозяин — ее большинство, что у этого хозяина есть определенное мнение о том, что нужно делать для пользы России и что вместо тайных переговоров, которые ничего гарантировать не могут, нужно прежде всего определить свое отношение к «прогрессивному блоку» и его программе.
Но это как раз и было то, чего правительство не хотело. Сессия Думы открылась без всякого соглашения между большинством и правительством. Первое выступление Штюрмера с невнятной, никому не слышной и никого не интересовавшей речью было и его окончательным политическим провалом. Единственный план примирения с Думой, выдвинутый бывшим церемониймейстером, — устройство раута у премьера — провалился еще прежде этого выступления: Штюрмеру дали знать, что к нему не пойдут. А других политических средств в распоряжении этих людей не имелось. Единственное, что могло подействовать, — их уход, конечно, не входило в их виды. Штюрмер не ушел, он остался. Но он сократил до минимума свои контакты с Государственной думой. Обе стороны засели в своих окопах и перешли к позиционной войне.
В роли политического протагониста фигурировал некоторое время ставленник «Союза русского народа» А. Н. Хвостов, речистый и шумный депутат, не лишенный житейской ловкости и проявивший вкус к демагогии. Но и эта политическая карьера скоро померкла: Хвостов стал жертвой не своего политического курса — за это не оставляли, а той неловкости, с которой он исполнял придворные поручения. Посылка им известного проходимца Манасевича-Мануйлова в Христианию к Илиодору для покупки рукописи его книги, содержавшей скандальные разоблачения об отношении Распутина к царской семье, кончилась неудачей. Зато стала известна посылка им туда же другого проходимца, некоего газетного сотрудника Ржевского, предлагавшего Илиодору устроить убийство Распутина. Илиодор испугался появления темных людей в своей близости и бежал от русских агентов в Америку, где и издал свою книгу. А о проделке с Ржевским стало известно, когда министр поссорился со своим товарищем, опытным полицейским Белецким, и когда оба стали наперебой обличать друг друга печатно в причастности к миссии Ржевского. Вот та «политика», которая теперь велась в России ее руководящими кругами, возбуждая негодование во всех остальных.
С уходом Горемыкина и Хвостова министерские назначения все более теряли политическое значение в широком смысле. Началась, по меткому выражению Пуришкевича, «политическая чехарда». Один за другим появлялись, пройдя через переднюю Распутина, или «бывшие», или никому не ведомые политически люди, проходили, как тени, на своих постах... и уступали место таким же, как они, очередным фаворитам придворной шайки. При этих сменах прежде всего, конечно, были удалены последние министры, подписавшие коллективное письмо государю о непринятии им должности главнокомандующего. Ушел (17 марта) А. А. Поливанов, замененный честным, но необразованным и совершенно непригодным для этого поста рамоликом Д. С. Шуваевым. А. Н. Хвостова заменил сам Штюрмер, но 10 июля, к общему изумлению, Штюрмер заменил министра иностранных дел С. Д. Сазонова, к великому ущербу для влияния России в союзных странах. Должность «церемониймейстера», которую он занимал когда-то, при полном невежестве не только в дипломатии, но даже и в географии воюющих стран была его единственным правом на занятие этой должности. Не владея ни предметом, ни дипломатическим языком, он ограничил свою дипломатическую роль молчаливым присутствием при беседах своего товарища Нератова с иностранными послами. После такого назначения не оставалось ничего невозможного. В публике вспоминали про назначение Калигулой своего любимого коня сенатором.
Хуже было то, что, кроме смешной стороны, тут была и трагическая. Пишущему эти строки пришлось услышать осенью того же 1916 г. от покойного графа Бенкендорфа, нашего посла в Лондоне, что, с тех пор как Штюрмер стал во главе ведомства, англичане стали с нами гораздо сдержаннее и перестали делать его участником своих секретов. Ходили слухи о германофильских связях Штюрмера и каких-то тайных сношениях его агентов помимо послов за границей. Все это при общеизвестной склонности правых кругов к сближению с Германией и к возможно скорому выходу из войны из страха перед грядущей революцией сообщало правдоподобие слухам и вызывало усиленное внимание к ним во все более широких кругах общества. Слово «измена» стало передаваться из уст в уста, и об этом было громко заявлено с кафедры Государственной думы. Новую пищу эти слухи получили, когда возвращавшийся в Россию председатель русской парламентской делегации, посетившей летом этого года союзные страны, октябрист Протопопов свиделся в Стокгольме с представителем банкирского дома «Варбург и К°», обслуживавшего германские интересы, вел с ним разговоры о мире и завел потом через Стокгольм шифрованную переписку. Как-то так случилось, что именно после этого обстоятельства на Протопопова было обращено внимание двора. Через тибетского знахаря Бадмаева он нашел путь к Распутину и к императрице; в то же время он основывал большую либерально-буржуазную газету «Русская воля». Вот был самый желательный кандидат в министры, опробованный общественными кругами и Думой и в то же время дававший двору всяческие гарантии верности и благонадежности, «полюбивший государя», по его словам, с первого же свидания. Он-то знал закулисье Государственной думы и импонировал двору своими личными связями с ее влиятельными членами. Дума была, так сказать, у него в кармане. А что касается народного недовольства, то, уверял Белецкий, оно не так страшно, как кажется, и что даже в случае восстания в столице с ним справиться будет нетрудно, разделив Петроград на кварталы, обучив полицию пулеметной стрельбе и расставив пулеметы на крышах зданий, расположенных в стратегически важных местах.
Думские круги были поражены состоявшимся в сентябре назначением Протопопова на пост министра внутренних дел. Это был обход с тыла и измена в собственной среде. Конечно, влияния в этих кругах Протопопов никогда не имел и личным доверием и уважением не пользовался. По-дворянски ласковый и обходительный, по-дворянски задолженный, потом получивший на руки большое промышленное дело, он привык вести мелкую политику личных услуг и постоянно становился в положения, при которых правдивость была бы серьезным недостатком и помехой. На вторых ролях и при хорошем руководстве он мог прилично играть роль внешнего представительства: так это и было в заграничной парламентской делегации.
Предоставленный же самому себе и брошенный друзьями, которые от него отшатнулись, он скоро обнаружил все свои отрицательные стороны: свой карьеризм, легкомыслие, лживость и умственную ограниченность.
Назначение Протопопова имело, очевидно, целью перебросить мостик между двором и Государственной думой. На деле оно лишь резче подчеркнуло существовавшую между властью и обществом пропасть и еще более обострило и отравило взаимные отношения. На место ничтожеств и открытых врагов, говоривших на разных языках и совершенно чуждых общественным кругам по всему своему мировоззрению, тут явился ренегат, понимавший язык общественности, но готовый воспользоваться этим пониманием во вред ей. Естественно, что пренебрежение и презрение к бывшему товарищу быстро перешло в ненависть, и то, к чему уже привыкли от других, возбуждало особое негодование, когда исходило от своего.
Накопление противоречий и взрыв 1 ноября. Начало открытой революции. Все элементы взрыва были теперь готовы. Общественное напряжение и нервность достигли крайней степени, когда 1 ноября собралась Государственная дума. Летняя сессия Государственной думы носила деловой характер: Дума обсуждала в комиссиях и в пленуме самые невинные из законопроектов, введенных в программу блока. Обществу эта «органическая работа» не без основания казалась толчением воды в ступе. И было совершенно ясно, что зимняя сессия Государственной думы будет носить совершенно иной, интенсивно политический характер. Но Дума и правительство уже настолько разошлись, что на этот раз не было сделано никаких приготовлений, чтобы они могли встретиться сколько-нибудь миролюбиво. Штюрмера не убрали до Думы, как в январе убрали Горемыкина. Таким образом, Дума получила мишень, в которую могла направлять свои удары.
Но теперь бить только по Штюрмеру представлялось уже совершенно недостаточным. Штюрмер был лишь жалкий фигурант, приспособлявшийся, как и остальные субъекты «министерской чехарды», к тому, что делалось и диктовалось за кулисами. Туда, за эти кулисы, и должен был быть направлен очередной удар. Это было то, чего не понимали ни император, ни Протопопов.
Имена членов придворного кружка с именем императрицы во главе были произнесены 1 ноября с думской трибуны пишущим эти строки. Перечисляя один за другим все главнейшие шаги правительства, возбуждавшие общественное недовольство, оратор при каждом случае спрашивал аудиторию: «глупость это или измена?». И хотя оратор скорее склонялся к первой альтернативе, аудитория своим одобрением поддерживала вторую. В. В. Шульгин в яркой и ядовитой по обычаю речи поддерживал П. Н. Милюкова и сделал практический вывод из его обличений. Речи ораторов этого дня были запрещены для печати, и это обеспечило им самую широкую рекламу. Не было министерства и штаба в тылу и на фронте, в котором не переписывались бы эти речи, разлетевшиеся по стране в миллионах экземпляров. Этот громадный отзвук сам по себе превращал парламентское слово в штурмовой сигнал и являлся красноречивым показателем настроения, охватившего всю страну. Теперь у этого настроения был лозунг, и общественное мнение единодушно признало 1 ноября 1916 г. началом русской революции.
Как будто правительство начало, наконец, кое-что понимать. Штюрмер после второго заседания Думы, в котором окончились выступления фракционных ораторов, был уволен после назначения ему преемника. Заседания Думы были приостановлены на неделю, для того чтобы новое правительство могло осмотреться и сделать выводы из сложившегося положения. Наученное опытом общество уже ничего не ожидало, и было право. Преемником Штюрмера явился А. Ф. Трепов, и этот выбор подтверждал, что власть не хочет искать своих представителей вне тесной среды старых сановников, надежных для нее, но не способных вызвать к себе никакого общественного доверия. Вслед за другими Трепов делал попытки найти себе поддержку в Думе и в печати. Но, не располагая, подобно другим, ничем, что могло бы гарантировать серьезную перемену курса, он скоро увидел, что не может рассчитывать на хороший прием. Его даже предостерегали вообще против появления в Думе при этих условиях. Трепов все-таки пришел. Он наткнулся со стороны социалистических депутатов на прием, который вся Дума готовила Протопопову в случае его появления. Три раза он пытался начать свою речь, и трижды она была заглушена криками со скамей социалистов и трудовиков (19 ноября). Не помог Трепову даже и такой козырь, как оглашение факта, что союзники по договору обязались уступить России Константинополь и проливы.
Правительство давно перестало внушать к себе уважение. Но встреча Трепова показала всей стране, что оно перестало внушать и страх. Не могли внушить страха и новые репрессии Протопопова. Общество притаилось и чего-то ждало. В день окончания сессии, 17 декабря, предостерегая в последний раз правительство, пишущий эти строки говорил, что «атмосфера насыщена электричеством, все чувствуют приближение грозы, и никто не знает, куда падет удар».
Убийство Распутина и планы дворцового переворота. В тот же день, 17 декабря, гром разразился. Он поразил лицо, которое все считали одним из главных виновников маразма, разъедавшего двор. Странным образом, когда это лицо было устранено, все сразу почувствовали, что совсем не в этом дело, что устранен лишь яркий показатель положения, тогда как зло вовсе не в нем и вообще не в отдельных лицах. Был убит
Григорий Распутин. Это убийство, несомненно, скорее смутило, чем удовлетворило общество. Публика не знала тогда во всех подробностях кошмарной сцены в особняке князя Юсупова, рассказанной потом Пуришкевичем, одним из непосредственных участников убийства. Но она как бы предчувствовала, что здесь случилось нечто принижающее, а не возвышающее, нечто такое, что стояло вне всякой пропорции с величием задач текущего момента. И убийцы не принадлежали к числу представителей русской общественности. Напротив, они вышли из среды, создавшей ту самую атмосферу, в какой расцветали Распутины. Это был скорее протест лучшей части этой среды против самих себя, выражение охватившего эту среду страха, что вместе с собой Распутины погубят и их. Вся царская семья давно уже порывалась объединиться и объяснить царю, что он ведет Россию и всех своих к гибели. Увы, отдельные объяснения и тут не привели ни к чему, кроме личного разрыва. Теми же пустыми, ничего не говорящими глазами царь встречал августейших, как и простых советчиков.
По крайней мере этот удар разбудит ли спящих? Поймут ли они, что это после 1 ноября уже второе предостережение и что третьего, быть может, не будет? Общество задавало себе эти вопросы и с возраставшим нетерпением ждало. Оно ничего не дождалось. Рождественские праздники прошли, начался 1917 г., и все с недоумением спрашивали себя: что же дальше? Неужели все этим и ограничится? И что же нужно более сильное, чем то, что уже было? Впечатление, что страна живет на вулкане, было у всех. Но кто же возьмет на себя почин, кто поднесет фитиль и взорвет опасную мину?
В обществе широко распространилось убеждение, что следующим шагом, который предстоит в ближайшем будущем, будет дворцовый переворот при содействии офицеров и войска. Мало-помалу сложилось представление и о том, в чью пользу будет произведен этот переворот. Наследником Николая II называли его сына Алексея, а регентом на время его малолетства — в. к. Михаила Александровича. Из сообщения М. И. Терещенко после самоубийства ген. Крымова стало известно, что этот «сподвижник Корнилова» был самоотверженным патриотом, который в начале 1917 г. обсуждал в тесном кружке подробности предстоящего переворота. Его осуществление намечалось уже в феврале. В то же время другой кружок, ядро которого составили некоторые члены бюро «прогрессивного блока» с участием некоторых земских и городских деятелей, ввиду очевидной возможности переворота, хотя и не будучи точно осведомлен о приготовлениях к нему, обсуждал вопрос о том, какую роль должна сыграть после переворота Государственная дума. Обсудив различные возможности, этот кружок также остановился на регентстве в. к. Михаила Александровича как на лучшем способе осуществить в России конституционную монархию. Значительная часть членов первого состава Временного правительства участвовала в совещаниях этого второго кружка; некоторые, как сказано выше, знали и о существовании первого...
Тайные источники рабочего движения. Однако перевороту не суждено было совершиться так, как он ожидался довольно широкими кругами. Раньше, чем осуществился план кружка, в котором участвовал ген. Крымов, переворот произошел не сверху, а снизу, не планомерно, а стихийно... Некоторым предвестием переворота было глухое брожение в рабочих массах, источник которого остается неясен, хотя этим источником наверняка не были вожди социалистических партий, представленных в Государственной думе. Здесь мы касаемся самого темного момента в истории русской революции. Будущий историк, наверное, прольет свет и на эту сторону дела, но современнику, далекому от этого фокуса общественного движения, остаются только догадки.
Мы видели, какими побуждениями руководствовались парламентские круги, составлявшие оппозицию правительству. Их главным мотивом было желание довести войну до успешного конца в согласии с союзниками, а причиной их оппозиции — все возраставшая уверенность, что с данным правительством и при данном режиме эта цель достигнута быть не могла. Эти круга начали с утверждения, что «во время переправы лошадей не перепрягают». Мало-помалу, упираясь и сдерживая более нетерпеливых, они пришли к сознанию необходимости требовать введения общественных элементов в правительство «общественного доверия». Неуступчивость власти дала перевес над ними тем течениям в обществе, которые требовали формальной «ответственности» правительства перед народным представительством. Против идеи достигнуть этой цели революционным путем парламентское большинство боролось до самого конца. Но, видя, что насильственный путь будет все равно избран и помимо Государственной думы, оно стало готовиться к тому, чтобы ввести в спокойное русло переворот, который предпочитало получить не снизу, а сверху.
Но рядом с парламентским течением общественной мысли было и другое, социалистическое. На социалистические круги уже с самого начала войны воздействовали извне представители социалистического интернационализма за границей. Уже с ноября 1914 г. жертвой этих воздействий сделалась социал-демократическая фракция Государственной думы в лице своих членов-«большевиков» Петровского, Бадаева, Муранова, Самойлова и Шагова. В середине февраля 1915 г. происходил открытый суд над ними: в числе материалов для обвинения фигурировал присланный из-за границы проект резолюции, в котором была сформулирована «пораженческая» точка зрения Ленина. Правда, Петровский заменил резкую фразу ленинского проекта («с точки зрения рабочего класса и трудовых масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск») более мягкими выражениями («с точки зрения» и т. д. «особенно опасно усиление победоносной царской монархии»). Затем Петровский исключил из резолюции центральную мысль всей большевистской тактики (о пропаганде в войсках «социалистической революции» и о направлении оружия «не против своих братьев, наемных рабов других стран, а против реакции буржуазных правительств»). Для первого года войны эти идеи были еще слишком преждевременны. Они привились только значительно позже. Но тем не менее среди русских рабочих прививались именно эти идеи. «Социал-патриотическое» направление большинства европейского социализма пользовалось симпатией среди старшего поколения русских эмигрантов, таких как Плеханов, Дейч, Бурцев и другие. Но среди рабочих масс, а затем и среди войск несравненно больше успеха имели сторонники Ленина.
Как проникали пораженческие влияния на русскую фабрику и в русскую армию? Для ответа на этот вопрос весьма поучителен один документ от 23 февраля 1915 г., напечатанный в начале 1918 г. в русских газетах и представляющий собой циркулярное обращение отдела печати при германском министерстве иностранных дел всем послам, посланникам и консульским чинам в нейтральных государствах. Вот текст этого документа: «Доводится до вашего сведения, что на территории страны, в которой вы аккредитованы, основаны специальные конторы для организации пропаганды в государствах, воюющих с германской коалицией. Пропаганда коснется возбуждения социального движения и связанных с последним забастовок, революционных вспышек, сепаратизма составных частей государства и гражданской войны, а также агитации в пользу разоружения и прекращения кровавой войны. Предлагаем вам оказывать всемерное покровительство и содействие руководителям означенных пропагандистских контор». Этот документ — один в ряду многих подобных — лишь подтверждает тот германский план воздействия на общественные движения враждебных стран, который был составлен еще до войны и опубликован во французской «Желтой Книге».
Нужно, впрочем, сказать, что в общественном мнении более распространено было другое объяснение таинственного источника, из которого шло руководство рабочим движением. Этим источником считалась полиция, и притом специально полиция А. Д. Протопопова. Общество было убеждено, что, вместо того чтобы ожидать революцию, правительство предпочтет, как это сделал министр внутренних дел Дурново в декабре 1905 г. в Москве, вызвать ее искусственно и расстрелять ее на улице. Рука департамента полиции, несомненно, замечалась в забастовках, не прекращавшихся на петроградских фабриках, и даже в студенческих волнениях.
Как бы то ни было, откуда бы ни шли директивы, извне или изнутри, из объективных фактов с бесспорностью вытекает, что подготовка к революционной вспышке весьма деятельно велась — особенно с начала 1917 г. — в рабочей среде и в казармах Петроградского гарнизона. Застрельщиками должны были выступить рабочие. Внешним поводом для выступления рабочих на улицу был намечен день предполагавшегося открытия Государственной думы, 14 февраля. Подойдя процессией к Государственной думе, рабочие должны были выставить определенные требования, в том числе и требование ответственного министерства. В одном частном совещании общественных деятелей этот проект обсуждался подробно, причем самым горячим его сторонником оказался рабочий Абросимов, оказавшийся провокатором на службе охранки. На провокацию указывалось и в предостерегающем письме к рабочим П. Н. Милюкова.
Уличное движение переходит в революцию. Предостережение рабочих относительно возможной провокации на первый раз достигло своей цели. В назначенный первоначально день (14 февраля) выступление рабочих не состоялось. Однако оно оказалось отложенным ненадолго. Уже 23 февраля появились первые признаки народных волнений. 24-го мирные митинги уступили место первым вооруженным столкновениям с полицией, сопровождавшимся и первыми жертвами. 25-го работа фабрик и занятия в учебных заведениях прекратились: весь Петроград вышел на улицу. У городской думы произошло крупное столкновение народа с полицией, а на Знаменской площади при таком же столкновении казаки приняли сторону народа, бросились на конную полицию и обратили ее в бегство. Толпа приветствовала казаков; происходили трогательные сцены братания. 26 февраля, в воскресенье, правительство приготовилось к решительному бою. Центр столицы был оцеплен патрулями, были установлены пулеметы, проведены провода военных телефонов. Это, однако, не устрашило толпу. В громадном количестве, со знаменами, она ходила по улицам, собиралась на митинги, вызывала столкновения, при которых правительством были пущены в ход пулеметы. Чтобы усилить полицию, часть солдат была переодета в полицейские шинели, что вызвало в полках гарнизона чрезвычайное негодование и дало толчок к переходу их на сторону народа. Но движение продолжало быть бесформенным и беспредметным. Вмешательство Государственной думы дало уличному и военному движению центр, дало ему знамя и лозунг и тем превратило восстание в революцию, которая кончилась свержением старого режима и династии.
Роспуск Государственной думы. Восстание солдат и образование Временного комитета членов Государственной думы. Комитет берет в руки власть. Сигнал к началу революции дало опять-таки само правительство. Вечером 26 февраля председатель Государственной думы получил указ об отсрочке сессии, которая должна была открыться 27-го. Члены Государственной думы, собравшись утром этого дня на заседание, узнали, что они распущены. В непосредственной близости от Таврического дворца в то же время уже начиналось форменное восстание в казармах Волынского и Литовского полков. Движение началось среди солдат и застало офицеров совершенно неподготовленными: их одиночные попытки воспротивиться движению привели к кровавым жертвам. Солдаты в беспорядке пошли к Таврическому дворцу. Одновременно с этим смешанные толпы отправились к арсеналу, заняли его и, захватив оружие, бросились к тюрьмам освобождать арестованных — не только политических, но и уголовных, подожгли Литовский замок, окружной суд, охранное отделение на Тверской улице и т. д.
«Кто вызвал солдат на улицу?» — спрашивает В. Б. Станкевич, наблюдавший снизу начало революционного движения. Мы видели, что предварительная агитация на фабриках и в казармах могла бы дать указания для ответа на этот вопрос. Но во всяком случае закулисная работа по подготовке революции так и осталась за кулисами. Можно согласиться поэтому с наблюдением Станкевича: «Масса двинулась сама, повинуясь какому-то безотчетному внутреннему порыву... Ни одна партия при всем желании присвоить себе эту честь не могла дать на это ответа. Кто мог предвидеть выступление? Как раз накануне него было собрание представителей левых партий, и большинству казалось, что движение идет на убыль и что правительство победило. С каким лозунгом вышли солдаты? Они шли, повинуясь какому-то тайному голосу, и с видимым равнодушием и холодностью позволили потом навешивать на себя всевозможные лозунги. Кто вел их, когда они завоевывали Петроград, когда жгли окружной суд? Не политическая мысль, не революционный лозунг, не заговор и не бунт. А стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть без остатка».
Это и верно, и неверно. Верно как общая характеристика движения 27 февраля. Неверно как отрицание всякой руководящей руки в перевороте. Руководящая рука, несомненно, была, только она исходила, очевидно, не от организованных левых политических партий!
Правительство пыталось направить на восставших войска, оставшиеся верными ему, и на улицах столицы дело грозило дойти до настоящих сражений. Таково было положение, когда около полудня была сделана двоякая попытка ввести движение в определенное русло. С одной стороны, социалистические партии, подготовлявшие революционные кружки среди солдат, попытались взять на себя руководство движением. С другой стороны, решились стать во главе движения члены Государственной думы. Государственная дума как таковая, как законодательное учреждение старого порядка, координированная «основными законами» с остатками самодержавной власти, явно обреченной теперь на слом, была этой старой властью распущена. Она и не пыталась, несмотря на требование депутата М. А. Караулова, открыть формальное заседание. Вместо зала заседаний Таврического дворца члены Государственной думы перешли в соседний полуциркульный зал (за председательской трибуной) и там обсудили создавшееся положение. После ряда горячих речей там было вынесено постановление не разъезжаться из Петрограда (а не постановление «не расходиться» Государственной думе как учреждению, как о том сложилась легенда). Частное совещание членов Думы поручило вместе с тем своему совету старейшин выбрать Временный комитет членов Думы и определить дальнейшую ее роль в начавшихся событиях. В третьем часу дня совет старейшин выполнил это поручение, выбрав в состав Временного комитета М. В. Родзянко (октябриста), В. В. Шульгина (националиста), В. Н. Львова («центр»), И. И. Дмитрюкова (октябрист), С. И. Шидлов-ского (Союз 17 октября), М. А. Караулова, А. И. Коновалова (труд. гр.),
В. А. Ржевского (проф.), П. Н. Милюкова (к.-д.), Н. В. Некрасова (к.-д.), А. Ф. Керенского (труд.) и Н. С. Чхеидзе (с.-д.). В основу этого выбора, отчасти предопределившего и состав будущего министерства, было положено представительство партий, объединенных в «прогрессивном блоке». К нему были прибавлены представители левых партий, частью вышедших из блока (прогрессисты), частью вовсе в нем не участвовавших (трудовики и с.-д.), а также президиум Государственной думы. Ближайшей задачей комитета было поставлено «восстановление порядка и сношение с учреждениями и лицами», имевшими отношение к движению. Решение совета старейшин было затем обсуждено по фракциям и утверждено новым совещанием членов Думы в полуциркульном зале. Предложения, шедшие дальше этого, как-то: немедленно взять всю власть в свои руки и организовать министерство из членов Думы или даже объявить Думу Учредительным собранием, были отвергнуты отчасти как несвоевременные, отчасти как принципиально неправильные. Из намеченного состава Временного комитета участвовать в нем отказался Н. С. Чхеидзе и с оговорками согласился А. Ф. Керенский. Дело в том, что параллельно с решениями совета старейшин социалистическими партиями было решено немедленно возродить к деятельности Совет рабочих депутатов, памятный по событиям 1905 г. Первое заседание Совета было назначено в тот же вечер, в 7 часов, 27 февраля, причем помещением выбран без предварительных сношений с президиумом Государственной думы зал заседаний Таврического дворца. Помещение Таврического дворца после полудня вообще уже было занято солдатами, рабочими и случайной публикой, и в воззвании 27 февраля, приглашавшем на первое заседание, «временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов» (анонимный) говорил от имени «заседающих в Думе представителей рабочих, солдат и населения Петрограда». Чтобы урегулировать свой состав, то же воззвание предлагало «всем перешедшим на сторону народа войскам немедленно избрать своих представителей, по одному на каждую роту; заводам избрать своих депутатов по одному на каждую тысячу».
К вечеру 27 февраля, когда выяснился весь размер революционного движения, Временный комитет Государственной думы решил сделать дальнейший шаг и взять в свои руки власть, выпадавшую из рук правительства. Решение это было принято после продолжительного обсуждения, в полном сознании ответственности, которую оно налагало на принявших его. Все ясно сознавали, что от участия или неучастия Думы в руководстве движением зависит его успех или неудача. До успеха было еще далеко: позиция войск не только вне Петрограда и на фронте, но даже и внутри Петрограда и в ближайших его окрестностях далеко еще не выяснилась. Но была уже ясна вся глубина и серьезность переворота, неизбежность которого сознавалась, как мы видели, и ранее, и сознавалось, что для успеха этого движения Государственная дума уже много сделала своей деятельностью во время войны и специально со времени образования «прогрессивного блока». Никто из руководителей Думы не думал отрицать большой доли ее участия в подготовке переворота. Вывод отсюда был тем более ясен, что, как упомянуто выше, кружок руководителей уже заранее обсудил меры, которые должны были быть приняты на случай переворота. Намечен был даже и состав будущего правительства. Из этого намеченного состава кн. Г. Е. Львов не находился в Петрограде, и за ним было немедленно послано. Именно эта необходимость ввести в состав первого революционного правительства руководителя общественного движения, происходившего вне Думы, сделала невозможным образование министерства в первый же день переворота. В ожидании, когда наступит момент образования правительства, Временный комитет ограничился лишь немедленным назначением комиссаров из членов Государственной думы во все высшие правительственные учреждения, для того чтобы немедленно восстановить правильный ход административного аппарата. Необходимые меры по обеспечению столицы продовольствием были приняты особой комиссией, организованной исполнительным комитетом Совета рабочих депутатов, но под председательством приглашенного Временным комитетом Государственной думы одного из лидеров кадетов А. И. Шингарева. Руководство военным отделом взял на себя также член Государственной думы, введенный в состав Временного комитета ночью 27 февраля при окончательном выяснении его функций, полк. Б. Энгельгардт. Личный состав министров старого порядка был ликвидирован их арестом по мере обнаружения их местонахождения. Собранные в министерском павильоне Государственной думы, они были в следующие дни перевезены в Петропавловскую крепость.
Формальный переход власти к Временному комитету Государственной думы с ее председателем во главе и ликвидация старого правительства чрезвычайно ускорили и упростили дальнейший ход переворота. Одна за другой воинские части, расположенные в Петрограде и в его ближайших окрестностях, уже в полном составе, с офицерами, и в полном порядке переходили на сторону Государственной думы. Члены Государственной думы разъезжали по казармам, уведомляя гарнизон о совершившемся, и части войск в течение следующих дней беспрерывно подходили к Государственной думе, приветствуемые председателем и членами Временного комитета. Государственная дума стала центром паломничества. Она сохранила эту роль и после того, как правительство через несколько дней перенесло свои заседания в Мариинский дворец, предоставив Таврический дворец в распоряжение Совета рабочих и солдатских депутатов.
Первые четыре-пять дней работа вновь созданной власти велась день и ночь среди суматохи и толкотни Таврического дворца. Ближайшей задачей Временного комитета и образуемого им правительства было выяснить свои отношения к образовавшемуся рядом с ним представительству социалистических партий, заявивших с самого начала претензию представлять демократические классы населения, рабочих, солдат, а затем и крестьянство. С самого же начала Совет рабочих и солдатских депутатов поставил и свои особые задачи совершившемуся перевороту. Уже в воззвании 28 февраля он заявил, что «борьба еще продолжается; она должна быть доведена до конца; старая власть должна быть окончательно низвергнута и уступить место народному правлению»; «для успешного завершения борьбы в интересах демократии народ должен создать свою собственную властную организацию».
Совет рабочих депутатов и его лозунги. Временный комитет назначает министерство. Переговоры Совета рабочих депутатов с Временным комитетом об условиях поддержки кабинета. Декларации Временного правительства и Совета. В то время как Временный комитет Государственной думы овладевал аппаратом высшего управления государством, Совет рабочих и солдатских депутатов более интересовался тем, чтобы взять в свои руки управление столицей. Тем же воззванием назначались «районные комиссары для установления народной власти в районах Петрограда», и население приглашалось «немедленно сплотиться вокруг Совета, организовать местные комитеты в районах и взять в свои руки управление всеми местными делами». Так было положено начало осуществлению «основной задачи» Совета: организации народных сил для борьбы «за окончательное упрочение политической свободы и народного правления в России». Воззвание упоминало также о «созыве Учредительного собрания, избранного на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права».
Брошенные таким образом, независимо от Государственной думы, лозунги были быстро усвоены рабочими и солдатскими массами столицы. Только левая часть Временного комитета, начиная от к.-д., могла примкнуть к ним, оставаясь верной своим партийным взглядам. Однако же и со стороны представителей более правых партий возражений не последовало. Скоро оказалось, что они даже готовы были быстрее и дальше идти на уступки, требовавшиеся моментом, чем некоторые представители к.-д. Как бы то ни было, нельзя было медлить с выяснением отношений Временного комитета к демократическим лозунгам. Необходимо было ускорить и окончательное формирование власти. Ввиду этого уже 1 марта Временный комитет наметил состав министерства, которому должен был передать свою власть. Во главе первого революционного правительства, согласно состоявшемуся еще до переворота уговору, было поставлено лицо, выдвинутое на этот пост своим положением в российском земстве, — кн. Г. Е. Львов, мало известный лично большинству членов Временного комитета. П. Н. Милюков и А. И. Гучков в соответствии с их прежней деятельностью в Государственной думе были выдвинуты на посты министров иностранных дел и военного (а также морского, для которого в эту минуту не нашлось подходящего кандидата). Два портфеля — министерства юстиции и труда — были намечены для представителей социалистических партий. Но из них лишь А. Ф. Керенский 2 марта дал свое согласие на первый пост. Н. С. Чхеидзе, предполагавшийся для министерства труда, предпочел остаться председателем Совета рабочих депутатов (он фактически не принимал с самого начала участия и во Временном комитете). Н. В. Некрасов и М. И. Терещенко, два министра, которым суждено было потом играть особую роль в революционных кабинетах как по их непосредственной личной близости с А. Ф. Керенским, так и по их особой близости к конспиративным кружкам, готовившим революцию, получили министерства путей сообщения и финансов. Выбор этот остался непонятным для широких кругов. А. И. Шингарев, только что облеченный тяжелой обязанностью обеспечения столицы продовольствием, получил министерство земледелия, а в нем не менее тяжелую задачу — столковаться с левыми течениями в аграрном вопросе. А. И. Коновалов и А. А. Мануйлов получили посты, соответствующие социальному положению первого и профессиональным занятиям второго, министерство торговли и министерство народного просвещения. Наконец, участие правых фракций «прогрессивного блока» в правительстве было обеспечено введением И. В. Годнева и В. Н. Львова, думские выступления которых сделали их бесспорными кандидатами на посты государственного контролера и обер-прокурора Синода. Самый правый из блока, В. В. Шульгин, мог бы войти в правительство, если бы захотел, но он отказался и предпочел остаться в трудную для родины минуту при своей профессии публициста.
Вечером 1 марта на объединенное заседание Временного комитета Думы и Временного правительства явились представители исполнительного комитета Совета рабочих депутатов: Н. С. Чхеидзе, Ю. М. Стеклов (Нахамкес), Н. Суханов (Гиммер), Н. Д. Соколов, Филипповский и другие — с предложением обсудить те условия, принятие которых могло бы обеспечить вновь образовавшемуся правительству поддержку демократических организаций. Временное правительство охотно приняло это предложение и вошло в обсуждение прочтенных делегатами пунктов. Прения затянулись далеко за полночь. По настоянию П. Н. Милюкова, делегаты Совета согласились отказаться от пункта, согласно которому «вопрос о форме правления оставался открытым» (в ту минуту в такой скромной форме обеспечивалась возможность разрешения этого вопроса в смысле республики, тогда как Временное правительство принимало меры к обеспечению регентства Михаила). По его же требованию, после продолжительных споров они согласились вычеркнуть требование о выборности офицеров, то есть отказались от введения в число условий своей поддержки того самого принципа, который уже утром 2 марта они положили в основу знаменитого «приказа № 1». После этих и некоторых других изменений и дополнений предложенный делегатами текст принял следующую форму: «В своей деятельности кабинет будет руководствоваться следующими основаниями: 1. Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям, аграрным преступлениям и т. д. 2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых военно-техническими условиями. 3. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. 4. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны. 5. Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления. 6. Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. 7. Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении. 8. При сохранении строгой воинской дисциплины в строю и при несении военной службы устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам». За исключением п. 7, имевшего, очевидно, временный характер, и применения начала выбора к начальству милиции в п. 5, все остальное в этом проекте заявления не только было вполне приемлемо или допускало приемлемое толкование, но и прямо вытекало из собственных взглядов вновь сформированного правительства на его задачи. С другой стороны, необходимо отметить, что здесь не заключалось ничего такого, что впоследствии было внесено социалистическими партиями в понимание задачи революционной власти и что послужило предметом долгих прений и неоднократных разрывов между социалистической и несоциалистической частью «коалиционных» кабинетов следующих составов.
Со своей стороны П. Н. Милюков настоял, чтобы и делегаты Совета приняли на себя определенные обязательства, а именно, чтобы они осудили уже обнаружившееся тогда враждебное отношение солдат к офицерству и все виды саботажа революции вроде незаконных обысков в частных квартирах, грабежа имущества и т. д. и чтобы это осуждение было изложено в декларации Совета вместе с обещанием поддержки правительству в восстановлении порядка и в проведении начал нового строя. Оба заявления правительства и Совета должны были быть напечатаны рядом, второе после первого, чтобы тем рельефнее подчеркнуть их взаимную связь. Исполняя это желание Временного комитета, Н. Д. Соколов написал проект заявления. Этот проект, однако, мог быть истолкован в смысле, обратном условленному, и поэтому не удовлетворил комитет. П. Н. Милюков написал тогда другой проект, который с некоторыми изменениями и был принят в следующих словах окончательной декларации Совета: «...нельзя допускать разъединения и анархии. Нужно немедленно пресекать все бесчинства, грабежи, врывание в частные квартиры, расхищение и порчу всякого рода имущества, бесцельные захваты общественных учреждений. Упадок дисциплины и анархия губят революцию и народную свободу. Не устранена еще опасность военного движения против революции. Чтобы предупредить ее, весьма важно обеспечить дружную согласованную работу солдат с офицерами. Офицеры, которым дороги интересы свободы и прогрессивного развития родины, должны употребить все усилия, чтобы наладить совместную деятельность с солдатами. Они будут уважать в солдате его личное и гражданское достоинство, будут бережно обращаться с чувством чести солдата. Со своей стороны солдаты будут помнить, что армия сильна лишь союзом солдат и офицеров, что нельзя за дурное поведение отдельных офицеров клеймить всю офицерскую корпорацию».
Когда все эти переговоры уже были закончены, поздно ночью на 2 марта в комитет приехал А. И. Гучков, проведший весь день в сношениях с военными частями и в подготовке обороны столицы на случай ожидавшегося еще прихода войск, посланных в Петроград по приказанию Николая II. Возражения по поводу уже состоявшегося соглашения побудили оставить весь вопрос открытым. Только утром следующего дня, по настоянию М. В. Родзянко, П. Н. Милюков возобновил переговоры. В течение дня соглашение было обсуждено и принято в Совете, и вечером 2 марта делегация Совета вновь явилась к П. Н. Милюкову с предложением выработать окончательный текст. Кроме уже принятых пунктов, делегаты настояли на включении фразы: «Временное правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедления по осуществлению вышеизложенных реформ и мероприятий». Подозрительность, проявленная в этих словах, сказалась также и в тех более чем сдержанных выражениях, в которых декларация Совета давала правительству обещанную поддержку. К приведенной выше части декларации с этой целью была присоединена следующая вступительная часть: «Товарищи и граждане, новая власть, создавшаяся из общественно умеренных слоев общества, объявила сегодня обо всех тех реформах, которые она обязуется осуществить частью еще в процессе борьбы со старым режимом, частью по окончании этой борьбы. Среди этих реформ некоторые должны приветствоваться широкими демократическими кругами: политическая амнистия, обязательство принять на себя подготовку Учредительного собрания, осуществление гражданских свобод и устранение национальных ограничений. И мы полагаем, что в той мере, в какой нарождающаяся власть будет действовать в направлении осуществления этих обязательств и решительной борьбы со старой властью, демократия должна оказать ей свою поддержку». Здесь, как видим, не только не отразился тот факт, что текст правительственных «обязательств» в основе своей составлен самими делегатами Совета, а текст их декларации — Временным комитетом Государственной думы, но и впервые принята та знаменитая формула «постольку-поскольку», которая заранее ослабляла авторитет первой революционной власти среди населения. Хотя Совет и санкционировал post factum вступление А. Ф. Керенского в правительство, но он и тут продолжал подчеркивать, что правительство принадлежит к «общественно умеренным» слоям, то есть заранее бросал на него подозрение в классовой односторонности. Зародыши будущих затруднений и осложнений уже сказались в этой исходной формулировке взаимных отношений правительства и первой из организаций «революционной демократии».
Поездка Гучкова и Шульгина к царю и его отречение от престола. Еще не покончив с этими переговорами, Временный комитет принялся за свою главнейшую очередную задачу — ликвидацию старой власти. Ни у кого не было сомнения, что Николай II более царствовать не может. Еще 26 февраля в своей телеграмме к царю М. В. Родзянко требовал только «немедленного поручения лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство», то есть употреблял прежнюю формулу «прогрессивного блока». Он прибавлял при этом, что «медлить нельзя» и что «всякое промедление смерти подобно», и «молил Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца». Но уже 27-го утром тон второй телеграммы был иной: «Положение ухудшается. Надо принять немедленно меры, ибо завтра будет уже поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии». На просьбы, обращенные к главнокомандующим фронтами, — поддержать перед царем обращение председателя Думы, Родзянко получил от генералов Брусилова и Рузского ответные телеграммы, что его просьба исполнена. Генерал Алексеев также настаивал, вместе с в. к. Николаем Николаевичем на «принятии решения, признаваемого нами единственным выходом при создавшихся роковых условиях», то есть на составлении ответственного министерства. В том же смысле составлено было заявление, подписанное великими князьями и доставленное во Временный комитет Государственной думы. Но действительно было уже поздно думать только об ответственном министерстве. Нужно было полное и немедленное отречение царя. С целью настоять на нем Временный комитет в ту же ночь, с 1 на 2 марта, решил отправить к Николаю II делегацию из А. И. Гучкова и В. В. Шульгина. Царь, правда, вызывал М. В. Родзянко, но отъезд из Петрограда председателя Думы в то время, когда только что формировалась новая, революционная власть, был признан небезопасным. По мысли комитета, отказ Николая II должен был последовать в пользу наследника при регентстве Михаила.
Выехав в 3 часа дня 2 марта, А. И. Гучков и В. В. Шульгин в 10 часов вечера прибыли в Псков и немедленно были приглашены в салон-вагон Николая II. Здесь после речи А. И. Гучкова о необходимости отречения в пользу сына (сидевший рядом с Шульгиным генерал Рузский сказал ему при этом: «это уже дело решенное») бывший государь ответил спокойно и не волнуясь, со своим обычным видом вежливой непроницаемости: «Я вчера и сегодня целый день обдумывал и принял решение отречься от престола. До 3 часов дня я был готов пойти на отречение в пользу моего сына. Но затем я понял, что расстаться с моим сыном я не способен. Вы это, я надеюсь, поймете. Поэтому я решил отречься в пользу моего брата». Ссылка на отцовские чувства закрыла уста делегатов, хотя позволено думать, что в решении царя была и известная политическая задняя мысль. Николай II не хотел рисковать сыном, предпочитая рисковать братом и Россией в ожидании неизвестного будущего. Думая, как всегда, прежде всего о себе и о своих, даже и в эту критическую минуту, и отказываясь от решения, хотя и трудного, но до известной степени подготовленного, он вновь открывал весь вопрос о монархии в такую минуту, когда этот вопрос только и мог быть решен отрицательно. Такова была последняя услуга Николая II родине.
Спросив делегатов, думают ли они, что акт отречения действительно успокоит страну и не вызовет осложнений, и не получив утвердительного ответа, Николай II удалился и в 11 вечера возвратился в вагон с готовым документом. В. В. Шульгин попросил царя внести в текст фразу о «принесении всенародной присяги» Михаилом Александровичем в том, что он будет править в «ненарушимом единении с представителями народа», как это было уже сказано в документе. Царь тотчас же согласился, заменив лишь слово «всенародная» словом «ненарушимая». Без 10 минут в полночь на 3 марта отречение было подписано.
Речь П. Н. Милюкова и агитация против монархии. Влияние назначения Михаила вместо Алексея. За этот день 2 марта, однако же, политическое положение в Петрограде еще раз успело измениться. Изменение это впервые сказалось, когда около 3 часов дня П. Н. Милюков в Екатерининском зале Таврического дворца произносил свою речь о вновь образовавшемся правительстве. Речь эта была встречена многочисленными слушателями, переполнившими зал, с энтузиазмом, и оратор по ее окончании вынесен на руках. Но среди шумных криков одобрения слышались и ноты недовольства и даже протеста. «Кто вас выбрал?» — спрашивали оратора. Ответ был: «Нас выбрала русская революция», но «мы не сохраним этой власти ни минуты после того, как свободно избранные народом представители скажут нам, что они хотят видеть на наших местах людей, более заслуживающих их доверия». Так устанавливалась идея преемственности власти, созданной революцией, до Учредительного собрания. При словах оратора: «Во главе мы поставили человека, имя которого означает организованную русскую общественность, так непримиримо преследовавшуюся старым правительством», те же голоса дважды прерывали речь криками: «Цензовую». П. Н. Милюков ответил им: «Да, но единственно организованную, которая даст потом возможность организоваться и другим слоям русской общественности». Наконец, на самый существенный вопрос — о судьбе династии — оратор ответил: «Я знаю наперед, что мой ответ не всех вас удовлетворит. Но я скажу его. Старый деспот, доведший Россию до полной разрухи, добровольно откажется от престола или будет низложен. Власть перейдет к регенту, в. к. Михаилу Александровичу. Наследником будет Алексей (шум и крики: «Это старая династия»). Да, господа, это старая династия, которую, может быть, не любите вы, и, может быть, не люблю и я. Но дело сейчас не в том, кто что любит. Мы не можем оставить без ответа и без разрешения вопрос о форме государственного строя. Мы предоставляем его себе как парламентарную и конституционную монархию. Быть может, другие представляют иначе. Но если мы будем спорить об этом сейчас, вместо того чтобы сразу решить вопрос, то Россия очутится в состоянии гражданской войны и возродится только что разрушенный режим. Этого сделать мы не имеем права... Но, как только пройдет опасность и установится прочный мир, мы приступим к подготовке созыва Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Свободно избранное народное представительство решит, кто вернее выразил общее мнение России: мы или наши противники».
К концу дня волнение, вызванное сообщением П. Н. Милюкова о регентстве в. к. Михаила Александровича, значительно усилилось. Поздно вечером в здание Таврического дворца проникла большая толпа чрезвычайно возбужденных офицеров, которые заявляли, что не могут вернуться к своим частям, если П. Н. Милюков не откажется от своих слов. Не желая связывать других членов правительства, П. Н. Милюков дал требуемое заявление в той форме, что «его слова о временном регентстве в. к. Михаила Александровича и о наследовании Алексея являются его личным мнением». Это было, конечно, неверно, ибо во всех предшествовавших обсуждениях вопрос этот считался решенным сообща в том именно смысле, как это излагал П. Н. Милюков. Но напуганный нараставшей волной возбуждения Временный комитет молчаливо отрекся от прежнего мнения.
Как раз в то время, когда происходил этот сдвиг в Петрограде, в Пскове Николай II изменил свое первоначальное решение отречься в пользу сына и «решил отречься в пользу брата». Такая перемена делала защиту конституционной монархии еще более трудной, ибо отпадал расчет на малолетство нового государя, составлявшее естественный переход к укреплению строго конституционного строя. Те, кто уже согласился на Алексея, вовсе не были обязаны соглашаться на Михаила. И когда около 3 часов ночи на 3 марта до членов правительства, остававшихся в Таврическом дворце, дошли первые слухи об отречении Николая II в пользу Михаила, все почувствовали, что этим снова открыт вопрос о династии. Немедленно были уведомлены М. В. Родзянко и кн. Г. Е. Львов. Оба они отправились к прямому проводу в военное министерство, чтобы тотчас по расшифровании узнать точный текст акта об отречении и выяснить возможность его изменения. В то же время были приняты меры, чтобы до окончательного решения вопроса акт об отречении Николая II не был опубликован. На рассвете министры уведомили в. к. Михаила Александровича, ничего не подозревавшего и крайне удивленного случившейся переменой, что через несколько часов они его посетят. Отсутствие Родзянко и Львова, с одной стороны, и ожидание возвращения Гучкова и Шульгина — с другой, задержали эту встречу. Возвратившегося Шульгина пишущий эти строки успел на станции уведомить по телефону о совершившейся в Петрограде перемене настроения. Но А. И. Гучков уже сообщил железнодорожным рабочим о назначении Михаила и лично стал свидетелем возбуждения, вызванного этим известием.
Позиция П. Н. Милюкова. Текст отречения. Под этими предрассветными впечатлениями состоялось предварительное совещание членов правительства и Временного комитета о том, что и как говорить великому князю. А. Ф. Керенский еще накануне вечером в Совете рабочих депутатов объявил себя республиканцем и сообщил о своем особом положении в министерстве как представителя демократии и об особенном весе своих мнений. Правда, принятая на конферении петроградских социалистов-революционеров 2 марта резолюция говорила еще только о «подготовке Учредительного собрания пропагандой республиканского образа правления» и санкционировала вступление Керенского как способ «необходимого контроля над деятельностью Временного правительства со стороны трудящихся масс». Но на утреннем совещании 3 марта его мнение о необходимости убедить великого князя отречься возымело решающее влияние. Н. В. Некрасов уже успел набросать и проект отречения. На стороне обратного мнения, что надо сохранить конституционную монархию до Учредительного собрания, оказался один П. Н. Милюков. После страстных споров было решено, что обе стороны мотивируют перед великим князем свои противоположные мнения и, не входя в дальнейшие прения, предоставят решение самому великому князю. Около полудня у последнего на Миллионной собрались члены правительства: кн. Г. Е. Львов, П. Н. Милюков, А. Ф. Керенский, Н. В. Некрасов, М. И. Терещенко, И. В. Годнев, В. Н. Львов и несколько позже приехавший А. И. Гучков, а также члены Временного комитета М. В. Родзянко, В. В. Шульгин, И. Н. Ефремов и М. А. Караулов. Необходимость отказа пространно мотивировали М. В. Родзянко и А. Ф. Керенский. После них П. Н. Милюков развил свое мнение, что сильная власть, необходимая для укрепления нового порядка, нуждается в опоре привычного для масс символа власти. Временное правительство одно, без монарха, говорил он, является «утлой ладьей», которая может потонуть в океане народных волнений, стране при этих условиях может грозить потеря всякого сознания государственности и полная анархия, раньше чем соберется Учредительное собрание, Временное правительство одно до него не доживет и т. д. За этой речью вопреки соглашению последовал ряд других речей в полемическом тоне. Тогда П. Н. Милюков просил и получил вопреки страстному противодействию Керенского слово для второй речи. В ней он указывал, что хотя и правы утверждающие, что принятие власти грозит риском для личной безопасности великого князя и самих министров, но на риск этот надо идти в интересах родины, ибо только таким образом с данного состава лиц может быть снята ответственность за будущее. К тому же вне Петрограда есть полная возможность собрать военную силу, необходимую для защиты великого князя. Поддержал П. Н. Милюкова один А. И. Гучков. Обе стороны заявили, что в случае решения, не согласного с их мнением, они не будут оказывать препятствия и поддержат правительство, хотя участвовать в нем не будут.
По окончании речей великий князь, все время молчавший, попросил себе некоторое время на размышление. Удалившись в другую комнату, он пригласил к себе М. В. Родзянко, чтобы побеседовать с ним наедине. Выйдя после этой беседы к ожидавшим его депутатам, он довольно твердо сообщил им, что его окончательный выбор склонился на сторону мнения, защищавшегося председателем Государственной думы. Тогда А. Ф. Керенский патетически заявил: «Ваше Высочество, Вы — благородный человек!» Он прибавил, что отныне будет всюду заявлять это. Пафос Керенского плохо гармонировал с прозой принятого решения. За ним не чувствовалось любви и боли за Россию, а только страх за себя...
Проект отречения, набросанный Н. В. Некрасовым, был очень слаб и неудачен. Решено было пригласить юристов-государствоведов В. Д. Набокова и Б. Э. Нольде, которые и внесли в текст отречения изменения, возможные в рамках состоявшегося решения. Главное место отречения гласило: «Принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием своим через представителей своих в Учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства Российского. Призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы российской подчиниться Временному правительству, по почину Государственной думы возникшему и облеченному всей полнотой власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа». Чтобы легче понять, что нового внесено этим актом, приведем главное место отречения имп. Николая: «Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом согласии с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу во имя горячо любимой родины. Призываю всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы».
Первая капитуляция и дальнейший ход революции. Так совершилась первая капитуляция русской революции. Представители Государственной думы, «Думы третьего июня», в сущности решили вопрос о судьбе монархии. Они создали положение, дефективное в самом источнике, положение, из которого должны были развиться все последующие ошибки революции. В общем сознании современников этого первого момента новая власть, созданная революцией, вела свое преемство не от актов 2 и 3 марта, а от событий 27 февраля. В этом была ее сила, чувствовавшаяся тогда, и ее слабость, обнаружившаяся впоследствии.
Были ли тяжелые последствия революции 27 февраля, развернувшиеся в дальнейшем, неизбежны? Или, напротив, их можно было бы избежать, если бы тактика нового правительства оказалась иной? Будущему историку предстоит выяснить неизбежный характер последовавших событий, выведя его из трудностей войны и хозяйственной разрухи, из неподготовленности населения к практике народовластия, из запоздалости социальных и национальных реформ, из малокультурности и неорганизованности населения и т. п. Ближайший участник событий, развертывавшихся в центре, естественно, будет смотреть на события и оценивать их с точки зрения менее фаталистической. В ряде факторов неизменных, действовавших с неизбежными последствиями, он введет фактор, изменяющийся в зависимости от степени сознательности и волевой силы непосредственных руководителей. Ему трудно будет отказаться от убеждения, что все могло бы пойти иначе, если бы степень самосознательности и степень волевого напряжения у руководителей были иные. Русская революция была «мирная и бескровная» в своем начале главным образом вследствие двух причин: бесспорного для всех слоев и всех политических течений отрицательного отношения к старой самодержавной власти, не нашедшей в решительную минуту ни одного защитника, и столь же бесспорного в те первые минуты положительного отношения к Государственной думе и к ее деятелям, взявшим в свои руки руководство переворотом. Но бессилие старой власти перед недисциплинированностью и отсталостью страны перешло по наследству и к новой власти. Данная этой властью свобода была использована крайними элементами для систематической организации острой классовой борьбы, перешедшей мало-помалу в открытую гражданскую войну под лозунгом немедленного мира и немедленного введения социализма. В результате разрушительным началом революции легко было получить перевес над созидательным, стихии — получить перевес над сознательностью, распаду — над единством. Среди постепенно прогрессировавшего хаоса и анархии два элемента сохранили и усилили свой характер планомерных волевых факторов: во-первых, утопия всемирной социалистической революции, долженствовавшей из Петрограда перекинуться на Берлин, Париж, Лондон и т. д, утопия, уже погубившая нашу первую революцию 1905 г. отчасти при посредстве тех же самых идеологов-фанатиков; во-вторых, искусство германского генерального штаба, сумевшего организовать измену внутри неприятельской страны и заставить русских сражаться за Германию в Петрограде, Москве и многих других городах России.
Стихийный ход русской революции вел ее от переворота к перевороту, причем каждый новый переворот ослаблял революционную власть и все шире открывал путь явлениям распада. Можно даже подметить известную ритмичность в этом повторении новых и новых крушений власти. Два месяца — вот почти точно тот срок, на который каждому вновь организовавшемуся правительству удавалось удержать над страной власть, становившуюся все более и более номинальной и фиктивной. Сам переход от власти низвергаемой к власти, ее заменявшей, становился с каждым разом все более и более длительным и болезненным.
Сообразно этому общему ритму событий русской революции их можно разделить на следующие четыре периода: 1. Первое революционное правительство (2 марта — 2 мая). 2. Первое правительство коалиционного состава (2 мая — 2 июля). 3. Первый кризис власти и вторая коалиция (3 июля — 28 августа). 4. Второй кризис власти и третья коалиция (28 августа — 25 октября). Таково деление по внешнему признаку — последовательно меняющихся кабинетов. Но есть в нем и внутренний признак — постоянно прогрессирующий распад власти. За первым внутренним противоречием революции, которое мы уже отметили, при первом революционном правительстве следует второе. Государственная дума сдала революции идею монархии. Кабинет князя Г. Е. Львова сдал позицию буржуазной революции, подчинившись требованиям и формулам социалистических партий. Третье противоречие развернулось при следующем кабинете, первом коалиционном. Выпущенный «буржуазией» из рук принцип буржуазной революции приняли под свою защиту умеренные социалисты. Как и можно было ожидать, эта двусмысленная позиция погубила их во мнении рабочего класса и чрезвычайно усилила левый фланг русского социализма — «большевизм». Второму коалиционному кабинету уже пришлось стать перед фактом бессилия социалистического центра лицом к лицу с двумя боровшимися флангами: буржуазной диктатурой, стремившейся спасти, что можно, для достижения внешней победы и для сохранения внутреннего мира, и социалистической утопией, увлекавшей массы чисто демагогическими лозунгами. Двусмысленное положение, занятое Керенским в борьбе между этими двумя флангами, — между Корниловым и Лениным, лишило его союзников и выдало его противникам. В выяснении этого последнего обстоятельства — одиночества власти — и заключается политический смысл периода третьей коалиции: того, который мы назвали «агонией буржуазной республики». Исходом агонии явилась победа большевиков, составляющая хронологическую грань, на которой останавливается первый том истории второй революции.
II. Буржуазная власть подчиняется целям социализма (2 марта — 6 мая)
Первое Временное правительство. Его программа. 6 марта Временное правительство опубликовало воззвание к гражданам, в котором излагалась программа его деятельности. Необходимость государственного переворота объяснялась в этом воззвании не одними только обстоятельствами военного времени, но и всей той десятилетней борьбой против народных прав, которая систематически велась верховной властью со времени роспуска первых Государственных дум и нарушения конституции положением о выборах 3 июня 1907 г. В отличие от последующих деклараций воззвание 6 марта первой своей задачей ставило «доведение войны до победного конца» и заявляло при этом, что оно «будет свято хранить связывающие нас с другими державами союзы и неуклонно исполнит заключенные с союзниками соглашения». Союзникам и эта фраза показалась тогда слишком сухой. Далее правительство обязывалось: 1) «созвать в возможно кратчайший срок Учредительное собрание.., обеспечив участие в выборах и доблестным защитникам родины»; 2) «немедленно обеспечить страну твердыми нормами, ограждающими гражданскую свободу и гражданское равенство»; 3) «озаботиться установлением норм, обеспечивающих всем гражданам равное, на основе всеобщего избирательного права, участие в выборах органов местного самоуправления»; 4) «вернуть с почетом из мест ссылки и заточения всех страдальцев за благо родины».
Заявление Временного правительства об отношении его к войне и к союзникам все же закрепило за границей то благоприятное впечатление, которое было создано руководящей ролью Государственной думы в перевороте. Послы и посланники союзных держав в ожидании официального признания переворота их правительствами немедленно вошли в сношения с образовавшимся Временным правительством. Первым государством, поспешившим официально признать новую власть, была Америка, посол которой Френсис уже 9 марта был принят Временным правительством на торжественной аудиенции. За ним последовали 11 марта официальные заявления перед Временным правительством Франции, Англии и Италии; 22 марта — Бельгии, Сербии, Румынии, Японии и Португалии.
Первые мероприятия: гражданское равноправие; манифест о Финляндии; воззвание к полякам. В ближайшие же дни после принятия власти правительство энергично принялось за осуществление объявленной им программы. 6 марта датирован указ о самой полной амнистии, исключавшей лишь должностные преступления старого порядка, и немедленно же сделаны распоряжения о возвращении за государственный счет всех политических ссыльных и эмигрантов. 12 марта датировано постановление (опубликовано 18 марта) об отмене смертной казни. Труднее оказалось сформулировать отмену вероисповедных и национальных ограничений — необходимый шаг к установлению гражданского равенства и свободы. Можно было опубликовать общее постановление, но оно имело бы только декларативный характер. Можно было опубликовать перечень отмененных статей действующего законодательства, но это потребовало бы долгой и кропотливой работы. Временное правительство избрало средний путь, перечислив главные категории отменяемых ограничений и указав важнейшие отменяемые статьи. Таким образом, законом, подписанным 20 марта (издан 22 марта), отменялись национальные и вероисповедные ограничения, связанные со: 1) свободой передвижения и жительства; 2) приобретением прав собственности; 3) занятием ремеслом, торговлей и промышленностью; 4) участием в торгово-промышленных обществах; 5) наймом прислуги; 6) поступлением на государственную и общественную службы и участием в выборах; 7) поступлением в учебные заведения; 8) исполнением обязанностей опекунов, попечителей, присяжных поверенных и 9) употреблением языков в частных обществах и учебных заведениях. Таким образом, было снято темное пятно, лежавшее на русской общественности по отношению к евреям, которые получили по этому закону полное гражданское равноправие. Еще раньше Временное правительство поспешило исправить грех старой власти по отношению к двум народностям, особенно страдавшим от капризов самодержавной политики: финляндцам и полякам. Манифест о Финляндии был подписан уже 6 марта: им отменялись все нарушения финляндской конституции, совершенные с самого начала русификаторской политики Бобрикова (то есть с 1892 г.), даровалась полная амнистия лицам, боровшимся с русским правительством за права Финляндии, и давалось обещание в возможно краткий срок созвать сейм, которому «будут переданы проекты новой формы правления для Великого княжества Финляндского и, если того потребуют обстоятельства, предварительно будут переданы проекты отдельных основных законоположений в развитие конституции Финляндии», а именно: в них «будут выяснены и расширены права сейма в отношении права обложения и определения доходов и расходов казны, а также и в том смысле, чтобы исконное право самообложения финляндского народа было распространено и на таможенное обложение и чтобы обеспечено было своевременное движение подлежащих утверждению законов, принятых сеймом». Далее будут внесены проекты «о предоставлении сейму права поверять служебные распоряжения членов финляндского правительства», о «независимом высшем суде, о свободе печати и о союзах». Финляндскому народу торжественно подтверждалось «на основе его конституции сохранение его внутренней самостоятельности, прав его национальных — культуры и языков» и высказывалась «твердая уверенность, что Россия и Финляндия отныне будут связаны уважением к закону ради взаимной дружбы и благоденствия обоих свободных народов». Уверенность эта основывалась как на самом существе манифеста, которым полностью осуществлялись стремления финляндских конституционалистов-патриотов, составлявшие предмет борьбы в течение многих десятилетий, так и на том обстоятельстве, что акт был издан по предварительному соглашению с представителями финляндских политических партий. Архаический, полный пробелов и умолчаний государственный строй Финляндии превращался манифестом в конституционное государство новейшего типа, связанное с Россией единством высшей власти и важнейшими общеимперскими делами. К сожалению, уже во время первого Временного правительства желания финляндцев пошли дальше. Даже с нарушением строго конституционных отношений между сеймом и сенатом они стали добиваться расширения власти последнего учреждения, хозяйственное отделение которого заменяло в Финляндии министерство. При этом они очень тонко подмечали все моменты колебаний или слабости революционной власти, чтобы то выдвигать вперед свои требования, то вновь переходить к тактике выжидания. Созыв сейма был назначен на 22 марта, и появление его, как увидим, еще более осложнило ход разрешения финляндского вопроса.
В польском вопросе, по почину П. Н. Милюкова, Временное правительство сразу стало на определенную точку зрения полной независимости объединенной из трех частей этнографической Польши. Ввиду германско-австрийской оккупации Русской Польши революционная власть не могла, конечно, осуществить свое намерение непосредственно. Вместо манифеста о независимости Польши пришлось издать воззвание к полякам, которое говорило не точным юридическим языком финляндского документа, а словами одушевленного и горячего призыва — бороться за общее дело, «плечом к плечу и рука с рукою за нашу и вашу свободу», как гласили старые польские знамена 30-х гг. Временное правительство оговаривало лишь право российского Учредительного собрания. Основное место воззвания гласило так: «Сбросивший иго русский народ признает и за братским польским народом всю полноту права собственной волей определить судьбу свою. Верное соглашениям с союзниками, верное общему с ними плану борьбы с воинствующим германизмом, Временное правительство считает создание независимого Польского государства, образованного из всех земель, населенных в большинстве польским народом, надежным залогом прочного мира в будущей — обновленной — Европе. Соединенное с Россией свободным военным союзом, польское государство будет твердым оплотом против напора срединных держав на славянство. Освобожденный и объединенный польский народ сам определит государственный строй свой, высказав волю свою через Учредительное собрание, созванное в столице Польши и избранное всеобщим голосованием. Россия верит, что связанные с Польшей веками совместной жизни народы получат при этом прочное обеспечение своего гражданского и национального существования. Российскому Учредительному собранию предстоит скрепить окончательно новый братский союз и дать свое согласие на те изменения государственной территории России, которые необходимы для образования свободной Польши из всех трех, ныне разрозненных, частей ее».
Желания других национальностей. Энтузиазм, вызванный опубликованием финляндского и польского актов Временного правительства, отозвался повышением ожиданий среди других национальностей России, в особенности народностей, пограничных с театром военных действий. Издавая оба документа до Учредительного собрания, Временное правительство руководствовалось как идейным их значением и бесспорностью притязаний обеих народностей в тех рамках, в которые ввело их правительство, так и совершенно особым положением Финляндии и Польши вообще и в особенности в связи с военными операциями. В частности, в оккупированной Польше воззвание революционного правительства укрепляло надежды поляков и помогло им оказать противодействие германо-австрийцам в попытках последних создать полумиллионную польскую армию и закрепить за собой Польшу узами новой государственности, полученной из рук срединных империй. Распространение тех же прав на другие народности России не вызывалось такими же настоятельными причинами, предрешало бы будущее устройство России и уже поэтому должно было быть отложено до Учредительного собрания. Однако уже в то время и эти народности предъявили Временному правительству свои притязания. 18 марта князя Г. Е. Львова посетила литовская депутация в составе М. М. Ичаса, П. С. Янушкевича и В. М. Бельского и вручила ему постановление вновь образованного из представителей политических партий «Литовского национального совета», что «в этнографическом, культурном и экономическом отношениях Литва представляет единое политическое целое», что «при устроении жизни Литвы все населяющие ее народности должны пользоваться равными правами, и всем им должно быть гарантировано свободное развитие и участие в управлении Литвой» и что «Литва должна быть выделена в самостоятельную административную единицу, причем управление Литвой должно быть поручено органам и лицам из среды самого населения Литвы». Смысл этих заявлений, очевидно, шел дальше тех осторожных выражений, в которые они были на первый раз облечены. Тогда же князь Г. Е. Львов принял и украинскую депутацию в лице петроградских представителей: А. И. Лотоцкого, М. А. Корчинского, М. А. Славинского, Гогеля, Т. Гайдара и Лободы. Требования депутации были еще сравнительно умеренны и ограничивались мероприятиями, необходимыми до созыва Учредительного собрания. Такими мерами депутация считала назначение в украинские губернии лиц, знакомых с краем и с его языком, назначение губернских украинских комиссаров и учреждение при Временном правительстве комиссара по украинским делам, немедленное введение украинского языка в практику и делопроизводство судебных установлений, в начальную и среднюю школу, украинизация и открытие новых учительских семинарий с особой местной программой и т. д. В результате приема в Петрограде 19 марта образовался «Украинский национальный совет». Временное правительство приняло меры для удовлетворения украинских стремлений по ведомству народного просвещения. Кроме того, оно решительно порвало с политикой старой власти в Галиции, постепенно освободило и вернуло так называемых «заложников» и арестованных за украинскую национальную пропаганду и в конце существования первого министерства назначило особого комиссара Д. И. Дорошенко для управления оккупированными местностями Галиции в строгом согласии с предписаниями Гаагской конвенции, при помощи имеющего быть восстановленным на расширенных началах местного самоуправления. В том же духе и в то же время были приняты меры для организации управления оккупированными областями Малой Азии (Армении).
Взгляд князя Г. Е. Львова на управление Россией. Гораздо более сложным и трудным вопросом, от решения которого зависел весь дальнейший ход революции, был вопрос о переустройстве всего управления Россией. Мирный и быстрый успех революции в Петрограде отразился на таком же мирном и быстром усвоении ее результатов всей страной. Везде в провинции представители старой власти устранились сами или были устранены без всякого сопротивления. На смену администрации старого порядка повсюду в первые же дни революции возникли местные «комитеты», «советы» и другие организации из представителей общественных элементов. Никакого единообразия и никакой иерархической связи между этими местными организациями и центром не существовало. В первые же дни деятельности Временного правительства функции губернаторов и уездных представителей власти были переданы председателям губернских и уездных управ. Так как по своему составу эти председатели часто не соответствовали настроению момента, то эта суммарная мера на местах вызвала трения и недовольство. Когда из провинции в Петроград приезжали старые и новые представители администрации и требовали однообразных директив от министерства внутренних дел, они неизменно получали от кн. Г. Е. Львова тот же отказ, который он дал представителям печати в своем интервью 7 марта: «Это вопрос старой психологии. Временное правительство сместило старых губернаторов, а назначать никого не будет. В местах выберут. Такие вопросы должны разрешаться не из центра, а самим населением... Мы все бесконечно счастливы, что нам удалось дожить до этого великого момента, что мы можем творить новую жизнь народа — не для народа, а вместе с народом... Будущее принадлежит народу, выявившему в эти исторические дни свой гений. Какое великое счастье жить в эти великие дни». В интервью 19 марта кн. Львов говорил: «В области местного самоуправления программа Временного правительства составлена властными указаниями самой жизни. В лице местных общественных комитетов и других подобных организаций она уже создала зародыш местного демократического самоуправления, подготовляющего население к будущим реформам. В этих комитетах я вижу фундамент, на котором должно держаться местное самоуправление до создания новых его органов. Комиссары Временного правительства, посылаемые на места, имеют своей задачей не становиться поверх создавшихся органов в качестве высшей инстанции, но лишь служить посредствующим звеном между ними и центральной властью и облегчить процесс их организации и оформления». Кн. Львов пронес сказавшийся здесь оптимизм на идеалистической подкладке неприкосновенным через все испытания первых месяцев революции, как видно из его речи 27 апреля на торжественном юбилейном заседании четырех Дум. «Мы можем почитать себя счастливейшими людьми; поколение наше попало в наисчастливейший период русской истории» — так начиналась эта речь, а кончилась она стихами американского поэта: «Свобода, пусть отчаются другие, я никогда в тебе не усомнюсь».
Такое мировоззрение руководителя нашей внутренней политики практически привело к систематическому бездействию его ведомства и к самоограничению центральной власти одной задачей — санкционирования плодов того, что на языке «революционной демократии» называлось «революционным правотворчеством». Предоставленное самому себе и совершенно лишенное защиты со стороны представителей центральной власти население по необходимости должно было подчиниться управлению партийных организаций, которые приобрели в новых местных комитетах могучее средство влияния и пропаганды определенных идей, льстивших интересам и инстинктам масс, а потому и наиболее для них приемлемых.
Законопроекты по управлению. Однако же мысль о необходимости ввести местное «правотворчество» в какие-нибудь однообразные рамки закона не совсем исчезла. Подобранные кн. Львовым сотрудники во главе с Н. Н. Авиновым занялись разработкой соответствующих законопроектов. Влияние их на жизнь не могло сказаться уже потому, что разработка эта требовала довольно сложного труда и значительного времени. Однако же к концу своего существования, подводя итог своей деятельности в воззвании 26 апреля, Временное правительство уже имело возможность сообщить о ходе этой работы следующие сведения: «Начата коренная реорганизация местного управления и самоуправления на самых широких демократических началах. Из необходимых для этих целей законоположений изданы уже постановления о выборах в городские думы и о милиции. Выработаны и в самом непродолжительном времени будут изданы постановления о волостном земстве, о реформе губернских и уездных земств, о местных продовольственных органах, местном суде и об административной юстиции». Таким образом, все, что вообще было сделано в этой области до созыва Учредительного собрания, было уже подготовлено при первом составе Временного правительства.
Подготовка Учредительного собрания. Созыв Учредительного собрания при всем желании Временного правительства сделать это в кратчайший срок, как требовало этого принятое на себя правительством обязательство, закрепленное присягой, не мог состояться до введения на местах новых демократических органов самоуправления, способных провести выборы. С другой стороны, хотя правительство обязалось также привлечь к выборам и армию, у первого состава Временного правительства сложилось убеждение, что сделать это можно лишь в момент затишья военных операций, то есть не раньше поздней осени. В этих пределах правительство вполне добросовестно не хотело никаких промедлений и при первой возможности, предоставленной ему неотложными текущими делами, занялось этим вопросом. Уже 25 марта Временное правительство постановило образовать для выработки проекта избирательного закона в Учредительное собрание «Особое совещание» под председательством назначенного правительством лица (Ф. Ф. Кокошкина), с участием приглашенных им же специалистов по государственному праву, статистике и других сведущих лиц, а также «политических и общественных деятелей, представляющих главные политические и национально-политические течения России». Однако же созыв этой комиссии затормозился ввиду того, что председатель Совета рабочих и солдатских депутатов Н. С. Чхеидзе некоторое время вовсе не отвечал на сделанное ему предложение об определении численности представителей в совещании от демократических организаций, а затем предложенное юридической комиссией при Временном правительстве число их вызвало разногласие. К середине апреля юридическая комиссия разработала примерный перечень вопросов, подлежащих решению при составлении избирательного закона, и разослала его всем организациям, имеющим быть представленными в совещании. Комиссия рассчитывала, что в ближайшем будущем представители организаций (всего 41 член) будут делегированы, и 25-30 апреля можно будет начать работу. Но новые проволочки с посылкой делегатов, в особенности национальных групп, привели к тому, что при первом правительстве работа особого совещания так и не началась. Во всяком случае основные положения избирательного закона были уже выработаны юридической комиссией: это те самые положения, которые были доложены Ф. Ф. Кокошкиным на апрельском съезде партии народной свободы и приняты им.
Намеченная Временным правительством программа деятельности, таким образом, была или осуществлена, или подготовлена к осуществлению. Но не в этой области законодательных работ, осуществлявших великие принципы революции, лежали те трудности, которые, быстро возрастая, уже к концу второго месяца парализовали работу первого состава Временного правительства. Одну из этих трудностей мы уже отметили — это исчезновение власти в провинции и вытекавшая отсюда полная невозможность приводить в исполнение решения центрального правительства. Другая трудность заключалась в том, что власть, выпущенная из рук Временного правительства, была захвачена социалистическими партиями, поставившими своей прямой задачей организовать «демократию» как в центре, так и в провинции для осуществления своих партийных лозунгов.
«Демократические» организации. Совет рабочих и солдатских депутатов. В центре органами «революционной демократии» явились как местные петроградские социалистические организации, так в особенности объединявший их Совет рабочих и солдатских депутатов и его «Исполнительный Комитет».
Пишущий эти строки стоял слишком далеко от этого влиятельного учреждения, чтобы иметь возможность описать его по личному наблюдению. Но вот описания очевидца и участника, наблюдавшего «Исполнительный Комитет» Совета в течение марта и апреля, то есть как раз в описываемое время. «Комитет, — говорит Станкевич в своих воспоминаниях, — был учреждением, созданным наспех, уже в формах своей деятельности имевшим множество чрезвычайных недостатков. Заседания происходили каждый день с часу дня, а иногда и раньше и продолжались до поздней ночи, за исключением тех случаев, когда происходили заседания Совета, и Комитет обычно в полном составе отправлялся туда; порядок дня устанавливался обычно “миром’, но очень редки были случаи, чтобы удалось разрешить не только все, но хотя бы один из поставленных вопросов, так как постоянно во время заседаний возникали экстренные вопросы, которые приходилось разрешать не в очередь... Вопросы приходилось разрешать под напором чрезвычайной массы делегатов и ходоков как из Петроградского гарнизона, так и с фронтов, и из глубины России, причем все делегаты добивались во что бы то ни стало быть выслушанными на пленарном заседании Комитета... Пробовали было провести разделение труда устройством разных комиссий, но это мало помогло делу, так как центр тяжести по-прежнему лежал на пленуме, хотя бы потому, что комиссиям некогда было заседать ввиду перманентности заседаний Комитета. Важнейшие решения часто принимались совершенно случайным большинством голосов. Обдумывать было некогда, ибо все делалось второпях, после ряда бессонных ночей, в суматохе. Усталость физическая была всеобщей. Недоспанные ночи. Бесконечные заседания. Отсутствие правильной еды — питались хлебом и чаем, и лишь иногда получали солдатский обед в мисках без вилок и ножей».
«Главенствующее положение в Комитете все время занимали социал-демократы различных толков. Н. С. Чхеидзе, только председатель, а не руководитель.., лишь оформлял случайный материал, не давал содержания. Его товарища Скобелева редко можно было видеть в Комитете, так как ему приходилось очень часто разъезжать для тушения слишком разгоревшейся революции в Кронштадте, Свеаборге, Выборге и Ревеле... Н. Н. Суханов, старавшийся руководить идейной стороной работ Комитета, но не умевший проводить свои стремления через суетливую и неряшливую технику заседаний; Б. О. Богданов, полная противоположность Суханову, сравнительно легкомысленно относившийся к большим принципиальным вопросам, но зато бодро барахтавшийся в груде деловой работы и организационных вопросов и терпеливее всех высиживавший на всех заседаниях солдатской секции и Совета; Ю. М. Стеклов, изумлявший работоспособностью, умением пересиживать всех на заседаниях и, кроме того, редактировать советские “Известия” и упорно гнувший крайне левую, непримиримую или, вернее сказать, трусливо революционную линию; К. А. Гвоздев (потом министр труда), выделявшийся рассудительной практичностью; М. И. Гольдман (Либер), яркий, неотразимый аргументатор, направлявший острие своей речи неизменно налево; Н. Д. Соколов, как-то странно не попадавший в такт и тон событий; Дан, воплощенная догма меньшевизма.., всегда с запасом бесконечного количества гладких законченных фраз.., в которых есть все, что угодно, кроме действий и воли... Народники не дали для Комитета ничего похожего, даже когда появились их первоклассные силы: А. Р. Гоц, В. М. Чернов, И. И. Бунаков, В. М. Зензинов. Они все время предпочитали держаться в стороне... Народные социалисты В. А. Мякотин и А. В. Пешехонов старательно подчеркивали свою чужеродность в Комитете. Из трудовиков только Л. М. Брамсон... оставил очень значительный след в деловой работе Комитета... Большевики в Комитете были вначале представлены главным образом М. Ю. Козловским и П. И. Стучкой, оба желчные, злые и, как нам казалось, тупые. Противоположностью им явился потом Каменев... в Комитете он был не врагом, а только оппозицией... Военные были вначале представлены В. Н. Филипповским и несколькими солдатами... Из солдат, естественно, попали наиболее истерические, крикливые и неуравновешенные натуры... Потом вошли Завадье и Бинасик.., бывшие, кажется, мирными писарями в запасных батальонах, никогда не интересовавшимися ни войной, ни армией, ни политическим переворотом... наиболее яркое доказательство, насколько условно можно воспринимать утверждение, что Исполнительный Комитет руководил революцией...».
«В общем историю Комитета в организационном и личном отношении следует разделить на два периода: до и после приезда Церетели. Первый период был периодом, полным случайности, колебаний и неопределенности, когда всякий, кто хотел, пользовался именем и организацией Комитета, но более всего это удавалось Стеклову... Однажды было задержано письмо на бланке Комитета с печатью к крестьянам какого-то села, которым давалось полномочие “социализировать” соседнее помещичье имение. Несмотря на весь радикализм в социальных вопросах, весь Комитет был до глубины души возмущен... Оказалось, что такие письма выдавал член аграрной комиссии, социалист-революционер Александровский... Сами советские “Известия” были в сущности таким письмом Александровского. Везде чувствовалась рука редактора, проводящего отнюдь не взгляды Комитета... Некому было об этом подумать... Когда я составил протест против этого направления “Известий”, Стеклов был без сожаления смещен. Такое положение приводило к тому, что, хотя официально Комитет поддерживал правительство и большинство постоянно настаивало на незыблемости этой позиции, тем не менее он сам расшатывал авторитет правительства своими случайными мерами, необдуманными шагами... В то время как особая делегация (см. ниже) беседовала и приходила к полному единодушию с министрами, десятки Александровских рассылали письма, печатали статьи в “Известиях”, разъезжали от имени Комитета делегатами по провинции и в армии, принимали ходоков в Таврическом дворце, каждый выступал по-своему, не считаясь ни с какими разговорами, инструкциями или постановлениями и решениями. В конечном счете от Комитета всегда всего можно было добиться, если только упорно настаивать... Резко изменился характер Комитета с появлением Церетели... Он спокойно, уверенно и смело вел Комитет.., в принципе сохранял интернационалистические тенденции, на практике резко проводя оборонческую линию органического сотрудничества и поддержки правительства... Но поразительно: как раз в момент, когда Комитет организовался, научился управлять собой, он выпустил из рук руководство массой, которая ушла в сторону от него».
Нельзя лучше и ярче сказать, что Комитет имел силу лишь постольку, поскольку являлся невольным и слепым орудием проведения чужих тенденций. Когда он перестал быть таким орудием, сторонники этих тенденций нашли себе другие органы и другие методы действия. Для наблюдателя со стороны все было случайно и хаотично. А в результате получилась весьма определенная линия поведения. Так как главной мишенью Комитета в эту первую эпоху его существования было Временное правительство, то, естественно, эта единая линия поведения, проводившаяся преимущественно Стекловым, и может быть наблюдаема лучше всего в области отношений Комитета и его делегаций к правительству.
«Контактная комиссия». «Контроль» над правительством или участие социалистов во власти? Первые шаги Комитета в этом направлении были довольно неуверенны и робки. Общепризнанным догматом марксизма был тот, что в настоящее время возможна только «буржуазная», а не социалистическая революция, что социалистические партии должны не столько бороться за власть непосредственно, сколько создать условия для организации масс с целью такой борьбы в будущем, а в ожидании «контролировать» буржуазное правительство в его деятельности и не позволять ему препятствовать организационным задачам «демократии». В лице Временного правительства самое требовательное воображение не могло усмотреть такой организации, которая защищала бы классовые интересы «буржуазии» и противилась демократическим реформам. Задачи, которые преследовало правительство, были надпартийные, общие всем партиям: иначе и быть не могло, так как все его очередные меры были чисто формальные и подготовительные. Оно просто готовило условия для свободного выражения народной воли в Учредительном собрании, не предрешая по существу, как выразится эта воля относительно всех очередных вопросов государственного строительства — политических, социальных, национальных и экономических. Вот почему только в очень условном смысле это правительство могло быть названо «буржуазным». Конференция петроградских социал-революционеров так и смотрела на дело, когда уже 2 марта признала «настоятельно необходимой поддержку Временного правительства, поскольку оно будет выполнять объявленную им политическую программу». «Постольку-поскольку» сделалось знаменитой формулой Совета рабочих и солдатских депутатов. Это было бы по существу не опасно, ибо Временное правительство вовсе не думало изменять своей программе, а, напротив, убежденно и добросовестно ее осуществляло. Но «революционная демократия» не довольствовалась простым «контролем». В ближайшие же дни г. Стеклов-Нахамкес заявил в Совете, что Совет «желает путем постоянного организованного давления заставлять правительство осуществлять те или иные требования». Для этой цели — «воздействия на правительство и непрерывного контроля» — 10 марта была избрана особая «контактная комиссия» из Скобелева, Стеклова, Суханова (Гиммера), Филипповского и Чхеидзе. Впоследствии, после реорганизации Совета, ее место заняло бюро Исполнительного Комитета. «Контактная комиссия» действовала вначале очень сдержанно и робко при встречах с правительством, для чего время от времени в одном из залов Мариинского дворца — не в зале заседаний Совета Министров — назначались особые совещания.
Значительная часть пожеланий «контактной комиссии» удовлетворялась, о чем демонстративно и хвастливо заявлялось в Совете. Некоторые «требования» встретили, однако, категорический отказ (например, требование об ассигновании 10 миллионов на нужды демократических организаций). На съезде Советов И. Г. Церетели признал (30 марта), что в «контактной комиссии» «не было случая, чтобы в важных вопросах Временное правительство не шло на соглашения». Соответствующим образом была формулирована и декларация, предложенная Исполнительным Комитетом Совета этому съезду. «Признавая, что выдвинутое низвержением самодержавия Временное правительство, представляющее интересы либеральной и демократической России, проявляет стремление идти по пути, намеченному декларацией, опубликованной им по соглашению с Советом рабочих и солдатских депутатов, всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов, настаивая на необходимости постоянного воздействия на Временное правительство в смысле побуждения его к самой энергичной борьбе с контрреволюционными силами и к решительным шагам в сторону демократизации всей русской жизни, признает политически целесообразной поддержку Советом рабочих и солдатских депутатов Временного правительства, поскольку оно в согласии с Советом будет неуклонно идти в направлении к упрочению завоеваний революции и расширению этих завоеваний». Однако же речь докладчика Стеклова и последовавшие прения вскрыли гораздо более острое отношение к правительству, чем это видно из примирительного текста резолюции. Стеклов счел нужным поднять задним числом вопрос, который не играл никакой роли в начале революции: почему Исполнительный Комитет Совета не захватил с первого дня власти в свои руки? Он дал на это следующий характерный ответ. «По двум причинам: психологической и политической. Во-первых, в первые дни революции нам не было еще на кого опереться. Мы имели перед собой лишь неорганизованную массу... Со всех сторон сообщалось о том, что в Петроград идут войска с целью усмирения революции. Мы, подобно древним римлянам, сидели, уверяя себя, что “заседание продолжается”. Вторая причина — политическая. Революционная демократия берет власть в свои руки лишь тогда, когда власть в осуществлении своей программы становится на путь контрреволюционный. Такого положения у нас не было, нет его и сейчас. Буржуазия прекрасно сознавала и сознает, что ей надо идти на широкие уступки демократии... Мы ни одну минуту не сомневались, что та же самая программа, которую ныне осуществляет Временное правительство под аплодисменты всей российской буржуазии, встретила бы со стороны командующих классов самое энергичное сопротивление, если бы ее проводили мы под фирмой Совета солдатских и рабочих депутатов». Из наивного и откровенного признания Стеклова его оппоненты сделали дальнейшие выводы. «Они не чувствовали в первые дни революции почвы под ногами для захвата власти, — говорил военный врач Есиповский, — но теперь положение изменилось. За спиной Совета рабочих и солдатских депутатов — армия и народ. Представители революционного пролетариата и революционной армии должны поэтому войти в состав Временного правительства. Временное правительство должно быть коалиционным. Пока этого не произойдет, двоевластие неизбежно. В составе Временного правительства должен быть не один наш “заложник”, каким является А. Ф. Керенский, а представители всех социалистических партий». Большевик Каменев сделал другой вывод. «Из доклада Стеклова, — совершенно правильно заметил он, — видно, что Исполнительный Комитет не только осуществляет функции контроля над Временным правительством, но и ведет с ним упорную борьбу. Это и надо сказать в резолюции. Наше отношение к Временному правительству должно выразиться не в поддержке его, а в том, чтобы в предвидении неизбежного столкновения этого правительства или, вернее, тех классов, которые оно представляет, с органами революционной власти — Советами рабочих и солдатских депутатов — сплотиться вокруг последних».
Однако перевес на съезде принадлежал не сторонникам коалиции и не сторонникам открытой борьбы, а сторонникам «общенародного единения буржуазии и пролетариата на общей платформе демократической республики». Эту среднюю линию защищал И. Г. Церетели, не договаривая до конца аргументов Стеклова и подчеркивая лояльность Временного правительства, «не ответственного» за те круги, которые «натравливают на Советы рабочих и солдатских депутатов», и не идущего по пути «контрреволюции», на который эти круги его «толкают». Существо дела осталось во всяком случае то же. «Революционная демократия» за один месяц еще не успела почувствовать «почву под ногами», и худой мир для нее был предпочтительнее доброй ссоры. Худой мир устраивал и поддерживал И. Г. Церетели, но единомышленники Каменева не могли на него жаловаться, ибо «за спиной» правительства и Совета они совершенно свободно делали то самое дело, которое принципиально признавали нужным, хотя и отшатывались еще от его практических последствий.
Агитация большевиков против войны. В чем состояла закулисная революционная работа «за спиной» правительства и Совета? Русская революция еще не начиналась, а главный лозунг закулисных сил, ее двигавших, уже был провозглашен. Та демонстрация рабочих, которая готовилась на 14 февраля — день возобновления сессии Государственной думы, должна была выразить протест против войны. Именно для этой цели какие-то люди, именовавшие себя членами Государственной думы (и, конечно, не имевшие ничего общего с членами думских социалистических партий), раздавали оружие рабочим. Не только П. Н. Милюков протестовал тогда против «дурных и опасных советов, исходящих из самого темного источника», но и члены рабочей группы при военно-промышленном комитете, уцелевшие от ареста их Протопоповым, заявляли: «Интересы рабочего класса зовут вас к станкам (то есть к помощи войне)». Роль «темных источников» в перевороте 27 февраля, как мы уже говорили, совершенно неясна, но, судя по всему последующему, отрицать ее трудно. И уже в это первое время она совпадает с ролью «большевиков». Среди них действовал тогда провокатор Черномазов, не разоблаченный еще редактор прежней «Правды». Лозунг большевиков был провозглашен в манифесте, напечатанном уже на другой день после начала революции, в № 1 «Известий Петроградского Совета рабочих депутатов». «Немедленная и неотложная задача временного революционного правительства, — говорилось тут, — войти в сношение с пролетариатом воюющих стран для революционной борьбы народов всех стран против своих угнетателей и поработителей, против царских правительств и капиталистических клик и немедленного прекращения кровавой человеческой бойни, которая навязана порабощенным народам». Это точная формула Циммервальда, не имеющая, очевидно, ничего общего с той платформой «демократической республики», при помощи которой И. Г. Церетели хотел объединить «буржуазию» с «пролетариатом». Но источник этой идеологии и все ее последствия, развернувшиеся в дальнейшем, очевидно, были неясны для официального лидера «революционной демократии». И он добросовестно сделал себя и руководимое им большинство Совета той ступенькой, по которой большевики пробрались к влиянию и к власти, совершив предварительно все то дело разрушения, которое, по их теории, должно было предшествовать их полному торжеству.
Уже на второй день революции под влиянием большевиков в заголовке советского органа «Известий» было прибавлено к слову «рабочих» также и слово «солдатских» депутатов. В то же время появилась прокламация к солдатам, подписанная, между прочим, и партией социал-революционеров, хотя через день конференция социал-революционеров резко осудила эту прокламацию как «крайне неудачно составленную, вселяющую в народные массы взаимное недоверие и рознь, к тому же изданную без ведома правомочных партийных учреждений». Прокламация была «проникнута озлоблением против офицеров, огульно без исключения». Вслед за социал-революционерами эту прокламацию осудил и Чхеидзе как «провокационный листок, натравливающий солдат на офицеров и подписанный именем социал-демократической организации». Наконец, как-то со стороны и врасплох Временному комитету Государственной думы поздно вечером 1 марта был подсунут и текст знаменитого приказа № 1. «Неизвестный» полковнику Энгельгардту член Совета рабочих и солдатских депутатов в военной форме «предложил ему написать приказ об отношении солдат и офицеров». На отказ Энгельгардта он ответил: «Тем лучше, напишем сами». Действительно, содержание приказа № 1 было предложено тогда же, 1 марта, Совету рабочих депутатов «товарищем Максимом» (известный сотрудник «Дня» С. А. Кливанский) в следующих четырех пунктах: «1) предложить солдатам не выдавать оружия никому; 2) немедленно избрать представителей в Совет; 3) предложить товарищам солдатам подчиняться при своих политических выступлениях только Совету рабочих и солдатских депутатов; 4) подчиняясь на фронте офицерам, вместе с тем считать их вне фронта равноправными гражданами». Приказ № 1 к этому прибавил лишь приглашение немедленно выбрать везде «комитеты» и доводить до их сведения обо «всех недоразумениях между офицерами и солдатами», отменить отдание чести и титулование; фактически это привело вопреки разъяснению Исполнительного Комитета Совета от 5 марта к повсеместному выбору офицеров Советами. Нужно прибавить, что 4 марта было решено расклеить по улицам заявление Керенского и Чхеидзе, что приказ № 1 «не исходит от Совета рабочих депутатов», а 7 марта центральный комитет партии народной свободы постановил «довести до сведения Совета, что, обсудив полученные им сведения о чрезвычайной смуте и ряде бедственных происшествий в армии и во флоте, произведенных приказом № 1, изданным Советом рабочих и солдатских депутатов, комитет признал своим гражданским долгом обратиться к Совету с заявлением о необходимости полной и ясной отмены этого приказа во имя сохранения нашей боевой силы, без чего немыслимо успешное доведение войны до конца». Однако ни заявление Керенского и Чхеидзе не появилось в «Известиях», ни полной и ясной отмены приказа не состоялось, несмотря на воззвание Скобелева и Гучкова о пагубности розни между офицерами и солдатами и о том, что приказы № 1 и 2 относятся только к войскам Петроградского гарнизона[2].
Меры большевиков и агентов к разложению армии. Воздействие их через Совет и «контактную комиссию» на правительство. Какую роль играло в этом плане разложение армии, видно из сообщения Верховного Главнокомандующего генерала Алексеева (1 апреля): «Ряд перебежчиков показывает, что германцы и австрийцы надеются, что различные организации внутри России, мешающие в настоящее время работе Временного правительства, внесут анархию в страну и деморализуют русскую армию». Из напечатанных в начале 1918 г. документов известно, что уже с самого начала войны воздействие на русскую армию было прямо организовано нашими противниками при содействии русских эмигрантов-«пораженцев».
Органом пропаганды большевиков явилась «Правда», рассылавшаяся так же, как «Окопная правда», сразу в громадном количестве экземпляров. О характере пропаганды «Правды» дадут понятие следующие цитаты из первых же ее номеров: «Буржуазные партии уже теперь стремятся ввести революцию в умеренное русло — организуют офицеров, призывают солдат к подчинению» (№ 1); «“Петербургский комитет” постановил предложить Совету рабочих и солдатских депутатов принять меры “к свободному доступу на фронт и в ближайший его тыл для преобразования фронта” “наших партийных агитаторов’, которые должны были обращаться “с призывом к братанию на фронте”» (№ 3); Бюро ЦК предписывало тогда же, в начале марта, «широкое и систематическое братанье солдат воюющих народов в траншеях» (№ 5). Первыми опорными точками и базами для всей дальнейшей деятельности большевиков явились более доступные к воздействию из-за границы места: Гельсингфорс и Кронштадт. Там произошли и первые открытые выступления вооруженной силы против Временного правительства.
Однако большевистская пропаганда далеко не сразу проникла на фронт. Первый месяц или полтора после революции армия оставалась здоровой. Не пропуская явных агитаторов, командный состав добросовестно старался пойти навстречу требованиям нового строя и установить нормальные отношения между офицерами и солдатами. 13 марта в Петрограде состоялось первое заседание членов комитета объединенных офицерских депутатов с Исполнительным Комитетом Совета рабочих и солдатских депутатов, принявшее при общем энтузиазме, поцелуях и слезах следующую резолюцию: «Выслушав объяснение Исполнительного Комитета Совета офицерских депутатов гарнизона Петрограда и окрестностей и Балтийского флота, объединяющего около 20 000 офицеров, собрание заявляет об установлении прочного братского единения между офицерами и солдатами, к чему призывает всю русскую армию. В основу этого единения собрание призывает положить взаимное уважение в каждом солдате и каждом офицере чувства чести и человеческого достоинства и общее стремление стоять на страже свободы». На фронте с энтузиазмом встречались члены Государственной думы, посланные туда для объяснения войскам начал совершившегося переворота. Депутации, в бесчисленном количестве приходившие с фронта и направлявшиеся сперва в Таврический дворец, а потом после перехода Временного правительства в Мариинский, неизменно выражали доверие Временному правительству и готовность поддержать его против всяких попыток восстановления старого строя. Скоро к этим темам присоединилась новая: опасение «двоевластия» и борьбы между правительством и Советом рабочих депутатов. Депутации зачастую убеждали Совет не мешать правительству в его работе по подготовке Учредительного собрания и предлагали правительству свою поддержку против всех попыток влиять на него извне. Высказывалась и готовность вести войну до победного конца. Но очень скоро к этому стали присоединяться заявления об усталости армии. Энтузиазм, вызванный в войсках введением нового строя, выражался многочисленными пожертвованиями георгиевских крестов и других ценных вещей.
Не получив сразу непосредственного доступа в армию, большевики пытались влиять на армию через Совет рабочих и солдатских депутатов, который в свою очередь пытался воздействовать на правительство через свою «контактную комиссию». Уже 12 марта солдатская секция Совета по поводу опубликования текста присяги постановила: «К опубликованной присяге не приводить, а где это произошло, считать присягу недействительной». Контактная комиссия требовала внесения в текст присяги слов о противодействиях контрреволюционным попыткам, но ввиду неопределенности этого термина и неизбежности самочинных действий солдат при самостоятельном его толковании правительство не согласилось изменить текст присяги. В заседании Совета 14 марта Нахамкес сделал бесцеремонное заявление, совершенно не соответствовавшее действительности: «Бывшая царская Ставка в Могилеве сейчас сделана контрреволюционным центром. Мятежники-генералы, не желающие подчиниться воле русского народа, реакционные генералы... ведут открытую контрагитацию среди солдат... Мы потребовали от Временного правительства, чтобы оно заранее объявило вне закона тех мятежных генералов, которые дерзают святотатственно поднять свою жалкую руку... Не только всякий офицер, всякий солдат не должны ему повиноваться, но всякий офицер, всякий солдат, всякий гражданин имеют право и обязанность убить его раньше, чем он поднимет свою руку» и т. д.
Конечно, подобных требований правительство не удовлетворяло, да они не представлялись в такой форме, но тот же Нахамкес в каждом заседании «контактной комиссии» систематически выкладывал целый ряд жалоб из армии на неподготовленность командного состава к усвоению начал нового строя и к установлению основанных на нем отношений к солдатам. Отсутствие А. И. Гучкова на большей части этих заседаний приводило делегатов Совета в большое раздражение. Намеченные военным министром — и вскоре осуществленные — перемены в командном составе, конечно, основывались не на этих соображениях, а главным образом на необходимости омолодить этот состав и улучшить его в военном отношении. Но созданная А. И. Гучковым комиссия под председательством бывшего военного министра А. А. Поливанова должна была войти в обсуждение целого ряда других предложений, вносившихся Советом и его солдатской секцией с целью «демократизации армии». В этом числе была и знаменитая «декларация прав солдата», появившаяся в печати уже 14 марта как «постановление Совета солдатских депутатов». 22 марта в печати появился другой проект о «комитетах», также понятый солдатской массой как окончательный закон. Комиссия Поливанова санкционировала эти проекты уже тем, что приняла их к рассмотрению. В конце апреля «декларация прав солдата» прошла почти в неизменном виде. Но содержание ее было введено в жизнь еще ранее, фактически. Высшее командование считало, что опубликование «декларации прав» будет сигналом к полному разложению армии. Но разложение это в течение апреля и без того пошло далеко вперед. В конце апреля (27-го), в торжественном заседании четырех Дум, это должен был признать сам военный министр Гучков. «Казалось, что наша военная мощь возродится.., что вспыхнет священный энтузиазм, что закалится, как стальная пружина, воля к победе, — говорил он. — Казалось, эта новая, свободная армия затмит своими подвигами старую, подневольную... Мы должны честно признать, что этого нет. Она переживает тот же недуг, что и страна: двоевластие, многовластие, безвластие... Не опоздали ли мы с нашими врачебными советами и методами лечения? Я думаю, нет. Не опоздаем ли, если хотя несколько промедлим? Я думаю, да. Тот гибельный лозунг, который внесли к нам какие-то люди, зная, что творят, а может быть, и не зная, что творят, — этот лозунг “мир на фронте и война в стране’, эта проповедь международного мира во что бы то ни стало и гражданской войны во что бы то ни стало, этот лозунг должен быть заглушен властным окриком великого русского народа: “Война на фронте и мир внутри”. Господа, вся страна когда-то признала: отечество в опасности. Мы сделали еще шаг вперед: отечество на краю гибели».
Большевики организуют кампанию против «империалистов» за Циммервальд. Обращение Совета «к народам всего мира» и заявление правительства (28 марта) о целях войны. Если одной своей стороной циммервальдская формула обращала свое требование к военному министру, то другой — и наиболее существенной — она обращалась к министру иностранных дел. Открывая 3 марта заседание Совета рабочих и солдатских депутатов, Н. С. Чхеидзе резко подчеркнул международный характер русской революции. «Да здравствует всемирный пролетариат. Уже поднято знамя международного пролетариата». 14 марта эта мысль была развита в воззвании «к народам всего мира», принятом Советом рабочих и солдатских депутатов. Содержание воззвания довольно робко намечает очертания будущей циммервальдской тактики. «Российская демократия» возвещает «народам всего мира» о своем «вступлении в их семью полноправным членом» и «заявляет, что наступила пора начать решительную борьбу с захватническими стремлениями правительств всех стран, наступила пора народам взять в свои руки решение вопроса о войне и мире». Но сразу же затем воззвание специально обращается к австро-германцам, убеждая германскую социал-демократию, что теперь ей уже не приходится «защищать культуру Европы от азиатского деспотизма» и что «русская демократия будет стойко защищать нашу собственную свободу от всяких реакционных посягательств как изнутри, так и извне; русская революция не отступит перед штыками завоевателей и не позволит раздавить себя внешней военной силой». Воззвание призывает уже специально демократию срединных империй, отделяя ее от союзной: «Сбросьте с себя иго вашего самодержавного порядка, подобно тому как русский народ стряхнул с себя царское самовластие; откажитесь служить орудием захвата и насилия в руках королей, помещиков и банкиров, и дружными усилиями мы прекратим страшную бойню, позорящую человечество и омрачающую великие дни рождения русской свободы». Председатель Чхеидзе еще более подчеркнул эти оговорки воззвания: «Обращаясь к немцам, мы не выпускаем из рук винтовки. И, прежде чем говорить о мире, мы предлагаем немцам свергнуть Вильгельма, ввергшего народ в войну, точно так же, как мы свергли свое самодержавие. Если немцы не обратят на наш призыв внимания, то мы будем бороться за нашу свободу до последней капли крови. Предложение мы делаем с оружием в руках, и центр воззвания вовсе не в том, что мы устали и просим мира. Лозунг воззвания: долой Вильгельма». Все это, конечно, очень далеко от тем агитации, внесенных извне.
Тотчас после издания обращения «к народам всего мира» руководители Совета рабочих и солдатских депутатов обратили особое внимание на внешнюю политику. Министр иностранных дел вел эту политику в духе традиционной связи с союзниками, не допуская мысли о том, что революция может ослабить международное значение России резкой переменой ориентации и изменением взгляда на заключенные соглашения и принятые обязательства. Во всех своих выступлениях он решительно подчеркивал пацифистские цели освободительной войны, но всегда приводил их в тесной связи с национальными задачами и интересами России. Руководители социалистических партий Совета справедливо считали эту политику полным противоречием основной идее Циммервальда об общей виновности всех правительств в войне, о борьбе рабочих классов всех стран против всех «буржуазных» правительств и о всемирной революции, которая по почину России введет повсеместно социалистический строй. Через «контактную комиссию» эти руководители, в особенности Церетели, требовали от правительства немедленного публичного заявления о целях войны в соответствии с формулой: «Мир без аннексий и контрибуций». Тщетно П. Н. Милюков убеждал их, что сама основа их расчета — возможность сговориться с социалистами всех стран на почве циммервальдской формулы — не существует, ибо подавляющее большинство социалистов обеих воюющих сторон стали на национальную точку зрения и не сойдут с нее. Отчасти незнакомство с европейскими отношениями, отчасти вера в творческую силу русской революции, отчасти, наконец, и прямая зависимость от большевистской идеологии не позволяли социалистам согласиться с П. Н. Милюковым в этом коренном вопросе интернационального миросозерцания. Но не поддержали его и его товарищи-несоциалисты. В частности, у кн. Г. Е. Львова интернационалистическая концепция совпадала с идеалистическими славянофильскими чаяниями. В своей речи 27 апреля он говорил: «Великая русская революция поистине чудесна в своем величавом, спокойном шествии... Чудесна в ней... сама сущность ее руководящей идеи. Свобода русской революции проникнута элементами мирового, вселенского характера. Идея, взращенная из мелких семян свободы и равноправия, брошенных на черноземную почву полвека тому назад, охватила не только интересы русского народа, а интересы всех народов всего мира. Душа русского народа оказалась мировой демократической душой по самой своей природе. Она готова не только слиться с демократией всего мира, но стать впереди ее и вести ее по пути развития человечества на великих началах свободы, равенства и братства». Естественно, что Церетели в своей ответной речи на том же торжестве четырех Дум отметил свое согласие с кн. Львовым, истолковав его слова по-своему и противопоставив их «старым формулам» царского и союзнического «империализма». «Я с величайшим удовольствием, — говорил он, — слушал речь председателя Временного правительства кн. Львова, который иначе формулирует задачи русской революции и задачи внешней политики. Кн. Г. Е. Львов сказал, что он смотрит на русскую революцию не только как на национальную революцию, что в отблеске этой революции уже во всем мир сложно ожидать такого же встречного революционного движения. Я приветствую эти слова председателя Временного правительства и вижу в них настроение той части буржуазии, которая пошла на общую демократическую платформу, и я глубоко убежден, что, пока правительство стоит на этом пути, пока оно формулирует цели войны в соответствии с чаяниями всего русского народа, до тех пор положение Временного правительства прочно».
Этими самыми аргументами И. Г. Церетели убеждал месяцем раньше Временное правительство стать на его точку зрения. П. Н. Милюков, уступая большинству, согласился на опубликование заявления о целях войны, но не в виде дипломатической ноты, а в виде воззвания к гражданам и притом в таких выражениях, которые не исключали возможности его прежнего понимания задач внешней политики и не требовали от него никаких перемен в курсе этой политики. «Заявление Временного правительства о целях войны» было действительно опубликовано 28 марта и вставлено в обращение к гражданам с указанием, что «государство в опасности» и что «нужно напрячь все силы для его спасения». Такая форма была придана документу А. Ф. Керенским.
Основное место выражено следующим образом: «Предоставляя воле народа (то есть Учредительному собранию) в тесном единении с союзниками окончательно разрешить все вопросы, связанные с мировой войной и ее окончанием, Временное правительство считает своим правом и долгом ныне же заявить, что цель свободной России — не господство над другими народами, не отнятие у них их национального достояния, не насильственный захват чужих территорий, но утверждение прочного мира на основе самоопределения народов. Русский народ не добивается усиления своей внешней мощи за счет других народов, как не ставит своей целью ничьего порабощения и унижения. Во имя высших начал справедливости им сняты оковы, лежавшие на польском народе, и русский народ не допустит, чтобы его родина вышла из великой борьбы униженной, подорванной в своих жизненных силах. Эти начала будут положены в основу внешней политики Временного правительства, неизменно проводящего народную волю и ограждающего права нашей родины при полном соблюдении обязательств, принятых в отношении наших союзников».
Естественно, что представители Совета в «контактной комиссии» нашли выражения акта, описательно передавшие формулу «без аннексий и контрибуций», двусмысленными и уклончивыми, а подчеркнутые выражения, говорившие о «правах родины», которые должны быть «ограждены», и о «жизненных силах» ее, которые при окончании борьбы не должны быть «подорваны» (эти выражения были вставлены Ф. Ф. Кокошкиным), неприемлемыми и грозили завтра же начать кампанию против Временного правительства в газетах. Тогда Н. В. Некрасов указал им, что для них же выгоднее истолковать уклончивые выражения акта в своем смысле, как уступку правительства, и на этом основании поддержать «Заявление». Эта тактика и была принята социалистической печатью. П. Н. Милюков заранее выговорил себе право в случае, если заключенный компромисс будет толковаться односторонне, толковать его в своем смысле и раскрывать неопределенные выражения в направлении прежней своей политики, согласной с политикой союзников и с национальными интересами России.
Влияние русских эмигрантов и союзных социалистов на «демократизацию» внешней политики. Таким образом, первая победа над министерством иностранных дел оказалась неполной и мнимой. Естественно, что защитники интернациональной точки зрения на этом не успокоились и продолжали борьбу. В апреле они получили для этой борьбы новых союзников: русских эмигрантов-циммервальдцев, возвращавшихся из-за границы в сопровождении их швейцарских и скандинавских единомышленников и представителей союзного социализма, английского и французского, сперва неофициальных, а затем и официальных, пошедших на уступки Совету дальше, чем допускали общесоюзные и их собственные национальные интересы.
31 марта в Стокгольм приехали 30 русских эмигрантов, пропущенных через Германию в запломбированном вагоне в сопровождении трех германских офицеров и швейцарского социалиста-циммервальдца Платтена. В своем заявлении, напечатанном в «Politiken», эти эмигранты сами сообщили следующее: «Английское правительство не пропускает в Россию русских революционеров, поскольку они против войны. Когда это выяснилось, то часть русских товарищей в Швейцарии (надо прибавить: при решительном протесте других) решились приехать в Россию через Германию на Швецию. Фриц Платтен, секретарь швейцарской социал-демократии и вождь ее левого крыла, известный интернационалист-антимилитарист, вступил в переговоры с германским правительством. Русские товарищи требовали предоставления им при проезде права экстерриториальности, именно никакого контроля паспортов и багажа, а также, чтобы ни один человек не имел права входить в вагон; ехать же мог бы всякий, невзирая на политические взгляды, кого только русские возьмут. Со своей стороны русские товарищи заявили, что будут требовать освобождения германских и австро-венгерских гражданских лиц, задержанных в России. Германское правительство приняло эти условия, и 9 апреля (н. ст.) 30 русских эмигрантов выехали через Германдинген из Швейцарии; среди них находились Ленин и Зиновьев, редакторы “Социал-демократа”, центрального органа русской социал-демократии». В Стокгольме Ленин совещался с представителями крайних течений шведской социал-демократии. В то же время в Копенгаген выехали вожди австрийских социалистов Адлер, Реннер и Зейц, совещавшиеся раньше с гр. Черниным, в сопровождении Шейдемана, примкнувшего к ним в Берлине. Перед отъездом группа Ленина приняла резолюцию, в которой рекомендовала сейчас же войти в переговоры о мире, невзирая на общее положение. Ленин произнес в Цюрихе речь, в которой Керенский изображался опасным предателем революции, а Чхеидзе — как тоже вступивший на путь предательства. В «Deutsche Tageszeitung» граф Ревентлов приветствовал это движение как «новую русскую революцию». Последствия показали, что германский националист был прав и что расчет наших врагов, пославших Ленина в Россию, был совершенно правилен. Но даже и они не могли рассчитывать, насколько благоприятно сложатся в России обстоятельства для успеха пропаганды, которую в самой Германии германцы считали для себя чрезвычайно опасной.
Первая встреча Ленина с его единомышленниками в России показала, однако, как значительна разница между тенденциями чистого Циммер-вальда и сложившимися взглядами русских социал-демократов. 4 апреля состоялась конференция разных течений социал-демократов с целью объединения. Ленин обратился к собравшимся с двухчасовой речью, в которой развил все свои лозунги, закончив призывом сбросить «старое белье», название «социал-демократов» и «вместо прогнившей социал-демократии создать новую социалистическую организацию коммунистов». Предложение было встречено общим недоумением, и начавшаяся среди аплодисментов одной стороны и свистков другой стороны речь закончилась при гробовом молчании. Даже большевики заявили, что выдвинутый Лениным лозунг гражданской войны они считают преступным. Стеклов объяснил речь Ленина незнакомством с положением дел в России. Только А. М. Коллонтай, защищая Ленина, при бурных протестах предложила отказаться от объединения социал-демократов и объединить лишь тех, кто способен в настоящую минуту совершить социальную революцию. Остальные ораторы стояли за объединение, а один из них даже утверждал, что речь Ленина объединила большевиков с меньшевиками[3]. Социалистическая печать отнеслась к выступлению Ленина отрицательно. «Рабочая газета» прямо говорила, что «всякий значительный успех Ленина будет успехом реакции», что Ленин несет с собой серьезную опасность для революции, ибо «среди несознательных элементов революционной стихии он сможет еще вербовать себе новых сторонников». Даже «Правда» была в первые дни сконфужена заявлениями Ленина. Печатая фельетоны Ленина и принимая в передовой статье его требования о переходе власти к Советам рабочих и солдатских депутатов, «Правда» 8 апреля заявляла: общая схема г. Ленина «представляется нам неприемлемой, поскольку она исходит от признания буржуазно-демократической революции законченной и рассчитана на немедленное перерождение этой революции в революцию социалистическую».
Новые требования от министра иностранных дел. Заявление Керенского. Однако по главному вопросу — о войне и мире — принципиального разногласия не было не только между Лениным и «Правдой», но и между большевиками и более умеренными течениями социализма. Приезд Ленина лишь заметно усилил тон и настойчивость их требований от русской внешней политики. Еще 25 марта была напечатана резолюция «Организационного комитета» социал-демократической партии, в которой открыто провозглашен лозунг, сформулированный Робертом Гриммом: «Самая важная и совершенно неотложная задача русской революции в настоящий момент — борьба за мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов, борьба за мир в международном масштабе». Для этой цели признано необходимым побудить Временное правительство не только «официально и безусловно отказаться от всяких завоевательных планов», что было сделано правительственным заявлением 28 марта, но и «взять на себя инициативу выработки и обнародования такого же коллективного заявления со стороны всех правительств стран согласия», от чего П. Н. Милюков категорически отказался, как и вообще от передачи заявления 28 марта союзникам в качестве дипломатического документа. Между тем, резолюция шла еще дальше и требовала от правительства предпринять необходимые шаги для вступления совместно с союзными правительствами на путь мирных переговоров». Уже от себя, то есть от социал-демократической партии, комитет считал необходимым «обратиться к пролетариату всех воюющих стран с призывом оказать согласованное давление на свои правительства» для тех же целей, невозможность чего доказывал П. Н. Милюков в «контактной комиссии». Далее резолюция объявляла «решительную борьбу со всеми попытками правительства явно или замаскированно продолжать завоевательную политику» и, «вполне сознавая опасность» для русской революции и для международной демократии «военных поражений России», «решительно высказывалась против всех действий, ведущих к дезорганизации дела обороны». Нечего и говорить, что сюда она не относила мер, принимающихся для «демократизации» армии.
29 марта вопрос о войне обсуждался на съезде рабочих и солдатских депутатов. Предложенная съезду резолюция, ссылаясь на воззвание к народам 14 марта и на многочисленные собрания рабочих, солдат и граждан по всей России, «выразивших волю народа», а также на заявление правительства 28 марта как на «важный шаг навстречу осуществлению демократических принципов в области внешней политики», призывала «все народы... оказать давление на свои правительства для отказа от завоевательных программ» и «подтверждала необходимость переговоров Временного правительства с союзниками для выработки общего соглашения в указанном смысле». Конец резолюции обстоятельно развивал мысль об опасности «крушения фронта» и о необходимости «мобилизовать все живые силы страны во всех отраслях народной жизни», в частности рабочих фабрик, рудников, почты, телеграфа и т. д, «для укрепления фронта и тыла». Церетели, мотивируя резолюцию, сообщил: «Мы настаивали, чтобы Временное правительство добилось от всех держав согласия отказа от аннексий и контрибуций. Это пока не достигнуто, но все-таки и то, что достигнуто, есть факел, брошенный в Европу, где он разгорится, мы уверены, ярким огнем... Вместе с нами в этом направлении действует и социал-демократия западных стран, которая теперь находится там еще в меньшинстве, но мы уверены, что идеи социал-демократов восторжествуют и там». Большевик Каменев только развивал эти мысли, когда требовал, «чтобы от имени всего русского народа было сказано слово «мир», чтобы русская революция стала прологом мирового восстания». Другой оратор-большевик в соответствии с этим предложил изменить резолюцию и прямо указать на необходимость скорейшего окончания войны, созыва международного съезда, восстания против угнетателей и принуждения правительств всех воюющих стран к ликвидации войны. Присутствовавшие на съезде солдаты еще говорили о необходимости принести все в жертву для защиты родины, и еще могла быть предложена «кадетская» резолюция о необходимости двоевластия и о необходимости вести войну до конца. Но и речи большевиков уже покрывались шумными аплодисментами.
Усиление агитации в пользу циммервальдской точки зрения скоро сказалось и на отдельных членах правительства. Уже 6 апреля А. Ф. Керенский, пользуясь приемом в Мариинском дворце прибывших в Россию французских социалистов Муте, Кашена и Лафона и английских О’Грэди, Уилла Торна и фабианца Сандерса, резко отделил свою точку зрения от курса министра иностранных дел. П. Н. Милюков говорил о том, что, «несмотря на переворот, мы сохранили главную цель и смысл этой войны. Правительство с еще большей силой будет добиваться уничтожения немецкого милитаризма, ибо наш идеал — в том, чтобы уничтожить в будущем возможность каких бы то ни было войн». Этому пацифистскому взгляду Керенский противопоставил свой циммервальдский. «Я один в кабинете, — говорил он, подчеркивая принятую на себя роль «заложника», — и мое мнение не всегда совпадает с мнением большинства... Русская демократия в настоящее время — хозяин русской земли. Мы решили раз навсегда прекратить в нашей стране все попытки к империализму и к захвату... Энтузиазм, которым охвачена русская демократия, проистекает не из каких-либо идей частичных, даже не из идеи отечества, как понимала эту идею старая Европа, а из тех идей, которые заставляют нас думать, что мечта о братстве народов всего мира скоро претворится в действительность, что близок уже миг, когда все демократии всего мира поймут, что между ними нет и не может быть вражды... Мы ждем от вас, чтобы вы оказали на остальные классы населения в своих государствах такое же решающее значение, которое мы здесь внутри России оказали на наши буржуазные классы, заявившие ныне о своем отказе от империалистических стремлений».
Агитация среди рабочих. Нота 18 апреля и уличное движение 20-21 апреля против П. Н. Милюкова. Пользуясь и даже злоупотребляя своим особым положением в правительстве, А. Ф. Керенский уже в первом составе правительства зачастую проявлял диктаторские замашки. Но в данном вопросе он был не «один». Его поддерживали Некрасов и Терещенко. Вечно колебавшийся кн. Львов также начинал склоняться на сторону его и Церетели. Чтобы форсировать положение, Керенским было пущено в печать сообщение, что «Временное правительство подготовляет ноту, с которой оно обратится в ближайшие дни к союзным державам. В этой ноте Временное правительство более подробно разовьет свой взгляд на задачи и цели нынешней войны в соответствии с обнародованной уже Временным правительством декларацией по этому вопросу (13 апреля)». Так как никакой ноты не подготовлялось, то П. Н. Милюков потребовал опровержения этого известия, которое и появилось на следующий день, 14 апреля, от имени Временного правительства. Тогда вопрос об обращении к союзникам был поднят в самом правительстве как в сущности предрешенный и весьма спешный. П. Н. Милюков заявил, что он готов отправить послание 28 марта союзникам, но сопроводить его нотой, текст которой он предложил. После небольших исправлений текст этот был принят всеми министрами, не исключая и Керенского, переставшего возражать после того, как на сторону ноты склонился Некрасов. В ноте поводом к сообщению документа 28 марта было выбрано опровержение слухов, будто Россия собирается заключить сепаратный мир. Министр иностранных дел указывал, что «высказанные Временным правительством общие положения вполне соответствуют тем высоким идеям, которые постоянно высказывались многими выдающимися государственными деятелями союзных стран», особенно Америки. Нота указывала, что «эти мысли — об освободительном характере войны, о создании прочных основ для мирного сожительства народов, о самоопределении угнетенных национальностей» могла высказать только освобожденная Россия, способная «говорить языком, понятным для передовых демократий современного человечества». Эти заявления не только не могут дать повода думать об «ослаблении роли России в общей союзной борьбе», но, напротив, усиливают «всенародное стремление довести мировую войну до решительного конца», сосредоточивая общее внимание «на близкой для всех и очередной задаче — отразить врага, вторгшегося в самые пределы нашей родины». Нота подтверждала далее, что, «как то и сказано в документе, Временное правительство, ограждая права нашей родины, будет полностью соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников». В заключение высказывалась уверенность как в «победоносном окончании настоящей войны в полном согласии с союзниками», так и в том, что «поднятые этой войной вопросы будут разрешены в духе создания прочной основы для длительного мира и что проникнутые одинаковыми стремлениями передовые демократии найдут способ добиться тех гарантий и санкций (эти два слова были вставлены по совету французского социалиста Альбера Тома), которые необходимы для предупреждения новых кровавых столкновений в будущем».
Нота была датирована 18 апреля, то есть днем первого открытого празднования международного рабочего праздника Первого мая (н. ст.) в России. Общественные здания, в том числе Мариинский и Зимний дворцы, в этот день украсились гигантскими надписями: «Да здравствует интернационал». Ленинцы энергично готовили к этому празднику свои плакаты и лозунги. «Рабочая газета» призывала солдат заключить «первое революционное перемирие» на фронте. Какие директивы были даны петроградским рабочим в эти дни «Организационным комитетом», видно из сопоставления двух резолюций, принятых 12 апреля рабочими завода «Треугольник» и 13 апреля рабочими завода «Старый Парвиайнен». Первая гласила: «Предлагаем Совету рабочих и солдатских депутатов категорически потребовать от Временного правительства немедленного опубликования во всеуслышание всех договоров, заключенных им с Англией, Францией и прочими союзниками... Рабочий класс России, добившись от своего собственного правительства отказа от завоевательных целей войны, не желает оказаться в положении ведущего войну во имя захватнических стремлений английских и французских капиталистов. Мы требуем также от Временного правительства, чтобы оно тотчас же после опубликования договоров обратилось ко всем союзным правительствам с предложением в свою очередь отказаться от аннексий и контрибуций. Мы требуем от Временного правительства, чтобы оно взяло на себя инициативу созыва международной конференции для обсуждения условий мира и для начала мирных переговоров». Рабочие «Парвиайнена» шли еще далее и прибавляли к требованию опубликования тайных договоров еще следующие требования: «1) смещение Временного правительства, служащего только тормозом революционного дела, и передача власти в руки Совета рабочих и солдатских депутатов; 4) организация Красной гвардии и вооружение всего народа; 5) протест против “Займа Свободы’, который на деле служит закабалением этой свободы; 6) реквизиция типографий всех буржуазных газет и передача их в пользование рабочих газет; 9) реквизиция всех продуктов продовольствия для нужд широких масс; 10) немедленный захват земель крестьянскими комитетами и передача орудий производства в руки рабочих; 11) протест против вывода революционных войск из Петрограда». Правда, на другой день после напечатания этой резолюции (крупным шрифтом, на месте передовых статей) «Известия» заявили, что она, «выражающая мнение одной группы рабочих, не отвечает взглядам Совета». В дальнейшем, как увидим, эта большевистская программа сделалась предметом борьбы в Совете. Но здесь она впервые была высказана открыто.
День первого мая прошел сравнительно спокойно, и ленинская пропаганда встретила решительный отпор со стороны большинства уличных ораторов и публики. Но опубликование через день (20 апреля) ноты 18 апреля дало новый благодарный повод большевикам для первой уличной манифестации вооруженных сил против Временного правительства. К 3-4 часам дня к Мариинскому дворцу пришел запасный батальон Финляндского полка с плакатами: «Долой Милюкова», «Милюков в отставку». За ним прибыли роты 180-го запасного батальона, несколько рот Кексгольмского полка и около роты 2-го флотского Балтийского экипажа. Большинство солдат не знали, зачем они пришли. Закулисная сторона их вызова обнаружилась отчасти из письма Федора Линде («Новая жизнь», 23 апреля), который признал, что именно он вывел Финляндский полк и что, «состоя членом Совета рабочих и солдатских депутатов», он «себя в разбираемом событии лицом неответственным признать не может». Кроме войск, в демонстрации участвовали рабочие-подростки, громко заявлявшие, что им за это заплачено по 10-15 рублей. Позднее был арестован известный своими германскими связями литератор Колышко, в письмах которого в Стокгольме найдены выражения удовольствия по поводу того, что после долгих усилий, наконец, удалось свалить Милюкова и Гучкова. Вернувшиеся в Россию из Берлина сестры милосердия Фелькерзам рассказывали, что задача устранения обоих министров прямо была поставлена в Германии. Все это показывает, что движение 20 и 21 апреля было инсценировано из тех же темных источников, как и другие ранее упоминавшиеся уличные движения.
Победа правительства. Власть Совета над гарнизоном и отставка генерала Корнилова. Руководителей Совета рабочих и солдатских депутатов винить в этом движении нельзя уже потому, что для них лозунг свержения Временного правительства был неприемлем и занимать место правительства они не собирались, предпочитая оказывать на него «давление». Исполнительный Комитет Совета, узнав ночью с 19-го на 20-е содержание ноты, оказался в чрезвычайно затруднительном положении между большевиками и нотой 18 апреля. Ни на ночном, ни на утреннем заседании он не принял никакого решения, кроме предложения Временному правительству сообща обсудить положение. Временное правительство пошло навстречу этому предложению, и вечером состоялось, впервые за все время революции, совещание с правительством всего состава Исполнительного Комитета (около 70 человек). Министры решили воспользоваться этой первой встречей, чтобы дать понять руководителям Совета всю трудность и сложность положения в государстве. Один за другим выступали с докладами министры военный, земледелия, финансов, путей сообщения, наконец, иностранных дел и осветили перед очень разнородным собранием положение всех сторон государственной жизни. Доклады произвели сильное впечатление, и готовность пойти на соглашение еще усилилась в результате заседания. После отказа министра иностранных дел от издания новой ноты И. Г. Церетели согласился на опубликование официального разъяснения только двух мест, вызывавших особенно ожесточенные нападки. На другой день к 5 часам дня текст разъяснений был обсужден в правительстве, предварительно показан Церетели и им одобрен. 22 апреля Временное правительство разъяснило, что «нота министра иностранных дел была предметом тщательного обсуждения Временного правительства, причем текст ее принят единогласно» (впоследствии А. Ф. Керенский пытался отрицать это). Выражение о «решительной победе над врагами имеет в виду достижение тех задач, которые поставлены декларацией 27 марта», а «под упоминавшимися в ноте «санкциями и гарантиями» прочного мира Временное правительство подразумевало ограничение вооружений, международные трибуналы и проч.». Это разъяснение министр иностранных дел обещал передать послам союзных держав. Очевидное несоответствие этих скромных разъяснений с тем раздражением, которое было вызвано действительным противоречием между нотой 18 апреля и циммервальдской точкой зрения Совета, лучше всего характеризует шаткость позиции вождей Совета. Эта шаткость вполне сказалась уже на заседании Совета 20 апреля, в котором ряд ораторов заявил, что «брать власть в свои руки преждевременно и опасно», что захват власти может привести к гражданской войне, в которой, по словам В. М. Чернова, «темные силы покажут свою живучесть». «Кто заменит правительство? — спрашивал один оратор. — Мы? Но у нас руки дрожат. Нет, товарищи, не надо нам строить карточных домиков, которые сдунуть будет еще легче, чем народ сдунул Николая II. Не надо нам азартной игры в карты».
То же самое настроение обнаружилось и среди толпы, наполнявшей улицы и проведшей эти два дня в непрерывных митингах днем и ночью. Прикосновение к Временному правительству еще казалось святотатством и преступлением против революции. Твердо держалось представление, что это самое правительство должно довести страну до Учредительного собрания и что ни один из его членов не может его покинуть, не разрушив целого. Возгласы ленинцев о низвержении правительства и о немедленном захвате власти вызывали лишь негодование и тонули в массе. На смену демонстрантам с плакатами: «Долой Временное правительство» появились многолюдные процессии с плакатами: «Доверие Милюкову», «Да здравствует Временное правительство». Местами доходило до столкновения тех и других демонстрантов, но в общем уже к вечеру 20, а в особенности в течение 21 апреля настроение, благоприятное правительству, на улицах возобладало. В ночь на 21-е многотысячная толпа, заполнившая площадь перед Мариинским дворцом, горячо приветствовала министра иностранных дел, предупреждавшего ее об опасностях ссоры с союзниками. «Видя эти плакаты с надписями: “Долой Милюкова’, — говорил министр с балкона толпе, собравшейся на площади, — я не боялся за Милюкова. Я боялся за Россию». И он указал на опасность для родины и для самой революции демагогических лозунгов, дискредитирующих власть, но не могущих заменить ее никакой другой, более сильной и более способной довести страну без потрясений до мира и до создания нового демократического строя.
В рабочих кварталах столицы преобладало иное настроение, чем в центре. Большевики сделали 21 апреля первую попытку воспользоваться этим настроением, ими же созданным, для того чтобы начать организованную и вооруженную борьбу на улицах. Толпы рабочих стройными колоннами двинулись с Выборгской стороны к Марсову полю. Впереди каждой колонны шел отряд красногвардейцев, вооруженных винтовками и револьверами. Над колоннами развевались знамена с надписями: «Долой войну», «Долой Временное правительство», «Вся власть Советам» и т. п. Комитет послал навстречу рабочим делегацию в составе Чхеидзе, Войтинского и Станкевича. Чхеидзе пробовал убедить толпу, что правительство уже согласилось разъяснить ноту 18 апреля в желательном смысле и что поэтому дальнейшие демонстрации бесцельны. Большевистское движение имело, однако, другую цель, указанную на знаменах. Вожди толпы выступили вперед, заявив Чхеидзе, что рабочие сами знают, что им делать, и повели толпу дальше.
Настроение комитета было чрезвычайно тревожное. На вечер было назначено заседание пленума Совета, но члены комитета боялись, что это заседание будет сорвано большевиками. Когда оно все-таки собралось, среди шума многотысячной толпы, наполнившей зал кадетского корпуса, возбуждение еще усилилось после сообщения Дана, что на улицах началась стрельба и уже имеются жертвы. В такой обстановке и при таком настроении комитету приходилось проводить свои решения.
Исполнительный Комитет Совета решил 34 голосами против 19 признать разъяснения правительства удовлетворительными и считать инцидент исчерпанным. Предложенная комитетом резолюция заявляла, что разъяснение «кладет конец возможности истолкования ноты 18 апреля в духе, противном интересам и требованиям революционной демократии», и тот факт, что сделан первый шаг для постановки на международное обсуждение вопроса об отказе от насильственных захватов, должен быть признан крупным завоеванием демократии». В заключение резолюция приглашала «всю революционную Россию теснее и теснее сплачиваться вокруг своих Советов» и выражала «твердую уверенность, что народы всех воюющих стран сломят сопротивление своих правительств и заставят их вступить в переговоры о мире на почве отказа от аннексий и контрибуций». Несмотря на возражение большевиков, Совет принял резолюцию подавляющим большинством голосов против 13. Настроение собрания против ленинцев ярко обнаружилось, когда один член комитета, только что прибывший, рассказал о трагическом зрелище первой крови, пролитой в гражданской войне на Невском. «На толпу мирных, безоружных солдат, рабочих и других граждан, — говорил очевидец, — бросилась другая толпа вооруженных демонстрантов, и эти вооруженные люди открыли беспорядочную стрельбу, продолжавшуюся около 5 минут. Я знаю, кто они, из каких мест пришли, но пока считаю преждевременным об этом сообщать... Эта стрельба посеяла чувство неприязни к рабочим, и это чувство разделяют с гражданами и солдаты, так как два солдата убиты». Другой очевидец предложил запретить всякие уличные шествия, «особенно вооруженных людей», и это предложение было принято. Невооруженными выходили члены «буржуазных» партий, и этим запрещением достигалась, кстати, и другая цель: прекратить демонстрации сочувствия Временному правительству, совершенно заглушившие в течение 21 апреля враждебные манифестации.
Конфликт 20-21 апреля окончился несомненной моральной победой Временного правительства. Но в нем обнаружилась одна чрезвычайно тревожная сторона. Части Петроградского гарнизона выступали и оставались в казармах по распоряжению Совета, и Совет заявил претензию распоряжаться войсками помимо правительства. Точнее, он запретил гарнизону исполнять приказания военной власти без своего согласия. Когда 21 апреля, узнав о движении с окраин вооруженных рабочих (следствием чего и была упомянутая стрельба), главнокомандующий Петроградским округом ген. Корнилов распорядился вызвать на Дворцовую площадь несколько частей гарнизона, он наткнулся на сопротивление Исполнительного Комитета, который по телефону сообщил в штаб, что вызов войск может осложнить создавшееся положение. После переговоров с делегатами комитета, принявшими на себя прекращение беспорядков, главнокомандующий отменил свое приказание и продиктовал в присутствии членов комитета телефонограмму во все части войск гарнизона с приказанием оставаться в казармах. После этого появилось расклеенное на улицах воззвание Исполнительного Комитета, заявлявшее: «Товарищи солдаты, без зова Исполнительного Комитета в эти тревожные дни не выходите с оружием в руках. Только Исполнительному Комитету принадлежит право располагать вами. Каждое распоряжение о выходе воинской части на улицу (кроме обычных нарядов) должно быть отдано на бланке Исполнительного Комитета, закреплено его печатью и подписано не меньше чем двумя из следующих лиц: Чхеидзе, Скобелев, Бинасик, Соколов, Гольдман, Филипповский, Богданов. Каждое распоряжение проверяется по телефону 104-06». Это воззвание вызвало просьбу ген. Корнилова об отставке и не могло быть оставлено правительством без ответа. Но ответом было только новое «разъяснение» Временного правительства (26 апреля): «власть главнокомандующего войсками Петроградского военного округа остается в полной силе, и право распоряжения войсками может быть осуществляемо только им». Чтобы не входить в открытый конфликт с Советом, правительство предположило, что приведенное распоряжение «имело, по-видимому, целью предупредить и обезвредить попытки вызова войск отдельными группами и лицами». Через несколько дней ген. Корнилов получил просимую отставку и отправился в действующую армию.
«Двоевластие» или «единение»? Официальный оптимизм и фактическая зависимость правительства от Совета. Вопрос об участии Совета в правительстве. До сих пор Совет рабочих и солдатских депутатов хотя бы номинально признавал над собой власть Временного правительства. Его «контроль» и «давление» на правительство были фактическими, но не обоснованными на праве; на «ответственность» министров перед собой Совет не претендовал. Со своей стороны и правительство официально смотрело на отношения Совета к себе как на «поддержку» влиятельной, но все же частной организации. Когда в провинцию и в армию стали доходить из Петрограда вести о «двоевластии» правительства и Совета и когда к правительству стали поступать тревожные вопросы и предложения помочь ему в борьбе против претензий Совета, министры обыкновенно успокаивали встревоженных уверениями, что отношения между правительством и Советом — вполне дружественные. Особенно настойчиво заявлял это Некрасов, подчеркивавший в своих выступлениях свою особую близость к Керенскому. Так, в Москве, в комитете общественных организаций, 24 марта он выступил с «протестом против тех легенд, которые распространяются также и в Москве. Говорят о каком-то пленении Временного правительства, о том, что оно идет у кого-то на поводу, что в стране существует несколько правительств и т. д. Я должен сказать, что правительство ни минуты не задумывается, когда какие-либо вопросы сталкиваются с волей народа. В тех случаях, когда бывали иногда некоторые разногласия, у нас соглашение достигалось довольно быстро, путем взаимного убеждения... И Временное правительство, и Совет рабочих депутатов свято блюдут свою связь и единение, закрепленные уже в двух декларациях». «Не верьте зловещим слухам, что от Совета рабочих депутатов идет какая-то опасность, — говорил он тогда же сослуживцам по Министерству путей сообщения. — Такой опасности нет. Я бы сказал, что она еще не наступала; но ее во всяком случае не следует бояться. Волна, смывшая старую власть, еще не вошла в свои берега. Народ еще не организован. Но, по мере того как наступают организованность и сплоченность, опасность ослабевает. Народ уже проявил огромный государственный инстинкт, я думаю, что то же будет и в области социальной». И А. Ф. Керенский еще 12 апреля заявлял делегатам 7-й армии: «Между Временным правительством и Советом рабочих и солдатских депутатов полное единение в задачах и целях... Временное правительство обладает всей полнотой власти... Может быть, вас смущает шумная агитация, известные слова... Нас, Временное Правительство, они не смущают. Мы верим в разум, в твердую волю народа — идти к спасению, а не к гибели, ибо никто не может желать своей гибели. Мы верим, что восторжествуют созидательные начала, а не отдельные партийные лозунги» и т. д. И с другой стороны, г. Дан говорил 8 апреля: «Мы хотим, чтобы было сказано ясно и определенно, что в обычном нормальном течении своем это клевета, будто Совет рабочих и солдатских депутатов хочет принять участие в осуществлении государственной власти. Мы хотели, чтобы было сказано, что власть — это Временное правительство, а революционная демократия в лице Совета осуществляет свое влияние на ход политической жизни путем непрерывного организованного давления на него и контроля над ним». Говорилось одно, но делалось совсем другое. Истинное отношение Совета к правительству гораздо искреннее охарактеризовано несколько позднее (2 июня) соредактором Дана, Войтинским. «Мы поддерживали, — говорит он, — правительство первого состава условно — постольку поскольку. У нас не было полного доверия, и фактически получалось так, что единой власти не было»... После 20-21 апреля это стало уже очевидным для всех и бесспорным. И, открывая вечером 21 апреля совещание правительства с исполнительным комитетом, кн. Львов поставил точки над «i»: «Острое положение, создавшееся на почве ноты 18 апреля, — говорил он (цитируем по «Рабочей газете»), — есть только частный случай. За последнее время правительство вообще взято под подозрение. Оно не только не находит в демократии поддержки, но встречает там попытки подрыва его авторитета. При таком положении правительство не считает себя вправе нести ответственность. Мы решили позвать вас и объясниться. Мы должны знать, годимся ли мы для нашего ответственного поста в данное время. Если нет, то мы для блага родины готовы сложить свои полномочия, уступив место другим». Не помню, так ли определенны были слова кн. Львова, но мысль части членов правительства была именно такова. Здесь ставился кабинетный вопрос. Поставить его — значило уже стать на точку зрения Совета и признать министерство ответственным перед органом «революционной демократии». Это совершенно не соответствовало первоначальной точке зрения Временного правительства, считавшего себя ответственным только перед Учредительным собранием и присягнувшего довести Россию до него и ему передать свою власть. Признавать «волей народа» мнение явно партийных организаций, не объединявших даже всей демократии, не говоря о других общественных классах, значило идти дальше, чем решался идти до тех пор Совет. Орган Совета говорил теперь, правда, что «каждый шаг и во внутренней, и во внешней политике, если он затрагивает существенные интересы страны, должен быть делом двух органов — Временного правительства и исполнительного Совета рабочих и солдатских депутатов» («Известия», № 50). Но даже и эта формула не ставила на очередь вопроса об изменении состава правительства. Когда вопрос об этом был поставлен самими членами правительства в одном из заседаний с контактной комиссией, Церетели прямо заявил: «Какая вам польза от того, что мы войдем в ваш состав? Ведь мы из каждого спорного вопроса будем делать ультиматум и в случае вашей неуступчивости вынуждены будем с шумом выйти из министерства. Это гораздо хуже, чем вовсе в него не входить». Церетели по своему обыкновению старался здесь представить нежелательное для самого себя нежелательным для своих собеседников.
Однако мысль руководящей группы в правительстве (к этому времени уже совершенно выяснилось, что таковой являются Керенский, Некрасов, Терещенко, к которым склоняются, с одной стороны, кн. Львов, с другой — правые члены правительства В. Н. Львов и большей частью И. В. Годнев), окончательно остановилась на идее коалиции с членами партий, входивших в Совет, как на лучшем выходе из создавшегося положения. Чтобы поставить Совет перед необходимостью высказаться по вопросу, желает ли он нести формальную ответственность перед страной за то «давление», которое парализует работу правительства, намечен был проект обращения к стране с отчетом о двухмесячной деятельности правительства и с указанием на встретившиеся трудности. На идее такого обращения сошлись со сторонниками коалиции и ее противники (как А. И. Гучков, видевший в этом документе своего рода завещание первого правительства), а также и члены правительства, рассчитывавшие, что Совет будет вынужден, отказавшись от участия во власти, тем самым возобновить обязательство доверия и поддержки прежнего состава. П. Н. Милюков, решительно высказывавшийся против замены «первого правительства коалиционным, как менее авторитетным и менее способным удержать страну от распада, высказывался и против опубликования документа, который неизбежно должен был повести к кризису власти. Но в руководящем кружке уже стал на очередь вопрос об удалении самого П. Н. Милюкова, откровенно поставленный в совещании 21 апреля В. М. Черновым, который предлагал П. Н. Милюкову переменить портфель министра иностранных дел, например, на портфель министра народного просвещения. Возбуждение общего кабинетного вопроса давало возможность легче решить вопрос об этой перемене и о перемене А. И. Гучкова, чем устранялись самые существенные причины для трений между Временным правительством и «революционной демократией» и приобреталась, как казалось тогда, уже не «постольку, поскольку», а безусловно, поддержка советских партий.
Воззвание к населению 26 апреля. Воззвание к населению было написано Ф. Ф. Кокошкиным и опубликовано 26 апреля. В своем первоначальном тексте оно было суровым обвинительным актом против Совета рабочих депутатов. Но после троекратной переделки эта часть воззвания была очень сильно затушевана. Центральная мысль воззвания после этих переделок была формулирована следующим образом. «Говоря об осуществленных и осуществляемых им задачах, Временное правительство не может скрыть от населения тех затруднений и препятствий, которые оно встречает в своей деятельности. Оно не считает также возможным умалчивать о том, что в последнее время эти затруднения растут и вызывают тревожные опасения за будущее. Призванное к жизни великим народным движением, Временное правительство признает себя исполнителем и охранителем народной воли. В основу государственного управления оно полагает не насилие и принуждение, а добровольное повиновение свободных граждан созданной ими самими власти. Оно ищет опоры не в физической, а в моральной силе. С тех пор как Временное правительство стоит у власти, оно ни разу не отступило от этих начал. Ни одной капли народной крови не пролито по его вине, ни для одного течения общественной мысли им не создано насильственной преграды. К сожалению и к великой опасности для свободы,рост новых социальных связей, скрепляющих страну, отстает от процесса распада, вызванного крушением старого государственного строя (выделенные фразы вставлены социал-революционерами, товарищами Керенского, вместо открытого обвинения Совета в парализовании правительства и в содействии распаду страны). В этих условиях, при отказе от старых насильственных приемов управления и от внешних искусственных средств, употребляющихся для поднятия престижа власти, трудности задачи, выпавшей на долю Временного правительства, грозят сделаться неодолимыми. Стихийное стремление осуществлять желания и домогательства отдельных групп и слоев населения явочным и захватным путем по мере перехода к менее сознательным и менее организованным слоям населения грозит разрушить внутреннюю гражданскую спайку и дисциплину и создать благоприятную почву, с одной стороны, для насильственных актов, сеющих среди пострадавших озлобление и вражду к новому строю, с другой стороны, для развития частных стремлений и интересов в ущерб общим и к уклонению от исполнения гражданского долга. Временное правительство считает своим долгом прямо и определенно заявить, что такое положение вещей делает управление государством крайне затруднительным и в своем последовательном развитии угрожает привести страну к распаду внутри и к поражению на фронте. Перед Россией встает страшный призрак междоусобной войны и анархии, несущий гибель свободе. Есть мрачный и скорбный путь народов, хорошо известный истории, — путь, ведущий от свободы через междоусобие и анархию к реакции и возврату деспотизма. Этот путь не должен быть путем русского народа». После этой объективной характеристики положения, очень мало гармонировавшей с искренним или официальным оптимизмом руководящей группы правительства, в воззвании давалось обещание «с особенной настойчивостью возобновить (этим подчеркивалось, что усилия эти делались и раньше) усилия, направленные к расширению его состава путем привлечения к ответственной государственной работе представителей тех активных творческих сил, которые доселе не принимали прямого и непосредственного участия в управлении государством». Политический смысл, который руководители правительства придавали этому обещанию, был разъяснен и подчеркнут личным шагом А. Ф. Керенского, поспешившего формально открыть министерский кризис и тем закрепить позицию сторонников коалиции. В тот же день, 29 апреля, в газетах появилось его письмо в ЦК партии социал-революционеров, в Совет рабочих и солдатских депутатов и во Временный комитет Государственной думы, в котором Керенский заявлял, что отныне «представители трудовой демократии могут брать на себя бремя власти лишь по непосредственному избранию и формальному уполномочию тех организаций, к которым они принадлежат», и что в ожидании решения органов демократии, к которым он обращался, он «будет нести до конца тяжесть фактического исполнения обязанностей».
Керенский форсирует положение. Ответственность перед партиями. Этим весь вопрос о способе создания нового правительства ставился на новую почву. Члены Временного правительства, назначенные Комитетом Государственной думы 1 марта, не были формально делегированы партийными организациями и не считали себя ответственными перед ними. Мы видели, в какое отношение стал к ним Совет рабочих и солдатских депутатов. Когда возник вопрос, как уравновесить «давление» и «контроль» Совета над правительством, мысль министров, в том числе и А. Ф. Керенского, обращалась обыкновенно к Временному комитету Государственной думы как к законному источнику власти. Члены Комитета участвовали и во всех важнейших совещаниях правительства с делегатами Совета. Но идея — дать таким образом долю справедливого влияния Государственной думе — не осуществилась. Состав 4-й Государственной думы был фактически ослаблен тем, что лучшие ее элементы заняли места в правительстве, получили ответственные поручения вне Петрограда и т. п. С другой стороны, Государственная дума как учреждение с самого начала революции добровольно устранила себя от официальной деятельности, понимая, что с фактической отменой старых «основных законов» революционным переворотом роль ее как государственного учреждения в системе других таких же существенно изменяется. Свое право влиять на ход событий Государственная дума по необходимости выводила не столько из своего права избрания на основе избирательного положения 3 июня 1907 г., сколько из той важной роли, которую она сыграла в успехе революции 27 февраля 1917 г. Но в роли этого фактора являлась не вся Государственная дума, а ее Временный комитет, время от времени делавший свои доклады частному совещанию членов Государственной думы. Даже и такая скромная роль Государственной думы начинала вызывать раздражение в рядах «революционной демократии». Преследуемая с самого начала манией контрреволюции, потом сознательно злоупотреблявшая этим призраком и раздувавшая с демагогическими целями страх перед не существовавшей тогда «контрреволюционной опасностью» «революционная демократия» социалистических партий принялась систематически дискредитировать Государственную думу и ее председателя М. В. Родзянко, пользовавшегося в первое время революции громадной популярностью в стране и армии. По тем или другим причинам, но Государственная дума оказалась неподходящим средством, для того чтобы разделить контроль над правительством, да она и принципиально не захотела бы требовать ответственности правительства перед собой, в особенности требовать его в равной мере с Советом рабочих и солдатских депутатов. И естественно, раз уже речь зашла об ответственности министров перед кем-либо, выдвинулась идея использовать их ответственность перед политическими партиями, к которым большинство из них принадлежали. Если министры первого состава не были делегированы партиями и принципиально перед ними не отвечали, то теперь, при создании коалиции и при наличии ответственности некоторых из будущих министров перед партийными органами, казалось правильным распространить эту ответственность и на отношения других министров (главным образом членов партии народной свободы, единственной сохранившейся и организованной из несоциалистических партий) к их органам. Письмо Керенского сделало такую постановку вопроса неизбежной. Мотивируя разницу между своим вступлением в первый состав правительства и в состав, подготовлявшийся теперь, Керенский указал, что тогда «решающие события революции застали демократию неорганизованной», и он «на свой личный страх и риск должен был принять представительство этой демократии», «когда цензовая Россия одна взяла на себя организацию власти». Теперь же он «считал положение коренным образом изменившимся». «С одной стороны, положение дел в стране все осложняется. Но, с другой стороны, возросли и силы организованной трудовой демократии, которой, быть может, нельзя более устраняться от ответственного участия в управлении государством». Керенский обещал себе, что это участие «придаст рожденной революцией власти новые силы и весь необходимый авторитет для сплочения вокруг нее всех живых сил страны и для преодоления всех преград, препятствующих выходу России на широкую дорогу исторического развития». Чтобы оценить настроение, продиктовавшее этот шаг и эти слова, нужно вспомнить, что три дня спустя, 29 апреля, А. Ф. Керенский произнес перед фронтовым съездом сильные слова отчаяния. «Неужели русское свободное государство есть государство взбунтовавшихся рабов?.. Я жалею, что не умер два месяца назад: я бы умер с великой мечтой, что раз навсегда для России загорелась новая жизнь, что мы умеем без хлыста и палки уважать друг друга и управлять своим государством не так, как управляли прежние деспоты».
Конечно, в социалистических газетах речь эта не была напечатана. Итак, А. Ф. Керенский своим демонстративным шагом открыл министерский кризис и опять форсировал положение. С одной стороны, его шаг обязывал правительство немедленно сделать вывод из своего обещания 26 апреля. С другой стороны, он и перед Советами в решительной форме ставил вопрос об участии социалистов в правительстве. Надо прибавить, что в более общей форме намерение правительства призвать все живые силы было доведено до сведения Н. С. Чхеидзе и М. В. Родзянко письмом князя Львова, воспроизводившим выражения декларации 26 апреля.
Наиболее влиятельные руководители Совета вместе с И. Г. Церетели вовсе не были склонны нести ответственность за пользование правительственной властью в такую ответственную и трудную минуту. Они совершенно правильно учли свои силы, понимали, что необходимый для них процесс организации в стране едва лишь начался, сознавали отлично, что в этом процессе гораздо выгоднее быть на стороне критикующих, чем критикуемых, отдавали себе отчет и в том, что уход наиболее влиятельных из них из Совета в правительство чрезвычайно ослабит их влияние в Совете и откроет путь к усилению влияния их противников слева — большевиков. В заседании Исполнительного Комитета 29 апреля после продолжительных прений комитет высказался против участия в правительстве большинством одного голоса: 23 против 22 при 8 воздержавшихся.
Было, однако, несомненно, что раз начатое дело уже ввиду неизбежности личных перемен должно быть доведено до конца. В тот же день кн. Г. Е. Львов посетил П. Н. Милюкова и просил его помочь выйти из затруднительного положения. П. Н. Милюков в ответ указал альтернативу: или последовательно проводить программу твердой власти и в таком случае отказаться от идеи коалиционного правительства, пожертвовать А. Ф. Керенским, который уже заявил о своей отставке, и быть готовым на активное противодействие захватам власти со стороны Совета, или же пойти на коалицию, подчиниться ее программе и рисковать дальнейшим ослаблением власти и дальнейшим распадом государства.
Отставка А. И. Гучкова. Согласие Исполнительного Комитета на вступление социалистов и его программа. В сущности выбор кн. Львова был уже сделан, и П. Н. Милюков мог облегчить его положение лишь одним способом: он предложил решить свой личный вопрос в свое отсутствие (он и А. И. Шингарев в этот день выезжали в Ставку), предупредив только, что при создании коалиционного правительства он не примет предполагавшейся перемены портфеля, так как он принципиально против коалиции. Уезжая, П. Н. Милюков просил также и А. И. Гучкова, готовившегося подать в отставку, отложить свой личный вопрос до решения принципиального вопроса о коалиции и о ее программе.
Однако уже вечером 29 апреля А. И. Гучков заявил Временному правительству о своем уходе, и днем 30 апреля кн. Г. Е. Львов получил от него письмо, в котором «ввиду тех условий, в которые поставлена правительственная власть в стране, а в частности власть военного и морского министра, условий, которые изменить он не в силах и которые грозят роковыми последствиями армии и флоту, и свободе, и самому бытию России», он «по совести не может долее нести обязанности военного и морского министра и разделять ответственность за тот тяжкий грех, который творится в отношении родины». В то же время А. И. Гучков выступил на съезде делегатов с фронта с длинной речью, в которой перечислял все свои заслуги перед армией и флотом и заявлял, что «в том угаре, который нас охватил, мы зашли за ту роковую черту, за которой начинается не созидание, не сплочение, не укрепление военной мощи, а постепенное разрушение». Справедливость требует сказать, что в этом процессе разрушения А. И. Гучков не захотел перешагнуть последней грани: он остановился перед опубликованием «декларации прав солдата», которая была затем опубликована через две недели его преемником и которая, по компетентному заявлению высшего командования, должна была нанести военной дисциплине последний и непоправимый удар.
Известие об отставке Гучкова заставило Исполнительный Комитет после разъяснений А. Ф. Керенского пересмотреть свое решение о невступлении в правительство. В вечернем заседании 1 мая большинством 41 против 18 при 3 воздержавшихся было решено принять участие в коалиционном правительстве.
Против этого решения голосовали на этот раз только большевики и меньшевики-интернационалисты. В эту же ночь была выработана и программа пунктов, на которой социалисты соглашались войти в правительство. На первое место здесь был поставлен спорный пункт о внешней политике, вводивший на этот раз целиком популярную формулу: «деятельная внешняя политика, открыто ставящая свой целью скорейшее достижение всеобщего мира без аннексий и контрибуций, на началах самоопределения народов, в частности подготовка к переговорам с союзниками в целях пересмотра соглашений на основании декларации Временного правительства от 27 марта». Этот пункт предрешал уход П. Н. Милюкова, заранее условленный между Церетели и руководящей группой правительства, причем сторонники этой перемены обеспечили себе и поддержку союзников в лице Альбера Тома. Вторым пунктом шел второй циммервальдский тезис: «демократизация армии», но с прибавкой, характеризовавшей уже известное нам настроение руководителей Совета (только что опубликовавшего свое обращение к фронту): «Организация и укрепление боевой силы фронта и действительная защита добытой свободы». Далее следовали пункты, бесспорные по заглавиям, но грозившие сделаться очень спорными по содержанию, которое вкладывалось в них «революционной демократией».
«Борьба с хозяйственной разрухой путем установления контроля над производством, транспортом, обменом и распределением продуктов и организация производства в необходимых случаях». Этот основной тезис «военного социализма» мог быть проведен так, как он проводился во всех воюющих странах — последовательнее всего в Германии. Но он мог быть понят и в смысле осуществления путем декретов власти чисто социалистических задач. В Совете рабочих депутатов он подразумевался именно в смысле социалистических экспериментов над промышленностью. Относительно деревни советская программа требовала «аграрной политики, регулирующей землепользование в интересах народного хозяйства, подготовляющей переход земли в руки трудящихся». Под этой тоже довольно растяжимой формулой понималась «подготовка перехода земли» путем передачи фактического пользования ее земельным комитетам. Финансовый пункт программы устанавливал «переустройство финансовой системы на демократических началах в целях переложения финансовых тягот на имущие классы (обложение военной сверхприбыли, поимущественный налог и т. д.)». О тенденции этого параграфа можно судить по тому, что впоследствии даже финансовые реформы А. И. Шингарева показались советским финансистам недостаточными. Все эти приведенные пункты выходили за пределы первоначальных задач Временного правительства и потому, что вводили в их число немедленное, не дожидаясь Учредительного собрания, социальное «правотворчество» в самых широких размерах, чтобы этим выжать самые острые классовые конфликты. Наконец, три остающихся пункта не могли вызывать никаких возражений: «Всесторонняя защита труда», «Укрепление демократического самоуправления» и «Скорейший созыв Учредительного собрания».
Отставка П. Н. Милюкова. Выработка правительственной декларации. Тезисы партии народной свободы. С утра 2 мая при участии спешно возвратившихся из Ставки министров П. Н. Милюкова и А. И. Шингарева, из Москвы А. А. Мануйлова началось обсуждение этой программы в правительстве. Продолжая возражать против самого принципа коалиции, П. Н. Милюков находил предъявленную программу отчасти слишком неопределенной и скрывающей зародыши конфликтов в будущем, отчасти, поскольку она была определена (в области внешней политики), неприемлемой и, наконец, по-прежнему не заключающей в себе тех элементов, отсутствие которых, собственно, и вызвало слабость и падение правительства первого состава: не заключающей указаний на единство власти и на обеспечение этого единства полным доверием «революционной демократии». На почве этих возражений было приступлено к составлению окончательного текста декларации нового правительства. Во время этого составления подоспели однородные замечания Комитета Государственной думы и ЦК партии народной свободы. Но раньше, чем обсуждение декларации окончилось, на вечернем заседании А. Ф. Керенский сообщил П. Н. Милюкову о состоявшемся в отсутствии последнего решении семи членов Временного правительства — при перераспределении портфелей оставить за П. Н. Милюковым министерство народного просвещения вместо министерства иностранных дел. Сам А. Ф. Керенский должен был получить портфель военного и морского министра. Не считая возможным при таком перераспределении и при намечавшейся победе цим-мервальдских тенденций в области ведения войны и внешней политики нести свою долю коллективной ответственности за дальнейшие действия солидарного кабинета, П. Н. Милюков категорически отказался принять предложение товарищей и покинул заседание.
Дальнейшее обсуждение проекта декларации привело представителей Совета к некоторым уступкам, впрочем, очень незначительным. Требования партии народной свободы были приняты в очень урезанном и смягченном виде. Партия, как и Государственная дума и часть министерств, требовала признания Временного правительства единственным органом власти. Декларация в заключительной части лишь односторонне заявляет, что его плодотворная работа возможна лишь при условии: «...2) возможности осуществлять на деле всю полноту власти». Эта «возможность» была поставлена в зависимость от «...1) полного и безусловного доверия к правительству всего революционного народа». То и другое только постулировалось, но формально вовсе не давалось правительству. Далее ЦК партии народной свободы требовал, чтобы за правительством была признана основная и элементарная принадлежность всякой власти: право применения силы и распоряжения армией. Этот капитальный вопрос опять-таки не был включен в пункты программы и лишь осторожно затронут в той же заключительной части в такой форме, которая заранее ослабляла все практическое значение этого признания: правительство «заявляло, что для спасения родины оно примет самые энергичные меры против всяких контрреволюционных попыток, как и против анархических, неправомочных и насильственных действий, дезорганизующих страну и создающих почву для контрреволюции». Опасность грозила слева, и тот самый Некрасов, которому принадлежал проект декларации, в своих публичных выступлениях справедливо признавал опасность контрреволюции и «бонапартизма» мнимой опасностью.
Но, чтобы получить право хотя бы намекнуть в правительственной декларации на реальную опасность слева, новому правительству приходилось направлять всю силу фразеологии на несуществующую тогда опасность справа, упомянув о настоящей большевистской опасности лишь как о готовящей почву для той же «контрреволюции». Ясно было, что связанное в словах новое правительство будет еще более связано в действиях.
Первоначальной задачей декларации было договориться, наконец, до конца и все сказать так ясно, чтобы не было места дальнейшим недоразумениям и скрытым конфликтам. Но на первом же шагу оказывалось, что ясная и определенная постановка задач для коалиционного правительства невозможна и что коалиция есть действительно компромисс, заранее парализующий власть изнутри, как до сих пор ее парализовало давление извне. Даже по тому основному вопросу, который дал повод для ухода П. Н. Милюкова, по вопросу о внешней политике, программа представила только компромиссное решение, сославшись для объяснения «демократической» формулы мира (без аннексий и контрибуций) на прежнее заявление правительства от 28 марта. Это было сделано после того, как не удалось ограничить смысл советской формулы оговорками: «без захватной политики и без карательных контрибуций». Вместо определенного советского заявления о «подготовке переговоров с союзниками в целях пересмотра соглашений» декларация обещала лишь «предпринять подготовительные шаги к соглашению с союзниками» на основах декларации 28 марта. Эта уклончивость в главном вопросе соответствовала интересам России. Таким образом, Советам выдавалась лишь личность П. Н. Милюкова, а не его политика. Этим удовлетворялось и требование Государственной думы и партии народной свободы о сохранении «единства фронта» с союзниками и о решении вопросов войны и мира «в полном единении с ними». Но главная цель — создание нового правительства, сильного ясностью и единодушием своих стремлений, — не только не была достигнута, но, наоборот, молчаливо признана недостижимой. Если нельзя того же сказать о социальных пунктах декларации, то только потому, что тут конфликты были еще впереди. Декларация избежала их преждевременного раскрытия тем, что сделала эластичные советские формулы еще более неопределенными, введя в них необходимые оговорки. В области контроля над промышленностью и производством декларация обещала лишь «дальнейшее планомерное проведение» мер, уже применявшихся раньше, и тем самым лишила свое заявление характера принципиальной перемены. В области финансовых вопросов правительство лишь обещало «обратить особое внимание на усиление прямого обложения имущих классов». А в аграрном вопросе декларация разошлась с требованиями Совета и по существу, обещав лишь «принять все необходимые меры» для одной, вполне конкретной задачи — «обеспечения наибольшей производительности хлеба для нуждающейся в нем страны». Что касается «вопроса о переходе земли в руки трудящихся», новое правительство в согласии с тем, чем ограничивалось и старое, хотело лишь «выполнить для этого подготовительные работы», предоставляя Учредительному собранию решение самого вопроса. Во всех других пунктах декларация подчеркнула, что требования Совета для правительства не новы и что в области «всесторонней защиты труда», «введения демократических органов самоуправления», «созыва Учредительного собрания в Петрограде» оно лишь будет «со всей возможной настойчивостью и спешностью» «прилагать свои усилия». Заключительная часть, как мы видели, указывала, при каких условиях поддержки эти усилия могут увенчаться успехом.
То, что здесь не договаривала правительственная декларация, договорило опубликованное в один день с ней, 6 мая, заявление ЦК партии народной свободы. Здесь впервые весь критический материал, созданный деятельностью или, точнее, вынужденной бездеятельностью первого правительства, был собран и сформулирован в виде тезисов положительной политической программы. Отказавшись от давления на своего председателя, вынужденного покинуть ряды правительства, партия, однако, сочла нужным настоять на сохранении постов в кабинете другими своими сочленами. Оставляя их в составе нового правительства, участники которого объявлялись ответственными перед своими партиями, партия народной свободы дала им совершенно определенный мандат. В области внешней политики, «всецело одобряя стойкую защиту П. Н. Милюкова в международных интересах России», партия, «теперь, как и прежде, не мыслила и не могла бы поддерживать своим доверием внешнюю политику, которая не была бы основана на тесном и неразрывном единении с союзниками, направленном к соблюдению обязательств и к ограждению прав, достоинства и жизненных интересов России». В области внутренней политики партия считала первой задачей обновленного правительства «упрочение его авторитета и укрепление его власти», а для этого, для «полноты и действенности этой власти» «первым условием должен быть», по ее мнению, «решительный отказ всех без исключения групп и организаций от присвоения себе права распоряжений, отменяющих либо изменяющих акты Временного правительства и вторгающихся в область законодательства или управления».
Третье существенное требование партии к.-д. вытекает из второго: единство власти правительства должно быть обеспечено его силой. В противоположность декларациям членов первого правительства и его заявлениям 26 апреля партия полагала, что никакая власть не может опираться на один только моральный авторитет, на силу убеждения и на добровольное повиновение граждан. С элементами, «ставящими себе прямой целью разрушение всякого порядка и посягательство на чужие права», нельзя ограничиваться одними увещаниями. С ними «необходима настойчивая борьба, не останавливающаяся перед применением всех находящихся в распоряжении государства мер принуждения. Всякая нерешительность в этом направлении, по глубокому убеждению партии народной свободы, будет иметь неминуемым последствием развитие анархии и рост преступности. Поддерживая и питая настроение, враждебное революции, такое усиление смуты несет в себе величайшую опасность и способно погубить дело свободы».
Частным применением этого же принципа являлось четвертое требование партии — о поддержании дисциплины в армии. «Необходимы определенные и решительные меры противодействия попыткам внести дезорганизацию в ряды армии, подорвать в ней дисциплину и боевую мощь, посеять пагубную рознь между защитниками родины». Общим замечанием по отношению ко всем предыдущим было то, что «партия не считает возможным мириться с полумерами в предстоящей борьбе, от успеха которой зависят прочность и непоколебимость нового строя». Пятым требованием партии было то, чтобы ни в социальных, ни в национальных, ни в конституционных вопросах Временное правительство не предвосхищало Учредительного собрания. «Впредь до созыва» Учредительного собрания партия считала возможным лишь «содействовать проведению в жизнь всех неотложных мероприятий» с целью «установления разумной и целесообразной экономической и финансовой политики, подготовки к земельной реформе, направленной к передаче земли трудовому земледельческому населению, охраны интересов трудящихся масс, развития местного самоуправления, правильного устройства и надлежащего функционирования суда и удовлетворения других разнообразных потребностей государственного управления». Но что касается таких вопросов, как «установление основных начал государственного строя России» (республика или парламентарная монархия), «создание новых форм ее политического устройства» (унитарный или федеративный тип), «разрешение коренных проблем ее экономического бытия» (земельная собственность, отношение капитала и труда), «удовлетворение справедливых требований отдельных национальностей» (автономия или федерация) — все такие вопросы не могут быть разрешаемы властью Временного правительства и должны быть предоставлены на усмотрение Учредительного собрания как высшего выразителя народной воли». Отсюда ясно и то, какое громадное значение партия придавала Учредительному собранию и как бережно она считала необходимым обращаться и с идеей этого проявления народовластия, и с ее наилучшим осуществлением. Своим сочленам в составе правительства партия поручала «всемерно содействовать осуществлению такой программы и в таких пределах», как указанные выше. В противном случае соответственно новому приему конструкции коалиционного кабинета из представителей, официально делегированных политическими партиями и перед ними ответственных, партия предоставляла себе отозвать своих членов из состава правительства.
Отношение Совета к министрам-социалистам. В Совете рабочих и солдатских депутатов появление новых министров-социалистов, членов первого коалиционного кабинета, было встречено бурной овацией. «Не в плен к буржуазии идут они, — говорил представитель социал-рево-люционеров Гоц, — а занимать новую позицию выдвинутых вперед окопов революции». «При создавшемся положении, подтверждал В. М. Чернов, — Совет рабочих и солдатских депутатов будет в сущности решать государственные дела, а министры только исполнять». Ту же мысль подтвердил и болгарско-румынский социалист Раковский, только что выпущенный русскими войсками из румынской тюрьмы (румынское правительство обвиняло его в подкупе германскими деньгами). В нем «пробудился старый циммервальдец», и он радостно приветствовал расцвет циммервальдизма в России. «Там нас была горсточка, а тут — вся страна». И он тут же продиктовал молодым циммервальдцам тему их будущей декларации. «Не бойтесь вхождения в министерство. Всюду в других странах социалистические министры являются как бы хвостом своего правительства, а здесь я вижу другое: правительство — это хвост революции. Русский министериализм отличается от западного».
Однако герои дня с грустью принимали свою победу. Церетели и Скобелев одинаково говорили о своих колебаниях, о безысходности положения, которое заставило сделать их неизбежный выбор между вступлением в правительство и гибелью революции, о неподготовленности масс, о необходимости идти об руку с частью «буржуазии», конечно, не с Милюковым, уход которого подчеркнул разницу новой платформы от прежней. Собрание горячо приветствовало ораторов-министров и всеми голосами против 20 приняло резолюцию, которая признавала правительственную декларацию «соответствующей воле демократии, задачам закрепления завоеваний революции и дальнейшего ее развития», выражала правительству «полное доверие», призывала демократию «оказать этому правительству деятельную поддержку, обеспечивающую ему всю полноту власти», и устанавливала принцип ответственности министров-социалистов «впредь до создания всероссийского органа Советов» перед петроградским Советом.
Теми же бурными аплодисментами был принят, однако, только что накануне приехавший из Америки Троцкий, «старый вождь первой революции», который резко осуждал вступление социалистов в министерство, утверждая, что теперь «двоевластие» не уничтожится, а «лишь перенесется в министерство» и что настоящее единовластие, которое «спасет» Россию, наступит только тогда, когда будет сделан «следующий шаг — передача власти в руки рабочих и солдатских депутатов». Тогда наступит «новая эпоха — эпоха крови и железа, но уже в борьбе не наций против наций, а класса страдающего, угнетенного против классов господствующих». «Русская революция станет прологом революции мировой». Для полноты картины рядом с героем завтрашнего дня выступил при смехе аудитории и претендент на героя послезавтрашнего дня анархист Блейхман, который заявил, что «смеется лучше тот, кто смеется последним». Он иронически приветствовал «социалистов в кавычках», требовал «последовательности» от большевиков и выражал уверенность, что в конце концов и они станут на путь анархии.
Цикл грядущих превращений русской революции здесь наметился, как в зеркале. На этой покатой плоскости коалиционное правительство оказалось действительно «первым шагом». Прежде чем совершился «второй» — к господству Советов, коалиция должна была пройти через тройной кризис, в котором противоречие между утопизмом слов и неизбежным реализмом дел министров-социалистов вскрылось полностью и до конца.
III. Социалисты защищают буржуазную революцию от социалистической (6 мая — 7 июля)
Состав кабинета. Двойственность задачи коалиции. Социалисты численно не преобладали в первом коалиционном правительстве. Состав его определялся следующим образом:
министр-председатель и министр внутренних дел — кн. Г. Е. Львов;
военный и морской министр — А. Ф. Керенский;
министр иностранных дел — М. И. Терещенко;
министр путей сообщения — Н. В. Некрасов;
министр земледелия — В. М. Чернов;
министр почт и телеграфов — И. Г. Церетели;
министр труда — М. И. Скобелев;
министр продовольствия — А. В. Пешехонов;
министр юстиции — П. Н. Переверзев;
министр торговли и промышленности — А. И. Коновалов;
министр финансов — А. И. Шингарев;
министр народного просвещения — А. А. Мануйлов;
министр государственного призрения — кн. Д. И. Шаховской;
обер-прокурор Синода — В. Н. Львов;
государственный контролер — И. В. Годнев.
Таким образом, в кабинете было 6 социалистов и 9 несоциалистов. Но из последних только небольшая группа трех министров к.-д. (не считая Н. В. Некрасова) вместе с А. И. Коноваловым держалась дружно. Два «правых» министра часто поддерживали социалистов, но даже в тех случаях, когда они примыкали к группе четырех несоциалистов и вотировали 6 против шести, решающее значение играли Терещенко и Некрасов, линия которых клонилась влево и увлекала туда же министра-председателя. Это было хоть «буржуазное» правительство, но такое, которое действительно вполне заслуживало полного «доверия» и «поддержки» умеренных социалистических групп, к которым принадлежало большинство в Совете рабочих и солдатских депутатов. Беда была лишь в том, что чем эта поддержка становилась тверже и основательнее, тем более само большинство Совета теряло поддержку в массах и таяло.
Чтобы предупредить его превращение в меньшинство и сохранить принцип ответственности министров-социалистов перед Советом, вождь этого большинства Церетели был вынужден пустить в ход всю свою изворотливость. Каждая его победа должна была сопровождаться компенсирующей эту победу уступкой точке зрения противников. Тактическая линия поведения превращалась, таким образом, в ряд зигзагов, среди которых все труднее становилось сохранить господствующее направление. Постоянные компромиссы с очередными криками дня привели, наконец, если не к потере основной тактической линии, то к полной потере понимания этой линии и доверия к ней в тех рабочих и солдатских массах, на которые опирались Советы. Демагогия крайних левых течений очень ловко воспользовалась этой сложностью и запутанностью тактики более умеренных вождей и привлекла на свою сторону массы крайней простотой и привлекательностью лозунгов так же, как и упорной последовательностью, если не в проведении, то во всяком случае в повторении, в затверживании этих лозунгов. Реклама и агитация среди большевистских течений всегда были поставлены образцово.
Двойственность, которая в конце концов погубила первую коалицию, заключалась уже в самом определении основной задачи, для осуществления которой она образовалась. Для Церетели этой задачей было объединение «буржуазии» с «революционной демократией» (то есть социалистами совета) на одной «демократической платформе», которую он хотел считать всенародной, но которая была в сущности партийно-социалистической. Это был плохой и чисто формальный способ — не разрешить, а симулировать разрешение глубокого и неразрешимого противоречия, которое существовало между научным тезисом марксизма, что при данном состоянии производства возможна лишь «буржуазная» революция, и нетерпеливым стремлением большинства русских социалистов перевести русскую («мировую») революцию из политической в социальную (социалистическую).
Для членов первого правительства, наладивших коалиционную комбинацию, напротив, задача коалиции была совсем другая. Недаром над осуществлением коалиции так же усиленно работал Альбер Тома, как и Керенский с Некрасовым и Терещенко. Убеждением первого было, что нужно спасать боеспособность революционной России путем уступок руководящим течениям социализма, а убеждением остальных было, что боеспособность армии можно удержать, лишь поставив ей понятные для нее и способные воодушевить ее цели войны. Так как такими целями этим ослепленным людям непременно представлялся лозунг Совета «без аннексий и контрибуций» (то есть в сущности отказ от целей войны), то намерения Некрасова и Тома внешним образом сходились с намерениями Церетели и Керенского, которые тогда считали себя «циммервальдцами». Приобреталась видимость «единого фронта» внутри и вовне.
«Я спрашиваю себя, — так объяснял свою политику Н. В. Некрасов перед 8-м съездом партии народной свободы (9 мая), — что дороже для нас и для наших союзников: эти ли договоры, для осуществления которых неизвестно когда придет время, или то боевое единство, которое одно может дать нам возможность спасти честь и достоинство России? Решающим для меня было то, что я слышал от делегатов из армии... Эти люди сказали нам: если вы хотите, чтобы армия шла в бой, если вы хотите от нее прежней дисциплины и прежнего единства, то дайте ей те цели борьбы, которые ей понятны, которые она видит перед собой и может защищать реально. И помните, что нельзя возложить на плечи армии, уже три года борющейся на фронте, ту задачу, которая этой армией не разделяется». Условную справедливость этой позиции признал и П. Н. Милюков в конце своей речи о своем уходе в частном заседании членов Государственной думы. Он не верил, что указанные средства могут привести к цели и что можно усилить желание воевать, отказавшись от национальных целей войны; он доказывал также, что в основе этой формулировки лежит пассивное подчинение тенденции, внесенной извне и грозящей в конечном счете полным распадом власти и всеми ужасами гражданской войны...