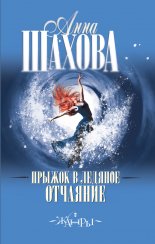Желтоглазые крокодилы Панколь Катрин

У Жозефины возникло минутное желание побежать вниз за девочками и за шкирку вырвать их из когтей отца, но она сдержалась. Антуан имеет право. Ничего не поделаешь.
Она так и осела на бетонный пол балкона. Прижала сжатые кулаки к глазам и плакала, плакала. Долго. Не шевелясь. В голове крутились одни и те же кадры. Антуан знакомит Милену с девочками, Милена улыбается. Антуан ведет машину, Милена смотрит карту. Антуан предлагает заехать куда-нибудь перекусить, Милена выбирает ресторан. Антуан снимает квартиру. Комната девочек, их комната с Миленой. Он спит с Миленой, а девочки спят в соседней комнате. Утром они завтракают вместе. Все вместе! Антуан идет на рынок с девочками и Миленой. Он бежит по пляжу с девочками и Миленой. Он везет девочек и Милену на сельский праздник. Покупает Милене и девочкам сладкую вату. Слова сплетались в бесконечный припев «девочки и Милена, Антуан и Милена». Она набрала побольше воздуху в легкие и заорала: «Дружная семейка, вашу мать!» И так удивилась своему крику, что перестала плакать.
В тот день Жозефина поняла, что ее браку конец. Локоть, обтянутый красной тканью, оказался эффективнее, чем все слова, которыми они обменялись с Антуаном. «Конец», – произнесла она, рисуя на листке бумаги треугольник и раскрашивая его ярко-алым цветом. Ко-нец. Финиш.
Она повесила красный треугольник на кухне над тостером, чтобы любоваться им каждое утро.
На следующий день снова погрузилась в свои переводы.
Потом уже, приехав к Ирис в Довиль, она узнала, что Зоэ много плакала тогда в июле. Ей сказала об этом Ирис, а той рассказал Александр – Зоэ доверилась только ему. «Антуан посоветовал им привыкать к Милене, потому что он собирается жить с ней, они затеяли какой-то бизнес… Какой? Никто не знает». Девочки молчали. Жозефина решила умерить свое любопытство и ничего не выспрашивать.
«Неудачно бедняжки вступают в жизнь, – объявила мадам Мать в разговоре с Ирис. – Бог мой, какие горести выпадают на долю детей в наши дни! И еще удивляются, что в обществе все идет кувырком. Раз уж родители не умеют держать себя в руках, чего же ждать от детей?»
Мадам Мать. Жозефина с ней больше не встречалась. С того майского вечера. С той ссоры в гостиной Ирис. Ни звонка. Ни письма. Ничего. Жозефина не то чтобы все время об этом думала, но, если видела на улице свою ровесницу, склонившуюся к пожилой женщине и называющую ее «мама», ноги у нее подкашивались и она спешила присесть на скамейку.
Тем не менее она не собиралась делать первый шаг. Ни об одном слове, сказанном тогда, она не жалела.
Ей даже казалось, что именно эта ссора с матерью дала ей силы для работы. «Когда не врешь, начинаешь верить в себя. В тот день ты не стала врать, и вон, смотри, как ты продвинулась!» Это была теория Ширли. Возможно, Ширли права.
Одна. Без Антуана, без матери. Без мужчины.
Недавно в библиотеке она шла по узкому проходу между стеллажами, не заметила идущего навстречу мужчину и, столкнувшись с ним, рассыпала книги, что держала в руках. Он наклонился, помог их собрать. Потом уставился на нее так, что на нее напал дикий смех. Ей пришлось выйти, чтобы успокоиться. Когда зашла обратно, он подмигнул ей с заговорщическим видом. Жозефина почувствовала, как все внутри перевернулось. Она еще долго пыталась вновь поймать его взгляд, но он больше не поднимал головы от своих записей. Когда она в очередной раз посмотрела в его сторону, его уже не было за столом.
В другой раз он заметил ее, махнул рукой и ласково улыбнулся. Высокий, худой, волосы падают на глаза, щеки такие впалые, что кажется, он их втянул. Он аккуратно вешал свое темно-синее шерстяное пальто на спинку стула, отряхивал его, расправлял, а потом балетным движением усаживался верхом на стул. У него были длинные тонкие ноги, и Жозефина представляла его на сцене, танцующим чечетку в черном трико, черной куртке и черном цилиндре. Лицо на удивление подвижное: то вдохновенное, романтическое, а через секунду – бледное и грустное. Жозефина не могла ручаться, что узнала бы его на улице, потому что порой забывала, как он выглядит, и вспоминала с трудом.
Она не решилась рассказать о нем Ширли. Та, конечно, посмеялась бы над ней. «Да надо было пригласить его на чашечку кофе и все выяснить, и как его зовут, и по каким дням он ходит в библиотеку! Вот дуреха!»
Ну да… Я дуреха, это для меня не новость, вздохнула Жозефина, в который раз пересчитывая приходы-расходы. Я все вижу, я все чувствую, тысячи мелочей вонзаются в мой мозг, словно занозы, и рвут его на части. Тысячи мелочей, которых не замечают другие, потому что у них кожа толстая, как у крокодилов.
Самое трудное – не поддаваться панике. Паника, как правило, накатывала по ночам. Жозефина чувствовала все нарастающее ощущение опасности, неизбежной и непредотвратимой. Она крутилась в постели без сна. Коммунальные услуги, взносы, налоги, наряды Гортензии, бензин, страховка, телефонные счета, абонемент в бассейн, каникулы, билеты в кино, обувь, походы к зубному… Она перебирала в уме расходы, глядя в темноту широко открытыми глазами, потом оборачивалась простыней и старалась ни о чем не думать. Бывало, проснется среди ночи, сядет в кровати и подсчитывает, подсчитывает, пока не убедится, что нет, ничего не выйдет, хотя вчера днем цифры говорили другое! Она в панике зажигала свет, шла искать клочок бумаги со своими подсчетами, пересчитывала все заново до тех пор, пока наконец не успокаивалась, и гасила свет, совершенно разбитая.
Она боялась ночей.
Бросив последний взгляд на цифры, написанные простым карандашом, и на цифры, написанные красной ручкой, Жозефина с облегчением поняла, что пока можно не волноваться. Мысли ее вернулись к конференции: нужно подготовиться. Вспомнился отрывок из одной книги. Она подумала, что его хорошо бы переписать и использовать в докладе. А когда нашла, поняла, что это отличное начало.
«Все исследователи, изучающие экономическую историю, придают большое значение эпохе с 1070 по 1130 год: для этого времени характерны появление новых городов и расширение старых, проникновение товарно-денежных отношений в деревню, установление торговых связей между городами. Однако эта динамичная, новаторская эпоха характеризуется также увеличением всякого рода податей и налогов со стороны сеньоров. Как соотносятся между собой эти два факта: экономический подъем происходит вопреки усилению феодального давления или же благодаря ему?»
Пока Жозефина писала, елозя локтем по клеенке, в голове вертелся вопрос: а не эта ли закономерность просматривается и в ее жизни? Оставшись один на один со счетами, по которым надо платить, она многому научилась и стала мудрее. Как будто опасность подстегивала ее, заставляла двигаться быстрее и работать, работать…
Если деньги не будут улетучиваться так быстро, следующим летом на каникулы я смогу снять девочкам дом, покупать им ту одежду, которая им нравится, водить их в театры, на концерты… Хоть раз в неделю мы будем наряжаться и ужинать в ресторане! Я схожу в парикмахерскую, куплю себе красивое платье, Гортензия перестанет стыдиться меня…
Жозефина немного замечталась, но сразу опомнилась: ведь она обещала Ширли помочь отвезти пироги на свадьбу. Большой заказ. Кто-то должен держать коробки, чтобы пироги не рассыпались в машине, и остаться за рулем, если не удастся припарковаться.
Она аккуратно сложила листочки с вычислениями и счета, положила на место карандаш и красную шариковую ручку. Некоторое время сидела неподвижно, покусывая колпачок, потом встала, накинула пальто и направилась к Ширли.
Подруга ждала ее на площадке, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения. Ее сын Гэри стоял в дверном проеме. Он махнул Жозефине рукой и закрыл дверь. Жозефина едва не вскрикнула от удивления, и Ширли это заметила.
– Что случилось? Ты увидела призрак?
– Нет, но Гэри… Я вдруг увидела в нем мужчину, того мужчину, каким он станет через несколько лет. До чего красив!
– Да, я знаю, женщины уже начинают обращать на него внимание.
– А он сам знает?
– Нет! И я не собираюсь ему об этом сообщать. Не хочу, чтобы он погруз в самолюбовании.
– Погряз в самолюбовании, Ширли, не погруз.
Ширли пожала плечами. На полу стояли коробки с горячими пирогами.
– Скажи… Его отец, наверное, был хорош собой?
– Отец его был одним из самых красивых мужчин на свете… Это было главным его достоинством.
Она нахмурила брови и махнула рукой, словно отгоняя неприятное воспоминание.
– Ну ладно… Что будем делать?
– Как скажешь… Ты у нас все знаешь, вот и решай.
Ширли тут же наметила план.
– Спускаемся вниз, ты стоишь с пирогами, я подгоняю машину, грузимся и едем. Вызывай лифт и держи дверь.
– А Гэри едет с нами?
– Нет. Заболел его учитель французского. Что-то он все время болеет. Вместо того чтобы учиться, парень валяется на диване и читает Ницше. У кого-то растут прыщавые балбесы, а у меня, видишь ли, интеллектуал! Пошли, теряем время на болтовню, move on[5]!
Жозефина молча повиновалась.
Через несколько минут коробки были погружены в машину, Жозефина села рядом, придерживая их рукой.
– Взгляни на карту, – велела Ширли, – мы можем как-то объехать авеню Бланки?
Жозефина взяла с пола план и стала его изучать.
– До чего ты медлительная, Жози!
– Это не я медлительная, это ты все время спешишь. Дай мне спокойно посмотреть.
– Ты права. Хорошо, что ты со мной поехала. Я должна спасибо тебе сказать, а не рявкать на тебя.
Вот за что я люблю эту женщину, подумала Жозефина, изучая карту. Если не права – всегда признает ошибку. Она предельно честна. Всегда и говорит, и делает то, что думает. Нет в ней ни лжи, ни фальши.
– Ты можешь проехать по улице Артуа, повернуть на Марешаль-Жофф, а там первый поворот направо, и ты попадаешь на улицу Клеман-Маро…
– Спасибо. Я должна была приехать туда к пяти, а тут они перезвонили и сказали, что надо быть в четыре, иначе я могу засунуть свои пироги куда мне угодно. Это важный клиент, он знает, что я буду его низкопоклонничать.
Когда Ширли волновалась, она делала ошибки, хотя в целом ее французский был безупречен.
– Общество издевается над людьми. Оно ворует у них время, единственную вещь, которой нет цены, которой каждый волен распоряжаться как хочет. Все устроено так, чтобы мы положили наши лучшие годы на алтарь экономики. И что же после этого нам остается, а? Годы более или менее мерзкой старости с ее вставными зубами и подгузниками! Есть в этом какая-то подлость, ну согласись!
– Наверное, ты права, но я не знаю, как это изменить. Тогда уж нужно менять все общество. Некоторые до нас пытались, и результаты были неутешительные. Если ты пошлешь куда подальше своего клиента, он найдет себе кого-нибудь еще, а ты потеряешь рынок сбыта своих пирогов.
– Да знаю, знаю… Я просто ворчу, потому что мне от этого легче! Выпускаю пар… А потом, можно же и помечтать.
Их подрезал какой-то мопед, Ширли выдала длинную тираду английских проклятий.
– Какое счастье, что Одри Хепберн разговаривала не так, как ты! Мне трудно было бы это перевести.
– Откуда ты знаешь? Может, она порой и облегчала душу крепким словцом. Просто этого не пишут в биографии, вот и все.
– Ну, она производит впечатление безупречно воспитанного человека. Ты обратила внимание, что все ее романы кончались замужеством?
– Опять же, так написано у тебя в книжке! На съемках «Сабрины» она крутила роман с Уильямом Холденом, а он был женат.
– Да, но в итоге она ему отказала. Он признался ей, что стерилизован, а она хотела кучу детей. Она была создана для этого. Для брака и детей…
Как и я, тихо добавила Жозефина.
– Да уж, после того, что она пережила в юности, ей только и грезился home, sweet home…[6]
– A-а! Ты тоже удивилась, да? Глядя на нее, никогда не подумаешь, что эта нежная, хрупкая девочка на такое способна.
Во время Второй мировой войны пятнадцатилетняя Одри Хепберн участвовала в голландском Сопротивлении. Она была связной, проносила важные донесения под стельками туфель. Однажды, когда она возвращалась с задания, ее задержали нацисты и с десятком других женщин повели в комендатуру. Ей удалось сбежать и спрятаться в подвале дома. В ее школьной сумке были только яблочный сок и кусок хлеба. Почти месяц она просидела в обществе голодных крыс, а на дворе уже стоял август 44-го, до освобождения страны оставалось два месяца. Полуживая от голода и страха, она как-то ночью вылезла из подвала и пробралась домой.
– А еще я обожаю историю про самую сексуальную женщину в мире, – сказала Жозефина.
– Что за история?
– После дебюта в Англии ее часто приглашали на вечеринки. А она была девушкой закомплексованной, стеснялась своих больших ног и маленькой груди. И придумала такую штуку: садилась в дальний угол и повторяла про себя: «Я самая желанная женщина в мире! Мужчины так и падают к моим ногам, мне остается только собирать их!» – повторяла, повторяла, и это срабатывало! К концу вечера вокруг нее так и роились мужчины!
– Надо и тебе попробовать.
– Мне?.. Ты что!
– Да, знаешь… ты чем-то похожа на Одри Хепберн.
– Хватит издеваться надо мной.
– Нет, правда! Осталось только сбросить лишние килограммы! У тебя уже есть большие ноги, маленькая грудь, огромные карие глаза и жидкие каштановые волосы.
– Вредина!
– Вовсе нет! Ты же меня знаешь: что думаю, то и говорю.
Жозефина чуть помялась, потом – очертя голову:
– Я приметила одного типа в библиотеке.
Она рассказала Ширли, как столкнулась с ним, уронила книги, расхохоталась, и как между ними сразу возникла некая связь.
– Каков он из себя?
– Похож на вечного студента… Носит шерстяное английское пальто с капюшоном. Такие пальто, как правило, носят вечные студенты.
– Или режиссер, который собирает материал, или кабинетный ученый, или историк, который пишет диссертацию о сестре Жанны д’Арк… Вариантов масса.
– Я впервые обратила внимание на какого-то мужчину с тех пор как… – Жозефина запнулась. Ей все еще трудно было говорить об уходе Антуана. Сглотнув, продолжила: – С тех пор, как ушел Антуан…
– А с тем парнем ты еще виделась?
– Один или два раза. Каждый раз он мне улыбался. Мы не можем поговорить в библиотеке, там это не принято, всем нужна тишина. Переговариваемся глазами. Он красивый, до чего же он красивый! И романтичный!
Они остановились на светофоре, Жозефина воспользовалась этим, чтоб достать из кармана карандаш и листок бумаги.
– Ты знаешь, Одри ведь еще снималась с Гэри Купером… У него какой-то странный английский.
– О, это был настоящий ковбой. Он родом из Монтаны. Он говорил не «yes» и «no», а «yup» и «nope». Человек, о котором грезили миллионы женщин, говорил, как простой работяга! И – не хочу тебя разочаровывать – он был не семи пядей во лбу.
– Вот он там еще говорит: «Am only in film because ah have a family and we all like to eat!» Как бы ты это перевела, чтобы сохранить ковбойскую речь?
Ширли почесала в затылке, нажала на газ, крутанула руль влево, потом вправо, обругала пару водителей, выбралась из пробки и выдала:
– Можешь написать так: «Дык я с энтим кином связался, тока шоб семейство свое прокормить, они ж все кушать хочут». Что-то в этом роде. Посмотри по карте, могу ли я повернуть направо, а то здесь все забито.
– Можешь. Но потом нужно будет опять налево.
– Я не я буду, если не доеду вовремя.
Жозефина улыбнулась. Рядом с Ширли жизнь всегда набирала обороты. Она не считалась с общепринятыми нормами, условностями и предрассудками. Она точно знала, чего хотела, и прямо шла к намеченной цели. Все для нее было просто и понятно. Жозефину иногда шокировала ее манера воспитывать Гэри. Она разговаривала с сыном, как со взрослым, ничего от него не скрывала, даже рассказала, как его отец сбежал сразу после его рождения, и обещала открыть имя беглеца, если Гэри захочется с ним поговорить. Объяснила, что была безумно влюблена, что родила его отнюдь не случайно, что сейчас мужчинам тяжело живется, женщины требуют от них все больше, а у многих силенок нет все это выдержать. Вот они и сбегают. Больше Гэри ни о чем ее не спрашивал.
На каникулы Ширли уезжала в Шотландию. Она хотела, чтобы сын узнал родину предков, выучил английский, приобщился к другой культуре. Последний раз Ширли вернулась мрачной, проронила что-то вроде: «На будущий год поедем в другое место…» и больше не возвращалась к этой теме.
– О чем ты думаешь? – спросила Ширли.
– Я думаю о твоей тайной жизни, о том, что ты мне не рассказываешь…
– Так это и к лучшему! Скучно знать о ком-то все.
– Ты права… Но знаешь, иногда мне хочется состариться побыстрей и понять наконец, что я за человек.
– Мне кажется… это, конечно, мое личное мнение… но стоит покопаться в своем детстве. Что-то там такое произошло, отчего тебя заклинило. Я часто не понимаю, почему ты так пренебрежительно к себе относишься, почему ты настолько неуверена в себе…
– Представь себе, я тоже не понимаю.
– Уже хорошо, начало положено. Вопросы – первая деталь пазла, который тебе надо собрать. Многие люди никогда не задают себе никаких вопросов, живут с закрытыми глазами и ничего не ищут…
– Это явно не про тебя!
– Точно. А теперь, надеюсь, и не про тебя. Раньше ты была полностью погружена в семью и свои исследования, но теперь ты высунула голову наружу и сможешь узнать много интересного, поверь! Как начнешь шевелиться, жизнь вокруг тебя тоже сдвинется с места. Никуда от этого не денешься. Далеко нам еще?
Ровно в четыре они увидели ограду дома, в котором располагалась домовая кухня Парнелла. Ширли припарковалась прямо у входа, перекрыв въезд и выезд другим машинам.
– Ты посидишь здесь и отгонишь машину, если кто будет возмущаться, а я пошла.
Жозефина кивнула, пересела на водительское место и смотрела, как Ширли управляется с пирогами. Широко шагая, она несла стопку коробок, прижав их к груди и придерживая обеими руками и подбородком. Ее и правда со спины можно принять за мужчину! В этом рабочем комбинезоне и куртке она похожа на какого-то мельника. Но стоило взглянуть ей в лицо, как она превращалась в Уму Турман или Ингрид Бергман – такую вот белокурую, высокую, плечистую красавицу с обаятельной улыбкой, белой кожей и кошачьими глазами.
Назад Ширли прибежала вприпрыжку, звонко расцеловала Жозефину в обе щеки.
– Дело в шляпе! Снимаемся с мели! Этот клиент, конечно, нервы мотает, но зато платит как следует! Сходим в кафе, съедим по мороженому?
Обратно они ехали не спеша. Под уютное урчание мотора Жозефина лениво обдумывала доклад и вдруг подскочила, позабыв обо всем на свете: высокий мужчина пересек улицу перед их машиной.
– Гляди! – воскликнула Жозефина, хватая Ширли за рукав. – Вон там, перед нами.
Мужчина с довольно длинными каштановыми волосами неторопливо переходил дорогу засунув руки в карманы английского пальто.
– Не особенно нервный парень… ты его знаешь?
– Это он и есть, тот парень из библиотеки! Ну этот… видишь, какой он красивый и какой… беспечный.
– Беспечный – не то слово!
– Какая походка! Он еще красивее, чем казался в библиотеке.
Жозефина откинулась на сиденье, испугавшись, что он ее заметит. Потом, не выдержав, привстала и уткнулась носом в лобовое стекло. Молодой человек в английском пальто обернулся и бурно замахал руками, показывая на светофор: уже зажегся зеленый.
– Ого! – воскликнула Ширли. – Нет, ты погляди!
Молодая, стройная, прелестная блондинка бросилась к нему, обняла. Одну руку положила в карман пальто, другой погладила его по щеке. Мужчина прижал ее к себе и поцеловал.
Жозефина опустила голову и тяжело вздохнула.
– Все ясно…
– Что ясно? – взревела Ширли. – Ясно, что он тебя не видел! Ясно, что он вполне может переменить мнение. Ясно, что тебе пора стать Одри Хепберн и охмурить его! Ясно, что надо поменьше лопать шоколада во время работы! Ясно, что ты должна похудеть! Ясно, что когда от тебя останутся одни глазищи и осиная талию, он упадет к твоим ногам! И тогда ты будешь совать руку ему в карман пальто! И тогда вы оба будете порхать от счастья! Именно так ты должна рассуждать, Жози, и только так.
Жозефина слушала ее, не поднимая головы.
– Видно, я не создана для бурных романов.
– Только не говори мне, что ты уже сочинила себе целый роман!
Жозефина уныло кивнула.
– Боюсь, что да…
Ширли нажала на газ, вцепилась в руль, машина резко рванула вперед, впечатав ярость хозяйки в горячий асфальт.
Утром, как только Жозиана пришла на работу, позвонил ее брат и сказал, что умерла мать. Хотя от матери ей никогда в жизни ничего, кроме тычков, не доставалось, она заплакала. Оплакивала умершего десять лет назад отца, свое детство, полное невзгод и страданий, материнскую нежность, которой не знала, веселье, которое не с кем было разделить, и добрые слова, которых никто не говорил, всю эту мучительную пустоту внутри. Она ощутила себя круглой сиротой и поняла, что стала ей на самом деле, отчего заплакала еще пуще. Она словно наверстывала упущенное: в детстве ей плакать не разрешали. Только наморщишь нос да пустишь слезу, как оплеуха свистя рассекает воздух и обжигает щеку. И сейчас, проливая слезы, она понимала, что тем самым протягивает руку помощи той маленькой девочке, которая не могла поплакать всласть, утешает ее, обнимает и жалеет. Смешно, она будто раздвоилась: тридцативосьмилетняя хитрая и решительная Жозиана, которая своего не упустит, и та, другая – маленькая чумазая неуклюжая девочка, у которой вечно болит живот от голода, холода и страха. Они соединились в этих рыданиях, и обеим было хорошо.
– Что здесь, в конце концов, происходит? Это какой-то кабинет плача, честное слово. И вы вдобавок к телефону не подходите!
Анриетта Гробз, прямая, как палка, в шляпе, похожей на огромный блин, разглядывала стоявшую у стола Жозиану, которая только сейчас заметила, что звонит телефон. Она подождала, когда звонки прекратятся, достала из кармана скомканный одноразовый платочек и высморкалась.
– Моя мама… – всхлипнула Жозиана, – умерла…
– Понимаю, печально, и тем не менее… Все рано или поздно теряют родителей, и надо быть к этому готовым.
– Ну что делать. Значит, я не была готова.
– Вы уже не ребенок. Возьмите себя в руки. Если все служащие понесут на предприятия свои личные проблемы, во что превратится Франция?
Взрыв чувств на работе – такую роскошь может позволить себе начальник, но никак не секретарша. Потерпела бы до вечера, а дома рыдай, сколько влезет! Она всегда недолюбливала Жозиану. Ей не нравилась ее самоуверенность, не нравилось, как она ходит, крутя задом, вся такая гладкая, полная, грациозная, как кошка, не нравились ее пышные светлые волосы, а особенно глаза. Ах! Какие у нее глаза! То смелые, живые, дразнящие, то плывущие, томные… Анриетта часто просила Шефа уволить ее, но он не соглашался.
– Мой муж здесь? – спросила она у Жозианы, которая, выпрямившись, упрямо глядела в сторону и следила за мухой, лишь бы не смотреть в лицо ненавистной старухе.
– Он где-то в здании, скоро вернется. Можете посидеть у него в кабинете, он будет с минуты на минуту… Дорогу знаете!
– Повежливей, деточка, вы не смеете говорить со мной в подобном тоне, – ответила уязвленная Анриетта.
Жозиана вскинулась, как гремучая змея:
– А вы не смейте называть меня деточкой! Я Жозиана Ламбер и вовсе не ваша деточка! К счастью! А то бы давно уже сдохла.
Как же мне не нравятся ее глаза, подумала Жозиана. Маленькие, холодные, злые, скупые глазки, расчетливые и подозрительные. Как же не нравятся мне ее сухие тонкие губы и белесый налет в уголках рта. Гипс, что ли, во рту у этой женщины? Вечно обращается со мной, как с прислугой. Нашла чем гордиться: тем, что вышла замуж за хорошего парня и выехала на нем из нищеты. Пристроилась, нашла себе тепленькое местечко – а я вот возьму и перекрою ей отопление. Хорошо смеется тот, кто смеется последним!
– Будьте осторожны, крошка Жозиана, учтите, муж со мной считается, а я могу решить, что вам не место в нашей фирме. Секретарш кругом полно. На вашем месте я бы следила за своей речью.
– А я на вашем месте не была бы так самоуверенна. Не мешайте мне работать и подождите в кабинете, – заявила Жозиана настолько властным тоном, что Анриетта Гробз послушалась и проследовала в кабинет скованной походкой робота.
На пороге она обернулась и, нацелив на Жозиану угрожающий перст, добавила:
– Мы не закончили, крошка Жозиана. Вы еще обо мне услышите, и могу я вам дать добрый совет: пакуйте вещички.
– Там будет видно, мадам. Я таких паршивок немало встречала и ничего, справлялась. Зарубите это себе на носу.
Она услышала, как хлопнула дверь кабинета Шефа, и довольно улыбнулась. Старая ведьма в бешенстве! Один – ноль в мою пользу. Зубочистка ее возненавидела с первой встречи. Жозиана никогда не опускала глаз перед ней, смотрела с вызовом. Эдакая дуэль двух фурий. Одна сухопарая, костлявая, злобная, другая – пухлая, розовая, игривая. Но обе яростные и непримиримые!
Она позвонила брату узнать, когда похороны, подождала немного – номер был занят, – перезвонила еще раз, еще подождала… «Сможет ли она в самом деле меня выгнать? – внезапно подумала она, слушая короткие гудки в трубке. – Сможет или нет? Вообще-то, не исключено. Мужчины такие трусы! Возьмет да переведет меня в другой офис. В филиал. И я окажусь далеко от командного пункта, где я с таким трудом освоилась и где уже начинаю пожинать плоды». Ту-ту-ту, пищала трубка. Надо быть начеку. Ту-ту-ту… Она не позволит заморочить ей голову красивыми словами, хотя Марсель на них мастак!
– Алло, Стефан. Это Жозиана…
Похороны состоятся в субботу, на кладбище в деревне, где жила мать, и Жозиана, поддавшись внезапному порыву сентиментальности, решила поехать. Посмотреть, как ее мать навсегда опустят в черную яму и закопают. Тогда можно будет попрощаться и, наверное, шепнуть ей, что она была бы рада ее любить…
– Она завещала себя кремировать.
– Да ну? С чего бы это?
– Боялась проснуться в темноте…
– Я ее понимаю.
Мамочка боялась темноты. Жозиану охватила внезапная нежность и жалость к матери, она вновь заплакала. Положив трубку, высморкалась и вдруг почувствовала чью-то руку на плече.
– Что-то случилось, мусечка?
– Да, мама умерла…
– Тебе плохо?
– Ну да…
– Иди ко мне…
Шеф сел на ее место, обнял за талию и усадил к себе на колени.
– Обними меня за шею и сиди так… Как будто ты мой ребенок. Знаешь, я всегда мечтал, чтобы у меня был свой малыш.
– Да, – всхлипнула Жозиана. Ей стало полегче в этих больших ласковых ручищах.
– А она так и не захотела мне его родить.
– Может, это и к лучшему… – сморкаясь, прошептала Жозиана.
– Хорошо, что ты у меня есть – сразу и жена, и ребенок.
– Не жена, а любовница… Жена в кабинете ждет.
– Что?
Шеф подскочил, словно ему в задницу воткнули гвоздь.
– Ты уверена?
– Мы тут перекинулись словечком…
Он растерянно потер лоб.
– Поругались?
– За что боролась, на то и напоролась.
– Ах ты ж! Мне сейчас позарез нужна ее подпись! Сумел сбагрить англичанам прогоревший филиал, ну ты знаешь, тот самый, в Мюрпене, я давно хотел от него избавиться… Надо чем-нибудь ее подмазать! Вот отчего бы тебе, мусечка, не подождать и не пособачиться с ней в другой день? Что мне теперь делать?
– Она потребует у тебя мой скальп…
– Что, прям настолько?
Он был явно обеспокоен. Принялся шагать взад-вперед по комнате, вертелся на месте, махал руками, разговаривал сам с собой, потом стукнул ладонью по столу и бессильно рухнул на стул.
– Ты так ее боишься?
Он горько улыбнулся, как поверженный воин, и поднял руки вверх, прося пощады.
– Пойду все же к ней…
– Да, посмотри, наверняка роется у тебя в ящиках.
Шеф с огорченным видом пошел к двери, хлопая себя по бокам, словно извиняясь за свое постыдное поражение. Вдруг обернулся, сутулый, подавленный, и робко, тихо спросил:
– Обиделась, мусечка?
– Иди уже…
Она все знала про мужскую отвагу и не надеялась, что он ее защитит. Много раз видала, как он дрожал после встречи с Зубочисткой. Ничего она от него не ждала, разве только ласки и тепла в постели. Просто дарила своему толстому добряку радость, которой он был начисто лишен в жизни, и сама тоже радовалась, ведь в любви отдавать не менее важно, чем получать. До чего же здорово чувствовать, как он млеет под ее тяжестью и замирает от счастья! Закатывает глаза, открывает рот в безмолвном крике. Она наслаждалась своим могуществом, своей почти материнской властью. Сколько их у нее было! Одним больше, одним меньше… Этот хотя бы славный, добрый. Она привыкла к ощущению власти, сроднилась и с ним, и с ее милым пупсиком, таким щедрым в любви. Может, и впрямь надо было помолчать в тряпочку? Жозиана мужчинам не доверяла. Впрочем, как и женщинам. Она и себе не очень-то доверяла! Порою собственные поступки ставили ее в тупик.
Она встала, потянулась и решила выпить кофе, чтобы привести мысли в порядок. Перед уходом еще раз подозрительно покосилась на дверь кабинета. Что там, интересно, делается? Уступит ли Шеф шантажу, принесет ли ее в жертву на алтарь чистогана? Мать так и называла деньги – бог Чистоган. Его, бога, все любят, но только мы, малые и сирые, пресмыкаемся перед ним. Мы не принимаем деньги как должное, не отнимаем у других, – мы их возвышаем, обожествляем. Готовы ползать на карачках за любой мелкой монеткой, подбираем ее, протираем до блеска, вдыхаем ее запах. Смотрим, как побитые собаки, на богача, который ее обронил и даже не удосуживается за ней нагнуться. И я ведь тоже, сколько бы ни прикидывалась сильной, свободной женщиной, на самом-то деле всю жизнь лишь ему поклонялась – богу Чистогану, которому обязана и потерей девственности, и первыми тумаками, который унижал меня и с грязью смешивал, а все равно – как увижу богатого, ничего не могу с собой поделать, смотрю на него снизу вверх, как на нового Мессию, готова курить ему фимиам и умащать его миррой.
Разозлившись на себя, она резко одернула платье и решительно направилась к кофейному автомату. Бросила монетку, дождалась, когда аппарат устанет плеваться черной желчью, двумя руками обхватила пластиковый стаканчик, словно пытаясь согреться.
– Какие планы на вечер? Старика ждешь?
Это был Брюно Шаваль, тоже пришел за кофе. Достал сигарету, постучал ей по пачке, прежде чем закурить. Он курил сигареты в желтой маисовой бумаге – высмотрел такие в старых фильмах.
– Не называй его так!
– Что, любовь вернулась, курочка моя?
– Я не выношу, когда ты зовешь его стариком, ясно?
– Значит, все-таки любишь своего толстого папика?
– Ну да, разумеется.
– Надо же! Раньше ты мне этого не говорила…
– Да мы вроде на разговоры никогда времени не тратили.
– Видать, ты не в духе, я лучше помолчу.
Она пожала плечами и прижалась щекой к горячему стаканчику.
Некоторое время они стояли молча, не глядя друг на друга, и пили кофе маленькими глотками. Потом Шаваль подошел поближе и, прижавшись к ней сбоку, как ни в чем не бывало красноречиво качнул бедрами, просто чтобы проверить, сердится ли она. Поскольку Жозиана не двигалась, но и не отстранялась, он уткнулся носом в ее шею и вздохнул:
– М-м-м… ты вкусно пахнешь хорошим мылом. Страшно хочется повалить тебя и нюхать, нюхать, не торопясь.