Прыжок в ледяное отчаяние Шахова Анна
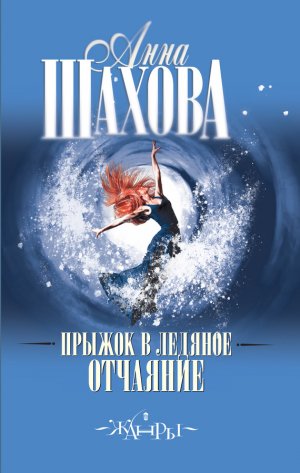
Люша замерла. На пакете были изображены две склоненные друг к другу березы, над которыми полукругом шла надпись «Ваш любимый магазин «Березоньки». Единственный и неповторимый в Москве». Этот магазин, находившийся в соседнем с шатовским доме, цеплялся за существование из последних сил: маленькие продовольственные в Москве выжила торговая сеть с броским цветочным названием. Хозяйка «Березонек» знала не один год Шатову — Люша помогала бойкой Людмиле и ее мужу сажать возле входа в кадки тонюсенькие плакучие березы, которые прекрасно прижились и стали символом магазинчика.
— Вот, чек от пятницы. Ваш супруг позавчера навещал меня и привозил гостинцы. Все никак их не доем. Ну, да Саша такой ведь щедрый и непрактичный — не мне вам объяснять, — дружелюбно пояснила разлучница, протягивая Люше чек.
Подготовилась Земцова хорошо. Просто отлично она подготовилась к встрече с соперницей! Люша, посмотрев на чек и не поняв в нем ничего, подняла глаза на Танечку. Она внимательно и задумчиво изучала решительную складку подведенных губ, горящие карие глаза, оттененные ярко и умело, вытянутые феном каштановые волосы — подстриженные и выкрашенные так, как надо. Да, Земцова вполне вписывалась в тот мир, к которому стремилась любыми средствами. Суть она уже усвоила: ценятся не стрижечки, а сделанные по непреложным законам головы.
Огненный взор архивистки сменился раздраженно-недоуменным. И Люша отвела глаза, сказав тихо, но твердо, как опытный диагност:
— Вы, конечно, всего добьетесь. И домов, и пароходов, и богатых мужчин — тех, что не чета Шатову. А потом начнется самое интересное. Как у бедной Михайловой. Я все думаю, на кого же вы похожи? На Викторию, да… И вот потом, после пароходов, начнутся прыжки и кульбиты. Прыжки…
— Вы пытаетесь меня запугать моим будущим? — улыбнулась, празднуя полную победу, Танечка.
— Я вам пытаюсь сочувствовать.
Люша застегнула куртку, прижала к себе пакет и стала открывать дверь.
— Давайте сегодня посочувствуем Ленке! — крикнула Танечка Люше в затылок.
— Да, конечно. Но в то же время мертвый не значит неживой, — выдала очередной «бред» сыщица и спокойно вышла из квартиры.
А потом исчезла… В 14.30, после встречи с отцом погибшей Поспеловой, она позвонила сыну и бодрым голосом сообщила, что несколько дней отдохнет у друзей. Телефон выключит. Котька, конечно, насторожился, но, зная интонации эмоциональной маменьки наизусть, не слишком встревожился. Она показалась ему достаточно спокойной.
— Честно говоря, я подумал, что это из разряда романтических экспериментов. Пап, ну ведь что-то у вас происходит?! Я это уже давно почувствовал. И потому не слишком осудил мамин порыв. Прости. Но все мы уже взрослые.
Константин мотался мимо съежившегося в кресле отца по гостиной родительской квартиры, которая в двухдневное отсутствие хозяйки стала неприбранной, блеклой и даже странно скукожившейся. Свежесть и свет, присущие просторному жилищу Шатовых, будто выхолостились под действием темной удушливой силы. Окурки мужчины выбрасывать не удосуживались, поэтому амбре от плотно забитых пепельниц и клубы табачного дыма пропитали светлую мебель, воздушные шторы и ковры с длинным ворсом, над чисткой которых Люша еженедельно корпела.
— Кость, уже вечер среды! Третий день, ты понимаешь?! Какие романтические эксперименты?! Никогда она не бросит вот так, в порыве… не знаю чего — тебя, дом, ящики эти свои на окне! Ну, и меня, я думаю… надеюсь… — Александр прикурил очередную сигарету от догоравшей.
— И ты сам прекрасно знаешь, что никаких друзей у матери, кроме Светки, нет! Просто не существует таких людей, к которым она могла бы свалиться как снег на голову.
— А тетя Алла? А Злобины?
Отец отмахнулся от сына, встал с кресла, подошел к лоджии и распахнул дверь настежь.
— Папа, ну что-то надо предпринимать?! — Константин сел на место отца, и теперь Шатов-старший заходил от стены к стене.
— Что еще мы можем сделать, если «великие» сыщики и в некотором роде коллеги уже вовсю ищут? Даже телефон не могут отследить! Вот куда она телефон дела? — Шатов с силой захлопнул балконную дверь.
Костя стиснул голову руками:
— Я не могу думать о худшем! Я… не смогу… Убью этого Влада! Вместе со Светкой. Курица! — Шатов-старший повалился в бессильном отчаянии на диван. Под руку попалась вышитая женой подушка в виде улыбающегося солнца. Только присутствие сына удержало отца от бессильного крика и кидания лицом в это олицетворение Люшки. Лучезарной, звонкой, смешной. Такой родной и глупой. При всем уме и тонкости.
Похоронное молчание взорвал звонок. В дверь. Мужчины бросились к входу, но Костя оказался проворнее. На пороге стоял сосредоточенный Сергей Быстров.
— Вечер добрый, — кивнул он, входя в квартиру. — Новостей нет. Но разговор есть. Александр? — Он строго посмотрел на Шатова-старшего. Саша побледнел и задергал ртом.
— Говори при сыне. Что?
— Да проходите в комнату! — крикнул Костя.
Когда мужчины расселись в креслах и на диване, Быстров протянул Саше листок.
— Это адрес, по которому проживала Елена Поспелова вместе со своей подругой Татьяной Земцовой.
Шатов открыл в изумлении рот, но сказать так ничего и не смог.
— По словам Влада, который общался сегодня с этой Земцовой на ее работе в Останкино, между женщинами в понедельник состоялся неприятный разговор. Характер его тебе понятен? — Быстров почесал длинный нос и испытующе посмотрел на Сашу.
— Чертовщина. Этого просто не может быть, — Шатов то пялился в листок, то смотрел, скорчив натужную гримасу, на Сергея.
— В принципе меня эта информация успокаивает. Я отметаю криминальное развитие событий и думаю, Юля скоро даст о себе знать. Когда успокоится.
Костя вскочил с кресла и, подойдя к отцу, нацелил на него палец:
— Я так и знал, что ты виноват! Я был убежден. И я теперь сам найду маму!
Он рванулся в коридор, но путь ему преградил Быстров.
— Подожди, Костя. Если ты помчишься в неизвестном направлении, все только осложнит ситуацию. Я уверен, что завтра, самое позднее послезавтра, мама будет дома.
— Да почему вы так уверены?! Вам привычно все это. Пропавшие люди, страсти-мордасти и другая чертовщина. А нам-то дико! Я поеду к тете Алле.
— Костя, я звонил тетке сегодня утром. Она бы уже дала знать, если бы мама появилась у нее. — Шатов подошел к сыну, неловко обняв его. Тот отворачивался и прятал мокрые, злые глаза.
Отец сильно тряхнул Костю за плечи и тихо сказал-отчеканил ему в лицо:
— Я люблю маму, и это главное. И все, поверь мне, все у нас будет хорошо. Ты можешь поверить мне? И я… пойму. Надо хорошенько подумать, и я пойму — где она!
Костя шмыгнул носом и обмяк в руках отца.
— А вы не пытались отправить ей письмо по электронке? — кашлянув, разрядил обстановку Быстров. Под недоуменными взглядами хозяев он поднялся с кресла, жестикулируя, будто пояснение требовало наглядности.
— Если она решила побыть одна и… ну, может, и наказать кого-то, преподать урок… Словом, она может находиться в месте, где есть компьютер и Интернет. Пансионат какой-нибудь, гостиница или что-то в этом роде. И тогда наверняка она смотрит новости и проверяет почту. Может, даже ждет сообщений от Влада, Светланы и, конечно, Кости.
— А от меня не ждет? — зло бросил Шатов-старший, подходя к журнальному столику и беря с него сигареты. — И не проще ли было бы анализировать собственный телефон? Все это совершенно не похоже на Юлю и… бессердечно…
Быстров снова откашлялся и деловито распорядился:
— Включим компьютер, посмотрим почту, все известные нам ящики, и напишем ей письмо. У меня для Юли есть грандиозное сообщение. Дневник Михайловой переведен, и я на флешке принес русский текст. Высылать его ей не буду. Пусть приедет домой, на приманку, так сказать, и читает с удовольствием.
Идея о приманке, на которую нужно завлекать мать семейства в родной дом, не слишком понравилась Шатовым, но они промолчали, обменявшись выразительными взглядами. Криминальные изыскания Люши, похоже, страшно раздражали ее мужчин.
Быстров извлек красную флешку из своего компактного портфеля и потряс ею перед Александром:
— Думаю, после уточнения некоторых деталей можно будет предъявить обвинение подлинному преступнику.
— Значит, этот молоденький Пыжов или как там его, ни при чем? — спросил Саша, пытаясь загасить сигарету, ввинчивая ее в гору ощерившихся окурков в пепельнице.
— Категорично не берусь утверждать. Но Стрижова отпустили под подписку о невыезде, не предъявив обвинения. Вообще цепочка фактов любопытная. Давайте я напишу все подробно Юле, и вы прочтете. И поправите слог, если нужно.
Костя уже вышел из комнаты и включил в кабинете отца компьютер. Он активно стучал по клавиатуре, видимо, вдохновленный идеей написать матери, а Быстров со старшим Шатовым прошли на кухню.
— А ты что же? Ввязался в это дело все-таки? — сочувственно хмыкнул Саша, включая чайник.
— В Москве я по другому делу, но из-за Юли и интересного поворота с дневником этой Михайловой решил завтра сачкануть и помочь Владьке. Переночую у Светкиных родителей, повстречаюсь утром кое с кем. Порасспрашиваю. Словом, есть у меня идея.
— Вот и у моей — все идеи. И все — молчком. Что касается игрищ в расследования. Ты кофе, чай? — Шатов достал турку.
— Давай кофе, что ли, — Быстров крутил флешку в руках и размышлял о Юле, которая не уставала поражать его наблюдательностью и чутьем.
— Можешь, конечно, называть это все игрищами, но твоя жена может быть отличным сыщиком.
— Вот утешил-то! — раздраженно отозвался Саша.
В молчании они выпили кофе, а потом взялись за быстровское письмо пропавшей дознавательше.
В это же время Владислав Загорайло находился в кабинете следователя Епифанова, не давая тому возможности спокойно отправиться к семейному очагу. Впрочем, Алексей Алексеевич на редкость живо отреагировал на исчезновение экстравагантной Шатовой и потому готов был приложить дополнительные усилия по раскрытию «михайловского дела», которое разбухало и, кажется, выводило из себя уравновешенного майора. К вечеру среды картина вырисовывалась странная.
Присутствие Стрижова в квартире Михайловой двадцать пятого числа подтвердить никто не мог. Орудие убийства Мячикова не найдено. В доме историка был произведен обыск, который ничего не дал. Ножи, по уверению матери подозреваемого, все на месте, компрометирующих записей, дневников, предметов, прежде всего настойки аконита или производных из него не обнаружено. С чайной банки, в которой хранился «Пуэр», отпечатки были стерты. Как и ожидалось. Елену Поспелову убил все тот же алкалоид аконитин, добавленный в чайник с заваркой. Гипотетически яд мог отправить на тот свет всех троих участников трапезы. Стрижов утверждал, что выпил две чашки чая. И остался жив. Слова его проверить не представлялось возможным — чашки вымыты, а Сверчков, едва державшийся на ногах после больницы, не помнил, кто и что пил. Сам Сверчков, по его словам, к чаю вообще не прикасался. Перед приездом Олега и Алены выпил бульона и мечтал лишь добраться до постели. Значит, чай пила одна Поспелова. И Стрижов готов был пожертвовать жизнью Алены, лишь бы добить тестя? Но что за маниакальное упорство? Что тесть вообще знает? Анатолий Сергеевич будто впал в ступор и казался последние два дня маловменяемым — показаний не давал. Впрочем, отчаянные действия Олега Валерьяновича тоже не были похожи на адекватные. Ушлый адвокат вытащил после сорокавосьмичасового задержания своего подопечного. До перевода дневника Виктории у Стрижова как бы и не существовало мотива, а сам подозреваемый клялся, что ни о каком доведении до самоубийства Лизы и речи не шло. С другой стороны, и алиби на момент убийств у историка не было. Самым подозрительным выглядела отмена занятий двадцать пятого, в момент гибели тещи. Зубного Олег не посещал, к Марине не ездил, как отчетливо слышал Влад. Но подслушанный разговор к делу не пришьешь, а показания Архиповой — пожалуйста. И девушка с пеной у рта доказывала, что «Олежка отдыхал у нее двадцать пятого днем, потому что ему нездоровилось».
— Что же ты его не припер к стенке тогда, не заставил признаться, когда подслушал разговор в институте? — Епифанов, сидя за рабочим столом, болтал ложкой в чашке, размешивая шесть кусков рафинада в кофе.
— Сплоховал. Каюсь. Думал, под воздействием общего прессинга и обличений Сверчкова стена падет. — Влад сидел напротив майора и дул на кофе, в который больше трех кусков сахару класть не мог. Раньше вообще пил несладкий, теперь вот приучался к приторному. Но таких высот, как Алексей Алексеевич, достигнуть, пожалуй, не смог бы никогда: на четвертом куске от кофе выворачивало челюсти.
— Ох, манера у тебя, Загорайло, выражаться, — Епифанов поцыкал зубом. — Как бы это поточнее выразить. Как у уволенного трагика! Во, точно.
— Почему уволенного? — прыснул Влад.
— Потому что действующему актерства хватает на работе.
— Так это и есть часть моей работы. Я ее воспринимаю как искусство! Как служение прекрасной Фемиде — родственнице, в некотором роде, Мельпомены.
— Ну-у, понеслась душа в рай. И этот мне с греками голову морочить будет. — Епифанов отмахнулся от Влада, закрывая тему.
— Сколько с этим переводом еще валандаться? На дневник Михайловой вся надежда.
Оперативник хлопнул себя по лбу:
— А вот главного-то я и не сказал! Готовый перевод должен вот-вот прийти мне на почту от коллеги. Правда, я подумал, что все это откладывается до завтра — ведь до компьютера я доберусь лишь поздно вечером.
— Ну, арти-ист! — возмутился Епифанов. — У нас же тут, в столицах, компьютеров не имеется. Ну как же. Знаете, Владислав Евгеньевич, это уже просто непрофессионально. Давай, влезай в почту и пересылай мне текст. И оригинал! Завтра же чтобы оригинал был у меня на столе.
Влад сник и, буркнув «есть», сел к епифановскому компьютеру.
В этот момент зазвонил рабочий телефон следователя. Алексей Алексеевич сосредоточенно выслушал говорящего и горячо поблагодарил, после чего обратился к Загорайло:
— Ваш приятель — предприимчивый консьерж Василий Николаевич Тутышников, сиречь домушник Иван Николаевич Береговой, приказал долго жить. Нашли его в Подмосковье с раной на шее. Били сзади, хлебным ножом с волнистым краем.
Влад резко повернулся к следователю.
— Но в убийстве «из корыстных» уже сознался рецидивист-карманник. Он приютил беглого Берегового, но не вынес, видать, близости награбленных сокровищ.
— И велики сокровища?
— А вот это я уже не уточнял.
Епифанов встал, потягиваясь.
— Сравним, конечно, нож и рану Мячикова, но… вряд ли…
— Вряд ли, — согласился Влад и, постучав по монитору пальцем, значительно изрек:
— Потому что у нас, похоже, высвечивается совсем другой подозреваемый.
— …Иулия, идите, чайку попейте. — Послушница Елена, крупная, румяная, в необъятном черном ватнике и в черном платке до бровей категорично взяла скребок из рук Люши.
Сыщицу не узнал бы и родной муж. Замотанная в долгополую юбку поверх джинсов, в куртке с чужого, великаньего плеча и темной косынке, из-под которой выбивались, как ни заправляй, упрямые кудри, Шатова чистила от наледи дорожку к центральным воротам Голоднинского монастыря. В прошлом году Люша помогла раскрытию убийства и кражи в обители. Здесь же Светлана встретила Сергея, и их жизнь круто изменилась. В судьбе же Люши внешне ничто не поменялось. Семья, сад, хозяйство, книги… Но когда она села в машину после встречи с растерянным, дрожащим отцом убитой Поспеловой, решение побыть в тишине и оторванности от мира в ней уже сформировалось столь твердо, будто женщина многие месяцы вынашивала эту идею, да не могла — в угоду суете, лени, духовной неповоротливости — осуществить. О возвращении домой даже думать не хотелось. Не было нужды ни в объяснениях с мужем, ни во встрече с сыном, ни в телефонных жалобах подруге. Ни в словах, ни в действиях, да даже в сыщицком азарте — смехотворном, в сущности, потребности не существовало.
Юля не верила Земцовой. Не верила в уход мужа из семьи. Но и мужу отныне верить она не могла. Впрочем, себе она верила и того меньше: внутренняя суета и болтливость, путаность мыслей и круговерть желаний, решений, ненужных починов придавили бессмысленным и неподъемным бременем. Шатова сидела в откинутом до упора кресле своей машины, ежилась под натиском горячего воздуха из печки и никак не могла согреться. Запрокинув голову, она смотрела на рекламную вывеску. Милая престарелая актриса с плачущей улыбкой и вылепленными губами предлагала помаду. «Расцвети свою жизнь», — призывала вышедшая в тираж звезда, всем своим смятенным видом опровергая этот плоский слоган. Картинку Люша изучала под скороговорку радионовостей на любимой Сашиной волне.
День выдался «хлебный»: бывший глава МВД задержан за сутенерство; девочка сломала шею в детском саду; Ринат Шабаров лишился прав за езду в пьяном виде по встречке. Ликование и экстаз. Все одно к одному…
«Хватит!» — Люша щелкнула приемник «по носу», и он заткнулся. «Мне требуется передышка. Смена обстановки. Что еще говорят в таких случаях? Поездка в тепло, к морю. Развлечения. Впечатления…» Шатова подняла спинку кресла и приоткрыла окно. Холодный воздух плеснул в лицо. «Ерунда. Будто расстояние может перенести из бессмыслицы к истине, а курортная картинка одарить духовной твердостью и покоем. Нет! Никакие курорты и культурные мероприятия не помогут». Люше не хотелось отдыхать и развлекаться. Ей необходимо было найти точку опоры. И она с теплым чувством вспомнила о зримой и внутренней тишине обители, как о давнем и проверенном лекарстве. Шатова не стала активной прихожанкой храма, но дважды за год — в самые сложные моменты она вспоминала о монастырской защищенности, как о последнем, крайнем средстве спасения. Отправив сообщение сыну, она поехала в Голодню.
Тишина и статичность пространства рождали ощущение вселенской незыблемости. Башни-стражи у входа, белые стены, прямая дорога, свеча-колокольня, храм — тянущийся ввысь синью куполов, задавая цветовой камертон небу. Лишь вороньи переклички резали трезвящий мартовский воздух, да тихое скольжение черной фигуры вдали, у храмовых дверей или по тропинке к сестринскому корпусу напоминали, что это не картинка на застывшем полотне. Это — особая жизнь.
Люшу приняли тепло. С расспросами не лезли. Мать Нина — келейница настоятельницы, высокая, с асимметричным, но милым, улыбчивым лицом, обняла Иулию при встрече, провела в сестринскую трапезную. Дала время поплакать, собирая на стол: чай, монастырский мед, постные коврижки. Стояла середина Великого поста, и еда готовилась предельно аскетичная: каша с овощами, щи, фасоль. Благочинная монастыря — мать Капитолина — худенькая инокиня в очках, серьезная, прячущая отзывчивость за внешней сухостью, распорядилась, в отсутствие настоятельницы, уехавшей по благословению владыки на несколько дней в Печоры, трапезничать Иулии с сестрами, а не с паломницами. Трудниц постом всегда хватало, но общение с богомолками было бы для сыщицы в тягость. Глядя на застывшее, серое лицо Люши, которую сестры помнили деятельной и задиристой, все понимали, что женщине нужно побыть наедине с собой. И Богом. Который все управит.
Мать Капитолина предложила выбрать из двух послушаний: кухня или чистка дорожек. Сторож Дорофеич, маленький старик-калека с отмороженными стопами, который следил за порядком во дворе, преставился Рождественским постом. Умер тихо, со сложенной для крестного знамения рукой. Тромб. Люша, не раздумывая, выбрала работу на улице. Ей выдали куртку, рукавицы и скребок с лопатой. С семи до девяти трудница отстаивала Литургию, ела и шла трудиться. За три дня паломница не сказала и пяти фраз. И внутренняя болтовня почти утихла к исходу среды. Когда послушница Елена позвала Юлю пить чай перед вечерней службой, та видела перед собой лишь ледяное крошево, а не Танечкин оскал, и тихонько выпевала «Иже херувимы», а не вышептывала Саше грозные, но жалкие слова, которых после стыдишься долго, краснея наедине с собой.
Чай сестры пили вразнобой, кто когда мог, поэтому это не носило обязательной строгости монастырской трапезы: степенной, с чтением святых отцов. Проговорив про себя «Отче наш» и «Богородицу», повернувшись к иконе Спаса, Люша присоединилась к чаевничающим: матерям Анне и Зинаиде. Инокиня Анна — высокая, с резкими чертами лица, лет пятидесяти пяти, отличалась медлительностью, напевностью речи и особым выговором. В миру она работала экскурсоводом краеведческого музея. Мать Зинаида, напротив, была маленькой, сухой и подвижной, с привычкой поминутно кивать носатой головой, будто клевать. Возраст ее определить Люша не могла. Когда Зинаида читала часы перед службой дребезжащим голоском, казалась семидесятилетней старушкой, когда драила пол в храме — пятидесятилетней «ягодкой».
— Как, Юлечка, не слишком тяжело послушание? Я, признаюсь, больше пяти лопат снега кинуть не могу. Валюсь в сугроб, — широко улыбнулась Анна. Она пила чай с лимоном из блюдечка.
— Ничего. Молодая вон, бойкая, — намазывая варенье на хлеб, кивнула Люше Зинаида.
— Бери-ка калинку. Блеск, а не варенье, мать Татьяна наварила! Ни горечи, нифе-фо, — Зинаида откусила щедрый ломоть.
— А мы вот с матерью углубились в дебри психологические, соотнося проблему медицинского характера с догматической позицией Церкви о грехе. Все это взаимосвязано, но вот я берусь утверждать, что современная наука может стать подспорьем в решении личностных психологических проблем, а мать Зинаида науку отметает с порога.
— И ничего не с порога! Медицина твоя лишь так, по верху мажет. Как это все говорят? Во! Симптомы снимает. А корень остается. Грех-то не исповедан, не вырван, значит — он в тебе втихомолку, задавленный действует. А потом ка-ак жахнет! — инокиня звонко хлопнула по столу, но тут же с опаской руку отдернула и заозиралась: мать-настоятельница таких жестов не потерпела бы.
— А вы конкретный случай рассматриваете или абстрактно, теоретически рассуждаете? — Люша с интересом подключилась к беседе инокинь, берясь за любимые сушки с ванилью. Первую чашку чая она уже выпила с устатку просто так, пустую.
Анна потупилась, а Зинаида вздохнула:
— Да нет. Брата моего обсуждаем. Ему шестьдесят скоро, а он все на одни и те же грабли наступает. В пятый раз женится. На близняшке.
— Как?! — опешила Юля.
— Да в смысле на такой же, как и прежние, на… как это поприличнее сказать…
— Мать Зинаида имеет в виду, что Иван выбирает женщин, и внешне, и внутренне похожих друг на друга. Отличительные черты — хамоватость: неприкрытая, скандальная; южный тип лица и всенепременно — выдающийся низ. Ну, в смысле таз. — Мать Анна всерьез задумалась, какое определение подобрать — точное, но корректное.
— Больше, чем у третьей, задницу, конечно, не найти, — клюнула личиком Зинаида и вздохнула. — Но и у последней седалище выдающееся. И гонор.
— Он привозил ее на прошлой неделе, — сочувственно пояснила Анна.
Люша подавила рвущийся наружу смешок и спросила, потупясь:
— А в чем вы видите тут патологию? На вкус и цвет товарища, как говорится…
Инокини переглянулись.
— Да там уже не о вкусе речь идет, а о болезненном пристрастии к униженности, боли, — тихо сказала Анна.
— Понятно. Мазохистские наклонности, — догадалась Люша.
— Да грех! Плотская мерзость и разнузданность. Говорю же — умными словами все что ни попадя поназывали, а вылечить все одно только Господу под силу.
Разговор перешел на другую, монастырскую тему, но Люшу беседа о Зинаидином брате натолкнула на неожиданную мысль. Обмусолив ее в течение вечерней службы, сыщица вышла из храма с горящими глазами и в привычной боевитости. Она догнала мать Анну, которая шла по тропинке от храма.
— Матушка, у вас Интернет работает? Вы уж простите, что я с личным…
— Что вы, Юлечка! — всплеснула руками Анна. — Ваш живой взгляд мне нравится много более, чем вымученная задумчивость. Не обижайтесь только. — Сестра, тронув Люшу за руку, тепло посмотрела в глаза.
— Идите в холл, вынесу вам ноутбук. Конечно, Интернет в порядке — я же слежу за сайтом! — с апломбом сказала монашка и бодро пошла к корпусу.
Люша же кинулась к машине откапывать телефон, который она в мизантропическом порыве разобрала на запчасти. Слава Богу, части сложились в единое целое, и Люша смогла дозвониться архивистке Ирине Молевой.
Женщина просьбу «шальной» сыщицы восприняла скептически.
— Да зачем это все нужно? Чушь какая-то. И времени у меня нет на поиски чужих фотографий.
— Да поймите, Ирина, речь идет о серии убийств! Погибли четыре человека, и Анатолий Сверчков выжил по чистой случайности. Но, похоже, убийца останавливаться не собирается. Неужели память о Виктории вам совсем не дорога? Вы же дружили… — Люша вложила весь металл в голос, на который была способна.
— Не нужно меня совестить. Что смогу — сделаю. Вышлите свой электронный адрес мне по телефону, — с вызовом сказала архивистка и отсоединилась.
Через два часа Люша проверила почту. Письма от Молевой она не получила, зато обнаружила целых три от родных и «коллег»: смятенное — от сына, деловое — от Быстрова, и — присланное пять минут назад — покаянное от мужа.
Наревевшись в душевой, где сыщицу не могли бы увидеть четыре паломницы, которые делили с Иулией келью, она, пристроившись в башенном коридорчике на коробке с каким-то скарбом, принялась за ответы. Из комнаты уже доносился храп и сопение уставших за день женщин, когда Люша разослала письма и получила молниеносные ответы.
«Милый Котька! Роднулька мой! Прости, что измучила своим исчезновением и молчанием. Ситуация духовно тяжкая. Конечно, никаких выводов я сейчас делать не способна, потому и решила побыть в одиночестве и тишине. Я АБСОЛЮТНО здорова, сыта, обогрета. Целыми днями гуляю. Деньги мне не нужны. Я скоро, совсем скоро приеду. Сама. Предупрежу тебя, когда именно. Дело не в демонстрации характера и не в «жестоких фортелях», а в пугающем вопросе, который вдруг схватил за глотку и требует ответа: как жить дальше? Люблю. Винюсь. Молю о понимании. Мама».
Константин ответил кратко и жалостливо:
«Мамуль! Какое счастье, что ты нашлась!!! Я полностью солидарен с тобой, но страшно волнуюсь за тебя. Люблю и прошу прощения за резкие слова. И тоже молю тебя о понимании — приезжай немедленно, не мучь нас. И все сообща мы ответим на «пугающие вопросы». Твой Костя».
Мужу Люша поначалу решила не отвечать. Но, подумав, борясь с собой, все-таки написала. Слова любви и покаяния она не могла оставить без ответа.
«Саша, не хочу, да и не в силах говорить, что «все у нас будет по-прежнему». Не получится. Нет. Пусть пройдет время, которое и покажет — КАК будет. Я — в порядке. Явлюсь — не запылюсь. Выбор — за тобой. Простой и категоричный: да-да; нет-нет. Третьего, увы, не дано».
«Люлюш! Третьего не дано. Скажи, прошу — где ты?! Я немедленно приеду», — ответил муж.
«Вот в этом весь Сашка», — с улыбкой подумала Юля. Действовать немедля, нетерпеливо, с упертостью. Плюнуть на работу и мчаться в любую тьмутаракань, чтобы вызволять царевну-несмеяну. Ну, у кого еще найдется такой непрактичный, готовый ради тебя на все муж? И не беда, что назад придется пилить все равно порознь, на двух машинах, а выгодная озвучка уплывет к другому актеру — Шатов не в силах отмахнуться от «души прекрасного порыва». Балда, да и только.
Коварному Быстрову, который вздумал дразнить «дневником, раскрывающим все тайны», Люша отвечать не стала. Прочтет перевод — тогда и скажет спасибо. А сейчас у нее и без дневника, о содержании которого Шатова догадывалась, появился план действий. Только бы решить две проблемы: одеться попрезентабельнее для возможной встречи с N и М, и получить фотографии от Молевой. Захлопнув компьютер, Люша с наслаждением потянулась и, выдохнув, со спокойной радостью ощутила возвращение в СВОЮ жизнь, которая, несмотря ни на что — осмысленна и бесценна.
Глава десятая
«…Главной страстью папы были книги: он ими спекулировал. Впрочем, как для истового библиофила, дефицитные Булгаков, Кафка и Набоков представляли для отца не только товар, нет! Они были бесспорной духовной ценностью. Папа был не столько начитан, сколько поверхностно нахватан. Память ему досталась отменная, и потому хаотически проглоченные строфы, имена, события, герои, теории и воззрения застревали в его голове прочно, преобразуясь в какофоническое художественно-интеллектуальное созвучие. Жизненная всеядность и непоследовательность вкупе с предельным эгоцентризмом и показушной артистичностью выпестовали характер холерический, нетерпимый, изменчивый на полуслове и требующий ежечасного самовыражения. Если отец семейства затевался что-то читать вслух, то это должно было быть интересно прежде всего ему самому — дети и бессловесная жена могли втихомолку скучать и думать о своем. Самым тяжелым испытанием становились моменты, когда отец выпивал и бурно, навязчиво выплескивал собственные стихотворные вирши на наши уши. Среди творений Владимира Александровича попадались и вполне приличные, но по большей части — малопонятные, ритмически организованные философские стенания души-страдалицы. Малогабаритка наша была набита «сокровищницами человеческой мудрости». Разве что в шкафчике над унитазом не было книг. Все тома и томики — даже микроскопические сборнички стихов, отец заворачивал в упаковочную серую бумагу и надписывал яркими карандашами. От этого книги казались какими-то бутафорскими, ненастоящими, и потому не слишком притягивали читательский глаз. Но под этой серой коростой пряталась изобильная плоть литературной классики, которую отец так любил: прочтет пару абзацев из Чехова или Бунина — разохается, заходит в полосатых трусах и майке-алкоголичке по дому, выкрикивая понравившиеся строчки. Но минут через пятнадцать успокоится, усядется пить чай с докторской колбасой и полубатоном хлеба под телевизионные вопли хоккейного матча и, через мгновение, с набитым ртом, уже орет на Балдериса с Капустиным, что они не катаются, а загорают весь второй тайм…
Мы с Вальчей с детства пристрастились к чтению хорошей литературы. Впрочем, Майн Риды и Стивенсоны — это был выбор брата. Я же в двенадцать лет рыдала над «Униженными и оскорбленными», в тринадцать знала наизусть половину «Евгения Онегина», к шестнадцати прочла все большие романы Толстого. Только за это можно было считать отца прекрасным воспитателем. И все же. Все же… Истерики, жадность, вранье — я все сильнее ненавидела это, взрослея. Панически боялся извержений отцовского вулкана Вальча — нытик и брюзга, переплюнувший отца в психопатии. Бедный, любимый Вальча, вечно прячущийся за юбку сестры. Да, я убеждена, что жадность отца, его ежовые рукавицы и голодный паек превратили меня в человека, нацеленного добиваться, брать, использовать возможности. И просчитывать шаги. Умение калькулировать и выкраивать тоже мне передалось от отца. В этом он всегда меня поощрял. Чего во мне больше — благодарности или обиды? Гнева или раскаяния? Все стерлось, поблекло. Не ранит и не болит. Но за маму я его не прощу. Нет… За сломленную, униженную мать — никогда.
Как же он орал на нее, когда обнаруживал, что та купила босоножки к лету (на свою, между прочим, учительскую зарплату!), как неистовствовал, что она дарит подарки сестре на день рождения (родственникам вообще можно ничего не дарить — чай, не начальники)! А после смерти отца — мучительной, страшной — обнаружилась сберкнижка с восемью тысячами рублей! Старых, потерявших всякую ценность. Он как помешанный Скупой рыцарь чах над сокровищами до смерти. Только сокровища эти уже были бумажной трухой. Мусором, иезуитски ныкающимся в отцовском блокноте со стихами, запертыми в секретере».
Светлана читала дневник Виктории Михайловой медленно, ежась и спотыкаясь. Она и жалела эту сильную несчастную женщину, и ужасалась ей. Некоторые строчки приводили Быстрову в восхищение своей точностью.
«…говорил о новой модели «Бугатти» стоимостью четыре миллиона долларов. Она развивает скорость под четыреста км в час. Скорость, которую невозможно опробовать даже на спортивном автотреке, не то что на трассе. Смеялись, что Нобелевской премии в жалкий миллиончик не хватит, чтобы купить машину, которую невозможно использовать в этой жизни. Квинтэссенция нашего абсурдного существования: усилия мира направлены на создание бессмысленных вещей, которые доступны одному-двум ненормальным, но и те не могут ими насладиться в полной мере. Нет комментариев! Нет…»
«Она все понимала. Она была умна, тонка, образованна и… совершенно беспринципна. Впрочем, беспринципность как принцип жизни — тоже, наверное, имеет право на жутковатое существование. Понятно, что поначалу хотелось взять от жизни все. Но потом… А потом приходилось за это ВСЕ расплачиваться. Плата оказалась страшной».
Светлана подошла к кроватке Егора, услышав его агуканье, и начала тихонько толкать колыбель. Сын последние дни спал чутко, беспокойно. Только у Люшки получилось его тогда уложить за рекордный срок.
Люшка… Светлана знала, где находится подруга. Оповестила ее матушка Нина, встревоженная состоянием Юли, как только Шатова приехала в монастырь. Светка была прихожанкой и трудницей обители, дружила со многими сестрами. Любимой — убиенной инокини Калистраты, которую схоронили в прошлом году, сильно не хватало Быстровой. Светлана, поразмыслив, решила никому не раскрывать местопребывание подруги. «Если она — общительная, заботливая, говорливая — решила скрыться ото всех, кто мне дает право лезть со своим медвежьим участием?» — рассудила женщина и ни словом не обмолвилась даже мужу, хотя желание протрепаться так и распирало ее. Появление Шатовой в интернет-пространстве поставило новую дилемму — отправлять или нет Люше перевод михайловского дневника? Но и здесь Быстрова решила выдержать паузу. Что дергать человека, решившего отрешиться от всего? Может быть, в первую очередь от того ужаса, который принесло расследование.
Удостоверившись, что Егорка спит крепко, Света пошла на кухню, включила чайник. «Чай с бутербродом — и в кровать. Хоть на полчасика», — с мольбой подумала измотанная мать. Но тут она услышала шебуршение у входной двери. С похолодевшим сердцем прошла в коридор, замерла. Поскребывание, на этот раз настырное, повторилось. Светлана зажала с силой рот, чтоб не крикнуть. Но тут она услышала отчетливый шепот:
— Светка, если в ужасе торчишь у двери — открывай. Это я! Люша! Звонить боюсь — Егора разбужу. А телефон у тебя выключен. Све-еет!
Быстрова подошла к двери, приложила ухо. В доме ее мужа — бывшей подновленной даче, имелось центральное отопление, газ, вода и даже паркет. А вот глазка в двери не было. Впрочем, и несолидную дверь следователь все никак не удосуживался поменять.
— Люш, ты?! — спросила громко, отгоняя страх. — А почему шепчешь? Егор не реагирует на разговоры.
— А не реагирует — ставь телефон на тихую и общайся с пропащими подругами! — изрекла Шатова, откашлявшись.
Светлана распахнула дверь и, втащив Люшку, обняла.
— Крыса ты, монастырская, — с любовью и нежностью Быстрова посмотрела на замученную малявку сверху вниз.
— Матушка Нина сказала?
— Ну конечно. Но я — никому! Ни полслова! — прижала руки к груди Светка и вытаращила глаза.
— Верю. Быстрова нет? — Люша начала стаскивать ботинки.
— Нет, конечно. Он вообще в Москве. Твоим делом, между прочим, занимается.
Светлана прошла на кухню, распахнула холодильник — постницу явно требовалось покормить.
— Нет, Светуль, сначала — ванна. Этот дохлый монастырский душик — главная беда моя была. Потом — поем. С удовольствием. Потом — новости.
Егор спал на редкость спокойно, и подруги могли вдоволь наговориться.
Люша поведала Светке о сцене с Танечкой, о работе в монастыре, о сестрах.
Быстрова комментировала кратко, но метко: «Вот сука!», «Я бы тоже ледок поколола в тишине…», «Ну вот кто способен на такие подвиги, кроме наших монашек?!»
— Ты не забыла, что в воскресенье мы крестим Егора и ты его крестная? — спросила Светлана, придвигая Люше тарелку с бисквитами. Борщ и котлеты с пюре Шатова умяла в пару минут и с наслаждением принялась за крепкий чай. Впрочем, бисквиты отодвинула, так как с трудом дышала от обжорства.
— Я-то с радостью. Только какая из меня крестная? Нужно же в православии его наставлять, а я… — Люша махнула рукой. — Сама знаешь, как я в церковь хожу.
— Нормально. Главное — ты будешь всегда его любить и никогда не посоветуешь глупости или подлости, — категорично заявила Быстрова.
— Не идеализируй, — скривилась Люша. — Знаешь, Светуль, я надеюсь, мы это михайловское дело раскроем до воскресенья. В канун крестин, так сказать! Я тебе сейчас покажу интереснейшие фото, врубай комп! — залихватски щелкнула пальцами сыщица и вскочила, чтоб бежать в быстровский кабинет.
— Это я тебе сейчас покажу. Перевод дневника! Ясно?! — торжественно продекламировала Светлана.
— Ты думаешь, я не догадалась, в чем там закавыка? Тоже мне — тайна для матерой оперативницы, — презрительно отмахнулась Шатова, и подруги устремились к компьютеру.
— Итак, мы застряли на том, что у Виктории был таинственный «неотвратимый», как ты перевела, что «и мучил, и давал жизнь». Быть может, подумала я, Михайлова все же свела счеты с судьбой сама? Из-за любовной трагедии? Несмотря на весь свой рационализм. Лизы — ненаглядной дочери — нет. Сверчков — любящий, верный, но надоевший до одури мальчик-муж, не тот человек, с которым ей хотелось бы делить… закатные годы. Полностью раствориться во внучке Виктория, в силу натуры, не могла. И тогда я решила выявить этого рокового героя. Попытаться…
Люша вошла в почту и приготовилась открыть ссылку с первой фотографией.
— Рассказ матушки Зинаиды о непутевом брате, который всю жизнь тяготеет к скандальным толстозадым бабам, натолкнул меня на мысль, что сильная, но влюбчивая Михайлова могла быть приверженницей определенного типа мужчин. Вряд ли лидеров и завоевателей по характеру. Потому она, кстати, так бескомпромиссно отвергла влиятельного Набросова, готового кинуть все к ее ногам. Он — не герой ее романа. А вот внешность… Конечно, я не ждала близнячьего сходства, но все же решила сопоставить. В порядке эксперимента. И эксперимент, Светка, удался! Помогла мне Ирина Молева — давняя приятельница и коллега Виктории.
Люша открыла первую фотографию. На подруг смотрел, пряча улыбку, молодой скуластый мужчина. Симпатичный, начисто лишенный брутальности.
— Это — Сверчков в молодости. Обаяшка! — рубанула рукой Шатова.
— Да-а. Приятный. Смазливый даже, — задумчиво сказала Светка.
— Идем дальше. Николай Толкаев. Оператор, по которому сходила с ума Михайлова. Погиб в Индии. Он, кстати, отверг бизнес-леди.
— Да просто одно лицо со Сверчковым! — вскричала Светлана.
— Ну, не братья, конечно, но общая «леонардо-ди-каприость» присутствует. Хорошенький, круглолицый, — Люша вышла из почты и залезла на сайт «Одноклассники».
— А это — тот герой, который нас интересует. Не правда ли? — Люша листала одну за другой красочные фото.
— Потрясающе. Ты его нашла и без дневника! — Светка схватила Люшу за руку и с серьезной миной произнесла:
— Тебе нужно возглавлять Интерпол.
— Мне в ближайшие дни придется, я чувствую, ДРАИТЬ пол! В своей квартире, — Шатова закрыла все страницы и решительно нажала на иконку выключения компьютера.
— Но одно дело — найти «коварщика» и сделать выводы, и совсем другое — предъявить обоснованное обвинение. Вот поэтому я и приперлась к тебе.
— Ах ты, бесстыжая! Просто так навестить подругу она уже не может, — попыталась обидеться Светка.
— Да, конечно, могу, но не в данной ситуации. Света! Мне нужно выглядеть поприличнее, чтобы встретиться кое с кем. На заезды и общение с близкими нет времени и сил, потому давай рассказывай, где у вас магазин — куплю хоть блузку к джинсам и косметику. — Люша помолчала, закусив губу, и попросила жалостливо: — И денег не дашь взаймы, Светуль? На пару дней.
Снабженная деньгами и «полдником» — Светка напихала в сумку бутербродов с сыром и яблоки, Шатова отбыла из дома Быстровых под причитания проснувшегося Егора, который ласковое щебетание будущей крестной отверг, требуя положенную бутылочку. Объятиями сыт не будешь — кто бы спорил.
Молева прислала Люше не только фотографии, но и личный телефон Марии Александровны Набросовой. Именно к ней намеревалась наведаться Шатова, почувствовавшая прилив сил и вдохновения. Оно ли вело сыщицу, интуиция ли, логические построения, которые успела сделать Люша, имевшая феноменальную зрительную и вербальную память? Она помнила разговор с начальницей RP-службы дословно. Участие дочери Набросовой — Анастасии Рябовской — в бизнесе Виктории говорило Люше о любопытных отношениях, что — без афиширования, связывали соперниц: сильных, но, как выходило, не слишком счастливых женщин. Да, Юлия очень рассчитывала на помощь Марии Александровны. Она готова была костьми лечь, чтоб добиться от Набросовой искренности. Для внушительности образа требовалось выглядеть если не сногсшибательно, то хотя бы пристойно. А проблема заключалась в том, что Шатова ненавидела ходить по магазинам. Пресловутый шопинг, который многие дамы используют в качестве психотерапии, превращался для нее в утомительную и доводящую до бешенства процедуру. Во-первых, он изматывал физически, а трату сил на пустопорожность Люша терпеть не могла. Потом — ронял самооценку. Во всех без исключения примерочных освещение и зеркала становились для Люши обличителями ее трансформирующейся не в лучшую сторону внешности. Почему-то дома в зеркале представала вполне привлекательная женщина, которую красило ажурное белье. Эта рыхлая, в красных пятнах, морщинистая, с затравленным взглядом тетка не имела с той, домашней, никакого сходства. И белье выглядело просто издевательством, седлом на корове! «А вдруг эта — и есть настоящая?» — с ужасом думала Люша, облачаясь в очередной костюмчик, который гадко, отвратительно подчеркивал галифе (откуда они только вылезли?) или утверждал, что с иллюзией о наличии талии можно расстаться навсегда. Короткие ноги, непомерные ягодицы, отсутствие шеи — пощечины сыпались одна за другой, пока не находилось то, заветное, что вдруг садилось, как влитое, скрывая тут, подчеркивая там, и Шатова, дернув победно ручонкой, могла сказать себе: «Знай наших!» Она оказывалась вдруг ослепительной и отгоняла идею о рациональности паранджи, к которой склонялась в ближайшие полчаса.
Впрочем, на этот раз ей повезло. Юля схватила демократичный, но вполне женственный батничек. Он оказался дорогим, но шел к джинсам, выглядел практичным и в то же время не подразумевал мытья окон или стрижку газона. Добротная вещь на каждый день. «Сойдет!» — подумала Люша и, расплатившись, пошла в отдел косметики. Голову она худо-бедно уложила у Светки, а вот накраситься должным образом не могла. Быстрова сроду не использовала ничего, кроме туши и пудры. Игнорируя любопытные взгляды дам, сыщица тщательно накрасилась в туалете: тон, тени, подводка для бровей, тушь, карандаш для губ, блеск. Коричневый, золотистый, розовый. Вышло неброско и свежо. Сев в машину, женщина задумалась над тем, что сказать бизнес-леди, — краткое, но внушительное, чтобы она согласилась на сегодняшнюю встречу безоговорочно. «А чтобы проняло меня? Жалостливые призывы? Угрозы? Сочувствие? Нет-нет! Никакой абстракции. Только конкретные имена и факты. Чье имя проймет Набросову? Конечно!» Привычный взмах рукой — и Люша смело набрала номер.
Мария Александровна долго не брала трубку, а потом раздраженно рыкнула:
— Перезвоните позже, совещание.
— Важная информация об Анастасии Рябовской интересует? Перезвоните мне сами, — как можно суше и басовитей выговорила Шатова и дала отбой.
Звонок раздался через десять минут.
— Кто это?! Что с Настей? — голос дамы дрожал.
— Дубровская беспокоит. Частный сыск. Нам нужно встретиться, Мария Александровна. Сегодня.
— При чем тут моя дочь?! — грозно возопила Набросова.
— Ее связывало своеобразное сотрудничество с Викторией Михайловой, уголовное дело об убийстве которой обросло четырьмя трупами и покушением.
Пауза оказалась непомерной. Нарушила ее Люша.
— Нам НУЖНО встретиться. Говорите — где. Я буду в Москве через два с половиной часа.
И Набросова назвала кафе в центре столицы.
Как ни спешила Шатова, она безобразно опоздала. На пятьдесят минут. Две аварии на трассе, замершее Садовое кольцо, три круга в поисках парковки, словом, сыщица чуть не плакала, когда приткнулась у нужного дома. Кафе Мария Александровна выбрала себе по плечу — из абсурдно дорогих.
— Простите, дорожный коллапс не дает возможности ничего планировать.
Видок встрепанной, запыхавшейся дознавательши позабавил невозмутимую Набросову, которая, как с изумлением поняла Люша, порядком набралась. Странная ухмылка, масленый блеск в глазах, заторможенность. Перед дамой стоял почти опустошенный бокал с коньяком. «Сколько-то она выпила за час? И хорошо это для меня или плохо?» — пронеслось в Люшиной голове.
— Падайте… — милостиво указала на стул рукой в светлой перчатке теленачальница. На ней было кремовое обтягивающее платье со стоячим воротничком, под которым виднелся шелковый шейный платок.
— Пить будете? — спросила Набросова.
— Я за рулем. Только кофе.
— Я тоже за рулем. Впрочем, попрошу водителя забрать меня. Так что там моя дочка? Она гражданка США, в России бывает редко. Что ей в нашей банановой республике делать? На глумливых еврейско-армянских мальчиков по «Метеорит-ТВ» смотреть? Или на малолетних шлюх, что матку готовы на камеру натянуть, лишь бы в «Муз-ТВ» подрыгаться? Есть еще целый канал с расчлененными младенцами и геронтофильскими страстями эстрадных звезд.
— Вы, простите, себе или своему мужу претензии предъявляете? По поводу телевизионного контента? — не моргнув глазом, мило поинтересовалась Шатова.
— Я перечисляю то, что жрут с жадностью наши с вами соотечественники! — хлопнула рукой по столу Набросова.
— Наши с вами соотечественники жрут, как вы ласково заметили, то, что им подают большие теленачальники. Только почему они решили, что это удобоваримо для огромной и все еще живой страны — малопонятно. Видать, «страшно далеки они от народа», — Люша, закинув ногу на ногу, застучала ноготками об стол.






