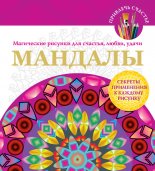Я и Софи Лорен Верховский Вячеслав

Отчаянно мотая головой, я – нет, я – никого не забивал!
Она гортанно:
– Не-ет, забил, забил!
И вот тут она – следите за рукой! – куда-то лезет, внутрь себя самой, и, как Игорь Кио, извлекает… Мама, а ведь точно я забил! На сиденье того самого «Икаруса» эту книжку я действительно забыл. Томик «Мертвых душ», писатель Гоголь. А я и сам как помертвевшая душа, тут мы совпали.
Пока, весь трепеща, я ей вручал – оно и выпало. А я и не заметил, впопыхах. Я ведь думал только о мимозе. Чтоб только Африку поднять с колен! Но пасаран!..
И вот она за мной летела. Чтоб вернуть. Этой веткой что есть силы тормозя. Все три квартала. Даже все четыре! Хорошо хоть вовремя догнала…
Тяну я к Гоголю трясущуюся руку, а там грязюка, мутные ручьи, в общем, все довольно непролазно. И вот тут… Опять следите за рукой! Мой букет внезапно хлоп! – и вниз лицом. Короче, мне уже везло по всем фронтам…
Он рассыпается в грязи, последним веером. И все, мимоза больше не букет!
Холодея организмом в подворотне, я сокрушенно вскрикнул:
– Мама, мамочки!
Негритянка «маму» подхватила:
– Да, для мами!
Как она узнала? Интуиция! И, не раздумывая, возвращает мне… Мою мимозочку, метелочку мою. Она все видела, она все понимает. Она дает, я с жаром отрекаюсь:
– Это ж вам!
Нависает:
– Нет, для мами! Я сказала! – и, чтоб я не испугался, улыбнулась. Ободряюще, по-человечески тепло: – Бери, бери!..
Я, уже потом, себя казнил: ну почему я ей так скудно обломил?! Больше дашь – и больше возвратится…
Улыбнулась.
Когда открылась мне ее улыбка. Нос и губы отошли на задний план. И показались эти ослепительные зубы… Да она ж красавица у них! Африканская мадонна, как их там? Негритянская Джоконда, Мона их!..
Я как глянул непредвзято снизу вверх… Кажется, я даже прослезился. Ах, какая женщина, какая женщина, мне б – такую! Так, впервые в жизни, во мне проснулся основной инстинкт! Я мечтательно прикрыл глаза, ну на секунду. И это я, сопляк, мальчишка, ученик 8-А?! А открыл – ни негритянки, только я. Она права! Преподав урок благотворительности, мадонна деликатно испарилась…
И больше с ней я… Больше никогда.
Слегка прибитый, а точней пришибленный, я явился с хилой веточкой домой, чтоб для мамы, в честь 8 Марта.
– Что-то ты, сынок, недоговариваешь!
И тогда я ей договорил…
Столько лет прошло – не унимается, каждый год в канун 8 Марта хоть на время убегай из дому… В общем, мама попрекает до сих пор:
– Вот какой ты непутевый! – выговаривает. – Ну и что, что негритянка, ну и что?! – и, вздыхая, повторяет в сотый раз: – А женился – был бы человеком!
Судьба барабанщика-2
Выпрямляйся, барабанщик!
Встань и не гнись! Пришла пора!..
Аркадий Гайдар
Да, многого не знают люди, которые живут и горя не знают. Но я не такой.
Это случилось двадцать лет назад. Я учился в Макеевском инженерно-строительном институте. Кто хотел скрыть, что это в Макеевке, говорил просто: «в МИСИ». И люди сразу: «О, Москва!» Нет, Макеевка – это не Москва, при всем желании.
Итак, МИСИ. Сейчас это «о, академия!». Но, между нами, – а толку? И с гордостью я могу заявить: мы академиев не кончали, и слава богу! Потому что их сегодняшние академии…
Известно: предметы бывают настолько разные, что это даже не предмет для обсуждения.
История КПСС стояла особняком. Тот особняк мы посещали поневоле.
Как я ни учил его, предмет история КПСС мне не давался; почему – не знаю, но не давался. Он из рук выпадал, в голове не задерживался, в общем, не давался, ну никак. Короче, все предметы как предметы, а этот был у нас такой особенный.
И когда назначили экзамен, я не знал, за что хвататься, я схватился за голову – я не знал ничего.
А и кафедра была у нас особая. Потому что… Нет, недаром от них веяло холодом. Они как на подбор, клянусь, не вру, смотрите сами: завкафедрой профессор Зимоглядов, его правая рука профессор Холоденин, ассистенты два брата Морозовы и замыкал Иван Иванович Тулуп, как аспирант. И как Тулупом ты ни прикрывайся, даже летом, все говорили: ну, зима! Вот такая это была кафедра, вот такой был среднесписочный состав.
Лекции по истории этой самой КПСС у нас читал профессор Холоденин. Я посещал их и могу сигнализировать: как лектор он… Плохого не скажу. Просто он и его мозги – по разные стороны баррикад. Ленин, Ленин и еще раз Ленин – Холоденин от него был без ума…
О профессоре Холоденине ходили легенды. Знающие люди утверждали, что как старик он очень даже выгодный. На экзаменах за ним подмечали такое: профессор исторических наук, вначале он внимает досконально. А кто идет вначале? Вот, отличники! Холоденин слушает их напряженно, вдумчиво, придирается к словам. И даже не спит. Потом он, толстый, обрюзгший, постепенно устает, внимание его ослабевает – он потягивается, зевает, а то и погружается в нирвану. И вот тут – спустя час или там три – отвечать ему самое время. И если отвечаешь бойко и уверенно, Холоденин тебя не беспокоит, он на тебя всецело полагается. И что бы ты в ответе ни буровил – он утвердительно кивает головой.
А если отвечаешь неуверенно, если начинаешь лепетать. Мнешься нерешительно и жмешься, если, не дай бог, ты еще и робок, то Холоденин сразу настораживается, начинает в тебя вслушиваться, бдить, а то и просыпаться окончательно: «А? Что?» И тогда, не ровен час, – наверняка он заподозрит, что ты плаваешь, и захочет тут же утопить. Так что познакомьтесь: Холоденин.
А если барабанишь ты уверенно – он в тебя уже особо не вдается. Он в ответе любит барабанщиков. И при тебе он будет благосклонно спать, не вникая в существо вопроса.
Короче, если он не засыпает, он студента засыпает, – я понятен?
С горем пополам прошел учебный год. Год прошел, а горе – вот оно: экзамен. И экзамен – который только начинается! Я, конечно, выждал: пусть старика Холоденина на отличниках хорошенько разморит – а я уже явлюсь на все готовое.
Холоденин был долгоиграющий – его экзамены тянулись допоздна. Когда экзамен разменял свой третий час – пробил и мой. А в двери у нас стеклянные окошки. Я заглянул и вижу: он уже расслабился, поплыл, – ну, думаю, пора уже и мне…
– Можно?
Он даже не ответил. Значит, можно.
Я демонстративно кашлянул. Холоденин вздрогнул и очнулся, заморгал белесыми глазами:
– Тяните ваш, мнэ, мнэ, билет.
«Мнэ», – это он так жевал губу.
Где он, мой билет. Пусть будет этот. Заглянул в него и… Всё, конец! Я так и знал – не знаю ничего, да и откуда? Ни на первый вопрос, ни на один. Но тосковать мне было уже некогда – и я решаю быть уверенным и бойким…
– Можно отвечать без подготовки?
А почему без подготовки? Отвечаю.
Там был еще спасительный обычай. Если взял билет – и отвечаешь сразу – тебе идут навстречу в виде балла. Если отвечаешь, допустим, на тройку, без подготовки – и на тройку, – тебе ставят четыре; а если на четыре – ты по истории круглый молодец с оценкой пять. Это в виде поощрения за смелость. По итогам многолетних наблюдений – это факт.
Быть круглым мне, конечно, не светило…
Для подстраховки – вдруг старик не пожелает отключаться… Я, прикинув, что если к двум прибавить балл – так это тройка… И вызвался идти без подготовки.
– Можно?
– Что, без подготовки, мнэ, мнэ, мнэ?
Я кивнул, что да, без подготовки.
А ничего ж не знаю, ничегошеньки!
– Ну, давайте, – Холоденин мне. – Пожалуйста.
Вслух прочитал я из билета три вопроса. Очень бодро, очень энергично. Он удовлетворенно закивал: мол, продолжайте в том же духе, хорошо.
Вопрос первый повторил я с выражением:
– Ну, работа Ленина «Уроки московского восстания», 1906 год.
И все.
Он утвердительно кивает:
– Продолжайте.
А что? А как?
Холоденин благосклонно:
– Ну, пожалуйста!
И вдруг как озаренье: мой ответ! Он ведь заключен в самом вопросе! Как в хорошей загадке – разгадка! Я воспрял и, полный ноль, начинаю барабанить Холоденину:
– Так, Ленин! Владимир Ильич! (Бодро? А еще бы! Я барабанщик? Просто экстра-люкс!) Работа Ленина «Уроки московского восстания» (очень уверенно, очень!) вождем мирового пролетариата была написана по итогам московского восстания – о его же уроках (Господи, спаси!)…
Холоденин:
– Ага, угу… – кивает, – продолжайте, – потому что отвечаю я уверенно.
Голова его склонилась как-то вбок, из уголочка рта пошла слюна. Ну, как младенец, даром что профессор.
– …в 1906 году. Сам Ленин родился тогда-то, а умер тогда-то… Итак, московское восстание, оно случилось в России. И не где-нибудь в Саратове или Ростове, нет, конечно! Или в Туле, или…
Холоденин одобрительно:
– Ага…
– Ну и вот…или во Пскове. Тоже нет! Московское – оно могло случиться лишь в Москве. И оно случилось именно там!
Молчать – нельзя! Ни на секунду не смолкать! Так, что дальше, быстро… А, Москва!
– Москва! Как много в этом звуке для сердца русского…
Холоденин заворочался:
– Стоп, стоп! – и, распахнув глаза, в меня как вперился. – Какое сердце?! – и заерзал в своем кресле.
– А, сердце, так… (Я судорожно… Вот!) Всем сердцем народ, отсталый и забитый царским самодержавием…
Холоденин успокоился:
– Забитый. Ну, продолжайте, очень хорошо. И в каком же это месяце всем сердцем?
Тут чья-то добрая душа мне отсуфлировала сердобольно: «В декабре!» Год я помнил, кажется, и сам: 905-й. А, декабрь, ну слава тебе, Господи!
– Декабрьское восстание случилось в декабре. (Теперь могу я развернуть уже подробно.) Так, декабрь. (Мне важно не молчать.) Декабрь – первый месяц зимы, но последний – года, – констатировал я и вдруг отчего-то ввернул: – Мои года – мое богатство.
Вот те на! Даже сам я удивился: что со мной? Холоденин очнулся:
– Какое богатство?
О, какое?! Так, так, так, а ну, не тормозить!
– Богатство богатых в России и бедность бедных – вот в чем причина московского восстания!
Я взглянул на Холоденина. Закрыв глаза, он безмятежно ободряюще кивал. Опасность миновала. И я понял: можно продолжать.
Так, я о чем? А, во, первый месяц зимы! – и я:
– Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь…
Холоденин дернулся, как от электрошока:
– Что за путь?! – и распахнул глаза.
– Путь, который преодолела партия Ленина. Мне можно продолжать?
– Продолжайте, – умиротворенно, – про декабрьское восста…
И отключился. Холоденин спал сном младенца преклонного возраста.
Я продолжил, по его указке… И при этом думаю: ну что же я мелю?! Но если не молоть – то будет хуже!
Так, «восста…». Я перевел дыхание. Ну что еще там в декабре, ну, я не знаю… Логика! Логика, она была всегда моим самым сильным местом в организме, и я зову ее на помощь: так, зима… А, значит, это птицы! И я:
– Птицы! Они давно улетели на юг!
– Ага, ага… – подтвердил спросонья, благосклонный.
И тогда я взял еще бодрее…
Двери в нашем классе приоткрыты. В тех дверях – стеклянные окошки. А за ними, за дверями, в коридоре… Там творится что-то несусветное: студенты, которые еще не сдали, в ожидании, они сгрудились у дверей. И уже даже не смеялись – просто корчились. Я имел у них такой успех!
– Птицы – улетели! – подытожил.
Так, что дальше? Главное, не медлить, не молчать. Во!
– Ночи все длиннее! Дни – короче…
– Стоп! Что – «короче»?
Холоденин это слово выловил, «короче», встрепенулся. И, разлепив свой левый глаз, на меня непонимающе уставился.
Я чуть не кончился, но виду не подал:
– Короче, без борьбы пролетариат себя уже не мыслил!
Я был красноречивым на язык.
– Молодец! – воскликнул Холоденин.
Кто молодец – я понял без подсказки. И хотя к нему сидел я ближе некуда, пролетариат ему был все же ближе.
– Ну, продолжайте! – вновь погружаясь в спячку.
Что при такой жаре немудрено.
А эти, за дверями, умирали. Что меня, конечно же, подстегивало. Подбивая на все новые свершения. Кажется, еще секунда – я прысну сам, и Холоденин разгадает; но нет, он отдыхает безмятежно. Я такое плел – он:
– Да, да, да…
Чтобы так мне околпачить старика, это было… Ну, невероятно! Как заправский этот самый… Ну, который… Я втирал ему еще минут пятнадцать. Сам процесс, такой опасный и в то же время сладострастно-увлекательный, меня втянул, и от тех «Уроков» получал я просто наслаждение! Я отвечал – и сам же упивался: о, какой я остроумный! О, и ловкий!
Что я плел, что я буровил?! И вдруг почувствовал: я начинаю иссякать. Но молчать нельзя, определенно: Холоденин молчунов у нас не любит. Оглянулся… нет, я все же молодчина! По стенам в кабинете вкругаля висят плакаты с изречениями классиков. Основоположников марксизма и т. д. Вот какой я наблюдательный попался! Вот такой чертовски я находчивый! И по кругу мне остается только их озвучить: «Партия – ум, честь и совесть…», «Пролетарии всех стран…», «Учиться, – и так далее, – учиться…» – цитатами я сыпал очень щедро.
Так же хорошо, в смысле уверенно, я дал ответ и на второй вопрос. Мой экзаменатор Холоденин:
– Так, и третий…
Я и на третий отвечал бог знает что. Но бодро и уверенно. Словом, отбарабанил и на третий. Я был королем словоблудия. Так становятся кумирами толпы.
Казалось, Холоденин мирно спал. Я кашлянул – он своевременно очнулся:
– А на третий?
– Только что! – ну, в смысле, что уже.
И он одобрил:
– Хорошо ответили на третий!
И тут он открывает правый глаз, я помню как сейчас, и говорит:
– А знаете ли что? – и потянулся.
Я с тревогой:
– Что?
– Вы сегодня молодец, студент…
– Верховский!
А ведь обычно я успехов не выказывал.
– Ну что же, – подытожил он, – отлично! – На три вопроса вы ответили отлично. И я вам ставлю… То же самое: «отлично». Молодец!
Ему в лицо я чуть не рассмеялся. А пока он ставил мне «отлично», я смотрел сквозь дверь – а там веселье: во как я уделал старика!
Я вышел как во сне, а эти тут же облепили, как героя:
– Ну что, ну как? Что, неужели пять?! – они своим ушам еще не веря. – Да ну, не может!.. Может, хоть четверка? – уговаривают. – Ты такое нес! Ну, ахинею! Холоденин – полный идиот!.. А ну, покажь!
Зачетку показать.
И действительно, поверить в это трудно!
Даю зачетку, лишний раз блеснуть – не жалко мне! И тишина – как будто я оглох. Тишина такая, что куда же делось оживление? А после – хохот дикий, запредельный. Что такое? Я выхватываю – мама! В зачетке вместо оговоренной пятерки он – не погнушался единицей! Он – цифрой – выписал мне кол, такой кошмар! Но и это еще не было пределом. Чтоб, не дай бог, я кол не переправил на четверку, рядом в скобках Холоденин уточнил, что кол осиновый, в чем и расписался, так размашисто.
Боже! Пусть и с закрытыми глазами… он! ВСЕ!! СЛЫШАЛ!!! С его стороны это был высший пилотаж. Если хотите, мертвая петля. Затянутая на моей несчастной шее…
Я чуть не повредился: «кол осиновый»! Эх, старик, да не такой ты Холоденин, как мы думали!
А экзамен я пересдавал четыре раза…
Шуба из Детройта
По легкомыслию беды не ждет никто.
Вот так и мы.
Хотя у нас звонок вполне исправный, к нам в дверь – загрохотали кулаком!
Бабка:
– Кто там?
– Открывайте, это почта!
Бабка почтальоншу не узнала. В смысле то, что это Тоня, – это да. Антонина, милая такая, доставляла бабке пенсию домой, бабка ее чаем угощала. Здесь же Тоню будто подменили. Ни «здрасьте!», ничего, а очень сухо протянула, как повестку в суд:
– Распишитесь, за уведомление!
Бабка черканула свой каракуль.
Тоня попыталась выйти молча, но не сдержалась, поделившись накипевшим:
– Нет вам веры! – и что-то: – Вот на что вы променяли нашу Родину! – а напоследок, окатив нас всех презрением, дверью хлопнула – ну просто оглушительно!
Мама побледнела:
– Началось, – в смысле, что и нас не миновало. – Вот и к нам пришла Америка, домой!
Щас эта помощь – как гуманитарная. И тех, кто от нее бы отказался… Как раз напротив, все: давай-давай!
Но у советских собственная гордость: в 70-е, когда из-за границы людям шли посылки, где в основном была одежда, а у нас в продаже было пусто… Так они метались, как затравленные, между «взять» или «опомниться», и в результате – с гневом отвергали. И еще давали интервью, мол, просим оградить от провокаций. Мол, охмуряют нас, коварные враги!
Хотя, казалось: ну не хочешь – не бери! Порви уведомление… Так нет же, они еще публично отрекались! Выпираясь на экраны телевизоров, на потеху обывателю Донецка. Такие по-домашнему нелепые и такие жалкие, ну просто! С глазами, полными недетского кошмара, на своих трясущихся ногах. Опять же, запинаясь и бледнея, с просьбой защитить их от посылки, они бросали присланные вещи к подножию студийных телекамер, как фашистские штандарты – к Мавзолею, мол, мы выше этих западных подачек, нас не купишь!
И ни в чем не виноватые посылки… В прямом эфире их топтали, крупным планом…
Я это помню хорошо, по телевизору. В передаче «Родину не выбирают» люди каялись. Клялись, что делу Ленина и партии верны. Это было, это не сотрешь. Многих моя бабка знала лично: Лейкиных, Морокиных, Шапиро… Но, наивная, крутила у виска:
– Вот же глупость несусветная! Сами ходят с голой ж… А им выслали такую вещь… Нет, «провокация»!..
И вот на этом фоне, в общем, благостном, и нас достала мировая закулиса. Мама побледнела:
– Началось!
Но началось с семейного совета. Где мы сразу от посылки не отказываемся, а здраво рассуждаем: надо брать! Кто не рискует, тот не носит… А вот что? Что не носит? Ну ведь интересно: что же там, в посылке из Америки?
В общем, для начала поглядим. А если там, в посылке, чепуха или вещи нам не подойдут, вот тогда мы и заявим куда надо: мол, просим оградить от провокаций!
Бабка даже раскраснелась: так придумать!
Не откладывая, мы отправились на почту.
На нас взглянули очень неприязненно. Но выдали: из, точно, США, а точней, из штата Массачусетс.
Когда мы вскрыли этот Массачусетс, прямо там – там лежала шубка. Мальчикового размера, очень детская. Помню, я еще разволновался, побледнел: это ж я у них в семье один ребенок!
Папа, прямо там:
– А ну примерь! – но меня просить не надо. – Красота! А поворотись-ка, сынку! Как влитая!
Вот чего мне в жизни не хватало!
Нам казалось: все на нас глядят…
Но как они прознали мой размер? Может, их разведка? Я не знаю.
И на бирке там стоял еще «Детройт».
Шуба состояла из мутона. Переливчатая, с крашеными пятнышками. Подкладка – саржа. Роговые пуговицы. Для утепления использован ватин. И еще у шубы поясок. Бобровый воротник… Она Америка!
А о сказочном фасоне я молчу.
Я даже не хотел ее снимать. Как прикипел. И, хотя стояло лето, – ни в какую!
А люди будто чуяли нутром: на почтамте – нас брезгливо обходили. Чтобы Родину на шубу променять!..
Я зимы дождался еле-еле. А потом еще одной зимы…
В этой шубке я переходил из класса в класс: третий класс, четвертый… Вот, шестой…
И хотя наружности я мелкой, я ж расту, а шубка не растет.
Приспосабливая к нуждам организма, бабка мне ее перешивала. И не раз. Дотачивала рукава, а также низ. Вставляла клинья. По борту, там, где вытирался мех особо, где застежки, пришивала мне полосочки из кожи. Переставляла пуговки на край. Перелицовывала. И еще меняла мне подкладку…
Расстаться с шубкой я уже не мог: она была мое второе «я»…
Кто-то скажет… Кто-то не поверит… И не надо! Но носил я эту шубу много лет и даже, между прочим, в институте.
Бабка начинала кипятиться – сколько можно?!
– Вот зачем вы ее брали?! – на родителей. – Нужно было отказаться. Не послушались! – хотя она ж ее и присоветовала.
Шубу снова подгоняли под меня: дошивали, ушивали, все такое…
В общем, шуба оказалась рекордсменкой. На меня весь город:
– Вон, пошел!
Люди выворачивали шеи.
Скорее, узнавая не в лицо. Я на «шубу» даже откликался.
Так я становился знаменитостью.
Хотя, по правде, эта шуба из себя…
Уже родители прозрачно намекали: