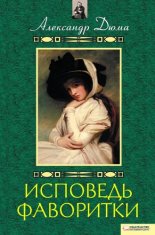Дневник одного тела Пеннак Даниэль
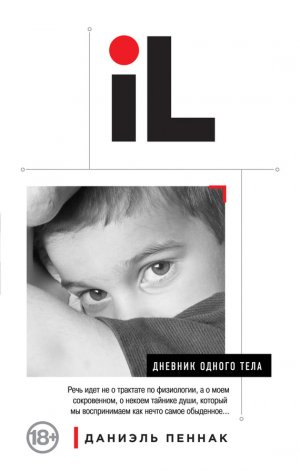
Полная неспособность к танцам. Меня уже пытались учить Франсуаз, Марианна и другие, да и вчера у Эрве его сестра, потрясающая Виолен. Дайте я поведу, не сопротивляйтесь. Что тут поделать? Почти сразу я сбиваюсь с такта, и мое тело в руках партнерши превращается в чугунную тумбу. Я нелепо подпрыгиваю, чтобы наверстать ритм, и окончательно теряюсь. Танец – один из немногих видов деятельности, где мое тело никак не желает работать в унисон с сознанием. Точнее, нижняя половина тела: руки могут отбивать такт сколько угодно, а вот ноги подчиняться отказываются. Дирижер-паралитик – вот кто я такой. Что касается головы, то, как только ситуация усложняется, она начинает кружиться. А ведь танец сам по себе предполагает вращение, это такое искусство – сплошное кружение, нельзя танцевать, не кружась вокруг собственной оси. А тут – головокружение, тошнота, бледность… Что с вами, вам нехорошо? Все отлично, дорогая Виолен, но пойдемте, поболтаем немножко, и вот я уже пытаюсь объяснить прекрасной Виолен ситуацию, на что она изрекает: ну что вы, все же танцуют! Очевидно, кроме меня. Вы просто не хотите! Скажите пожалуйста! С чего бы это мне лишать себя такого козыря, когда я вижу, какую выгоду для себя извлекают из танцев мои товарищи? Вы слишком много думаете, напрягаетесь, побольше свободы, дикости. Дикости? О боже! В койку, немедленно в койку! Но вместо этого я слышу свой голос, поясняющий Виолен, что я и сам не понимаю природы этого явления, учитывая, что в иных обстоятельствах, требующих владения руками и ногами, например в боксе или теннисе, все мои четыре конечности действуют в идеальной слаженности друг с другом, и что в юности, когда мы играли в вышибалы, мои одноклассники чуть не дрались между собой, чтобы попасть со мной в одну команду, потому что я был действительно непобедим, и начинаю впаривать этой потрясающей девушке, каким асом по вышибалам я был в пятнадцатилетнем возрасте, и говорю себе: заткнись, идиот, а сам продолжаю расписывать прелести этой игры, которая требует такой физической подготовки, такого владения руками, ногами и головой, такой идеальной слаженности всех движений, что однажды, не сомневайтесь, дорогая Виолен, станет командным видом спорта, по сравнению с которым футбол будет казаться просто развлечением для простофиль, да что это с тобой, что ты порешь, идиот несчастный? Ты расстроился, что несколько минут играл роль мешка с цементом в руках этой роскошной красавицы, которую только и думаешь, как бы уложить в койку, и теперь достаешь ее своими вышибалами, «вы и представить себе не можете, дорогая Виолен, сколько эта игра ставит стратегических и тактических задач», да заткнись же ты, дурья башка, это же не игра, а сплошное безобразие, куча мала, где прыщавые подростки распаляются и самоутверждаются, посылая мячи друг другу прямо в морду, вот уж где дикости хоть отбавляй, и если ты и правда блистал на этом поприще, вряд ли такой козырь поможет тебе затащить в постель эту девушку, которая, впрочем, уже и так удаляется в неизвестном направлении со словами, что от твоих спортивных подвигов ей захотелось пить, и она пойдет нальет себе чего-нибудь.
19 лет, 2 месяца, 19 дней
Вторник, 29 декабря 1942 года
И все же она пришла. В тот же вечер. И это вышло еще хуже танцев. Я был в своей комнате, у Эрве, поздно ночью, дом наконец уснул, я сидел у шахматного столика и записывал душераздирающий рассказ о танцах, когда за спиной у меня открылась дверь, тихо-тихо, так, что я услышал только, как она закрылась, отчего и обернулся и увидел ее в ночной рубашке, белое органди или что-то в этом роде, одно плечо открыто на манер греческих туник, а на другом тоненькая бретелька завязана бантиком, петельки которого казались крылышками мотылька, она не говорила ни слова, не улыбалась, только смотрела на меня тяжелым взглядом, а я и сам сразу лишился дара речи, округлые плечи, длинные, тонкие руки, повисшие вдоль бедер точеные кисти, босые ноги, частое дыхание, высокая, полная грудь, ночная рубашка, отвесно ниспадающая с острых сосков и образующая пустое пространство между обнаженным телом и тканью, мои глаза стали лихорадочно искать очертания ее бедер, живота, всей фигуры, но стоявшая рядом со мной настольная лампа не позволяла смотреть на просвет, ее надо было бы поместить у нее за спиной, чтобы проступил весь силуэт, сначала я думал только об этом, о том, что лампа стоит неправильно, что она не дает смотреть на просвет, вот если бы она стояла за ней, все было бы совсем иначе, мы оба не шевелились, я не сделал ни единого движения в ее сторону, она стояла спиной к закрывшейся двери, а я сидел в три четверти оборота к ней, не убирая со стола руки, закрывавшей на ощупь тетрадку, чернила на перышке высохнут, подумал я, да, я думал об этом, о том, что мне не закрыть ручку, а сам все пытался разглядеть силуэт Виолен под полупрозрачной тканью, от белизны которой мне стало больно в глазах, и тут я увидел, как ее левая рука стала подниматься вдоль груди, как, добравшись до плеча, пальцы разогнулись, большой и указательный взялись за кончик бретельки и, легонько потянув, развязали бантик, и рубашка тяжело упала к ее ногам, открыв ее обнаженное тело, не думаю, что когда-нибудь еще увижу такое красивое женское тело, внезапно представшее предо мной в золотом свете лампы, боже, какая красота, какая красота, твержу я, если бы в этот момент свет навсегда погас, я умер бы, сохранив воспоминание об этой красоте, мне кажется, что я чуть не закричал в голос, так и не встав со стула, абсолютно парализованный от неожиданности и восхищения, какая красота, какое совершенство, мне кажется, я даже испытал чувство благодарности, никто никогда не делал мне такого подарка, я подумал и об этом тоже, но не пошевельнул и пальцем, а она как раз шевелилась: пошла к кровати и легла, не сделав ни единого знака, чтобы я подошел, не протянула мне рук, не заговорила, не улыбнулась, она ждала, что я подойду, чту я в конце концов и сделал, подошел к ней и встал у изголовья, не в силах оторвать от нее глаз, надо раздеться, сказал я себе, теперь твоя очередь, чту я и сделал, неуклюже, украдкой, повернувшись к ней спиной, сев на краешек постели, не столько разоблачаясь перед ней, сколько прячась, и когда дело было сделано, я пристроился к ней под бочок, и ничего не произошло, я не стал ее ни ласкать, ни целовать, потому что во мне что-то умерло или не захотело рождаться, что одно и то же, потому что мое сердце закачивало кровь по всем местам, только не туда, куда надо, она жгла огнем мои щеки, била фонтаном внутри черепа, бешено стучала в висках, а между ног – ни капли, я даже не думал о том, что у меня не встает, я просто ничего там не чувствовал, все мысли мои были только об этом небытии, образовавшемся у меня между ног, надо сказать, что она мне не помогала, ни словом, ни жестом, потом вдруг резко встала, и я услышал, как за ней затворилась дверь.
19 лет, 2 месяца, 21 день
Четверг, 31 декабря 1942 года
Фиаско, которое я потерпел с Виолен, дало сигнал к подведению итогов. Заехав домой, я раздеваюсь донага и, встав перед зеркальным шкафом, подытоживаю, чего я добился по сравнению с детством в деле систематического строительства собственного тела. Никаких сомнений, мои неистовые отжимания, качания и всевозможные физические упражнения сделали свое дело: я стал на что-то похож. А именно: на экорше из «Ларусса», которое – вот оно, по-прежнему вставлено в щелку зеркала. Произведенное сравнение показало, что все мои мышцы находятся на положенных им местах и прекрасно видны: вот большие грудные, вот – бицепсы, дельтовидные, брюшной пресс, лучевые разгибатели кистей, большеберцовые, и, если повернуться спиной к зеркалу, икроножные, сгибатели пальцев, ягодичные, большие спинные, плечевые, трапециевидные, – все тут как тут, экорше – вылитый я, вот здорово, не зря я вертелся перед зеркалом. Я, который был «ни на что не похож», теперь похож на картинку из энциклопедии! Добавим, что я больше не боюсь. Ничего. Даже не боюсь испугаться. Нет больше такого страха, который я не смог бы подчиниь своей воле, той самой, которая вылепила это тело. Попробуйте теперь отнять у меня жизнь, попробуйте привязать к дереву! Да, да, конечно, приятель, только вот этот шедевр умственного и физического равновесия оказался ни на что не годен, когда ты уложил его рядом с прекрасной Виолен. Бедняга, ты и впрямь ни на что не похож. Иди-ка и займись снова своей гимнастикой и дорогой твоему сердцу учебой, работай над телом, готовься к экзаменам, только на это ты и годен – «поддерживать себя в форме» да «стать кем-то». Господи, что же это за чувство, которое охватывает мужчину, когда у него не стоит. Полное небытие ! А ведь сколько раз я брал свой член в руки! Сколько раз желание превращало его в каменное изваяние! А и правда, сколько же раз? Сто? Тысячу? Опутанную венами ветку, которая наполнялась кровью при одной мысли о чем-нибудь таком! Сколько спермы исторгалось из его глубин во время этих девственных извержений! Это тоже можно, наверно, сосчитать. Литры? Литры, пролитые в минуты сладострастия перед открытками, стыренными у бедного брата Делару. А в итоге – мертвое тело в постели Виолен. Даже потанцевать и то не смог. Сначала – посмешище, а потом – и вовсе мертвец. Ну и что тебя парализовало, дружок, что, как не страх, победой над которым ты так похваляешься? Такими словами, может, более путано, а может, менее, я обращался в то утро сам к себе, стоя нагишом перед зеркалом, лицом к лицу с экорше из энциклопедии Ларусса. А в следующий раз? Что будет в следующий раз? С какими мыслями и чувствами твое тело осмелится в следующий раз приблизиться к телу женщины? Вот о чем спрашивал я себя в то утро, вот о чем пишу сейчас, по-прежнему глядя на экорше. И вдруг в глаза мне бросилась одна деталь: у экорше-то между ног тоже ничего нет! Ни намека ни на член, ни на яйца! Есть только ближайшие поясничная и гребешковая мышцы, но они не имеют к этим органам никакого отношения. У экорше между ног ничего нет! Хорошо, половой член – это не мышца. Пусть. А что это? Орган? Пятая конечность? И какова структура этой конечности? Пористая? Как губка, пропитанная кровью. Так вот у экорше, представляющего кровеносную систему, на этом месте тоже ничего нет! Все тело до самого паха опутано кровеносными сосудами, а про то, как кровь наполняет жизнью орган, созданный для ее, жизни, продолжения, – ни гугу! Между ног – пусто! Очевидно, «Ларусс» член не жалует. Как постыдную часть тела. Гримасу Святого Духа. Вот и разберись с этим. Господин Ларусс-то – евнух.
19 лет, 2 месяца, 22 дня
Пятница, 1 января 1943 года
Забыл сказать. Открыв дверь моей комнаты и застав меня голым перед зеркалом, мама спросила: «Это еще что такое? Любуешься своей красотой?»
19 лет, 2 месяца, 24 дня
Воскресенье, 3 января 1943 года
Мужской половой орган: пенис, член, конец, пипка, фаллос, щекотун, причинное место, болт и т.д. Яички: яйца, железы, помидоры, яблоки, орехи и т.п. Сколько слов для определения детородных органов, изображение которых, видите ли, вызывает у физиологов отторжение.
19 лет, 3 месяца, 4 дня
Четверг, 14 января 1943 года
Неожиданный финал истории с Виолен. Все началось с перепалки на улице с Этьеном, который назвал мое поведение с сестрой его друга Эрве «не поддающимся определению». Затащить девушку в койку и даже не прикоснуться к ней? Ты понимаешь, до какой степени это унизительно? И потом, как мне было смотреть в глаза Эрве? Ведь это по моей просьбе он тебя пригласил! Этьен был вне себя, а мне так и хотелось заехать ему в морду. К счастью, одна из его фраз удержала меня от этого. Конечно, она не красавица, эта девица, так тем более! Раньше надо было думать, ты же не первый раз ее видишь! Она уже несколько месяцев по тебе сохнет. А теперь уже несколько дней, как ревет. Эрве готов был тебя просто убить, старик, я едва его успокоил! Не красавица? Виолен? Ну да, Виолен считает себя дурнушкой, ей кажется, что у нее некрасивое, слишком плоское лицо, как у карпа, – так она сама говорит, и цвет лица слишком блеклый, это уже говорит ее брат. А что, тебе она не показалась страшноватой? Виолен – дурнушка! Конечно же, я так не считаю. Да нет же, нет! Господи, и эта красавица убеждена, что была отвергнута из-за своего уродства! И во всем виноват я! Ранил ее до слез! Виолен страдает в одиночестве перед зеркалом! Совсем как я! Тот же стыд, тот же ужас, то же неведение и одиночество – все как у меня?
19 лет, 3 месяца, 6 дней
Суббота, 16 января 1943 года
В тот вечер, движимый похвальным желанием разбить лед в наших отношениях, Этьен отметил парадоксальность и комизм сложившейся ситуации: брат в ярости от того, что кто-то не обесчестил его сестру! Очень современно, однако! И тут я все ему выложил, начистоту. Он со знанием дела заключил: Девственник провалился? Так сделай как все – иди в бордель, это отличная школа! А ты сам ходил? Нет. А Руар? Тоже нет. А Мальмен? Он говорит, что не захотел, потому что проститутка оказалась сторонницей Петена.
На этом все и остановилось.
ЗАМЕТКА ДЛЯ ЛИЗОН
Милая моя Лизон!
На этот раз – заметка по контексту. «В то самое время», как говорится в твоих детских комиксах, а именно 3 января, в Старом Порту Марселя происходили знаменитые теракты. Одна бомба взорвалась в борделе для немецких солдат, другая – в обеденном зале отеля «Сплендид». Множество жертв. За этим последовали облавы, после которых исчез мой друг Зафран, потом немцы взорвали квартал Панье: было разрушено полторы тысячи домов, а у меня на некоторое время оказалась повреждена левая барабанная перепонка. В конце января была создана Французская милиция [7] , а с февраля людей начали угонять в Германию на принудительные работы. Тем, кого такие усугубившиеся обстоятельства вгоняли в депрессию, Этьен пояснял, что, наоборот, видит в них признак решающего поворота в ходе войны. Боши нервничают, это – начало конца. И он был прав.
19 лет, 6 месяцев, 9 дней
Понедельник 19 апреля 1943 года
В столовой – всеобщая драка из-за пропажи Зафрана. Защищавший его Мальмен попал в западню. Мне пришлось хорошенько поработать кулаками, чтобы его вызволить. Думаю, сексуальное унижение удесятерило мою энергию. Господа, бойтесь ущербных девственников – это потенциальные убийцы. Ну, по крайней мере, в этом деле мое тело выполняет все команды, посылаемые мозгом. Кроме того, мне помогло доскональное изучение экорше, и я с кровожадным наслаждением бил по особо болезненным местам. О, это опьянение битвой, когда тебе неведом страх! Руар со своими восемьюдесятью восемью кило чистого веса тоже неплохо разбирался с обидчиками. Теперь нас исключат? Возможно. Буду сдавать экзамен как свободный кандидат. Если разрешат…
19 лет, 6 месяцев, 13 дней
Пятница, 23 апреля 1943 года
Возвращаясь домой со справкой об отчислении в кармане, встретился в поезде с Этьеном. С абсолютно серьезным видом, словно эти сведения были им только что прочитаны в учебнике по медицине, который лежит у него на коленях, Этьен спрашивает остальных трех пассажиров нашего купе – двух мужчин и женщину, – известно ли им, что нервы и артерии, обслуживающие наши детородные органы, называются «срамными». Головы поднимаются от газет, глаза отрываются от пейзажей, пассажиры переглядываются и с неловкой улыбкой признаются, что нет, этого они не знали. Этьен с нотками высокомерия в голосе заявляет, что в наше время – время национальной революции – этот факт представляется поистине возмутительным. Он смотрит на обложку учебника, читает вслух фамилию автора и изрекает, что смотреть на органы размножения как на нечто постыдное, в то время как маршал Петен каждое воскресенье призывает сограждан к увеличению народонаселения Франции, – выглядит намеренно антипатриотичным! А вы, сударь, да-да, вы, вас, кажется, не интересует данный вопрос, обращается он ко мне, как будто мы незнакомы, что вы думаете по этому поводу? Я изображаю на лице удивление, а затем, окинув вопросительным взглядом остальных, робко предлагаю переименовать вышеупомянутые нервы и артерии в Нерв Национального подъема и Артерию Многодетной семьи . Не заподозрив подвоха, все погружаются в раздумья и на полном серьезе соглашаются с моим предложением. Дама даже предлагает свои варианты.
Поганое время.
19 лет, 6 месяцев, 16 дней
Пасхальный понедельник, 26 апреля 1943 года
Ко мне зашел Фермантен еще с двумя типами, чтобы привлечь меня к работе. О моем исключении он не знает и думает, что я приехал на каникулы. Мама радостно встречает его и направляет ко мне в комнату. Милицейская форма и берет делают его похожим на персонажа комедии дель-арте. Только не смешного. Я как раз занимался, готовился к экзамену и, «встав в позу», что обычно забавляет меня у других, объявил старому школьному товарищу, что никогда не вступлю в ряды милиции и что само это предложение расцениваю как оскорбление. Тот оглянулся на своих приспешников (их я не знаю, но один тоже был в форме) и сказал: Оскорбление? Вовсе нет. А вот это – и правда оскорбление! И плюнул мне в лицо. Фермантен все время плюется – это у него с детства. Я – один из немногих, на кого он еще ни разу не харкнул, так что если его плевок и застал меня врасплох, то, по крайней мере, не удивил. А потому мне удалось сохранить спокойствие. Я и бровью не повел, даже не попытался уклониться. Я только услышал «тьфу», увидел, как летит плевок, почувствовал, как он шлепнулся мне на лоб и стал стекать вниз между носом и скулой – как будто теплой водой брызнуло, честное слово. Утираться я не стал, сосредоточившись на самом ощущении – довольно банальном, – не обращая внимания на позорный смысл происходящего. Если бы я только шевельнулся, они бы меня избили. Слюна стекает по коже не так быстро, как вода. Она пенистая и продвигается не плавно, а толчками. И высыхает, не испаряясь. Один из двоих приспешников, тот, что тоже был в форме (они с Фермантеном были вооружены), сказал, что в любом случае они принимают к себе только мужчин. Я ничего не ответил. Я чувствовал, как в левом уголке рта у меня подрагивают остатки плевка. На какое-то мгновение мне подумалось, что я мог бы слизнуть их кончиком языка и отправить обратно обидчику, но не стал: моя «поза» и так стоила мне достаточно жертв. Мы еще встретимся, сказал Фермантен, не сводя с меня глаз. И, пятясь к двери, театрально вытянул палец в мою сторону и повторил: мы еще встретимся, педик. Я пишу эти строки перед тем, как снова сесть за книжки. Завтра я еду в Мерак.
4 21 год – 36 лет (1945—1960)
Любовная пунктуация Моны: дайте мне эту запятую, и я превращу ее в восклицательный знак.
ЗАМЕТКА ДЛЯ ЛИЗОН
Милая моя Лизон,
После этого нападения ты заметишь пропуск длиной в два года. Дело в том, что Фермантен с дружками, представь себе, явился в Мерак, чтобы испортить мне жизнь. К счастью, Тижо (ему тогда было девять лет, но он уже обладал той живостью ума, которая тебе так хорошо известна) заметил их и вовремя меня предупредил, так что я успел удрать. После чего мне, естественно, не оставалось ничего другого, как уйти в подполье. Меня ввел туда Манес. Я и не знал, что они с Робером участвуют в Сопротивлении. Манес, притворяясь, говорил о нем массу гадостей, а он из тех, кому обычно верят на слово. А коль скоро от него и об оккупантах не слышали ничего хорошего, он считался этаким бирюком, с которым лучше не связываться. Вступление Манеса в партию станет для меня впоследствии одним из главных сюрпризов. Впрочем, он оставался коммунистом до конца – несмотря на Берлинскую стену, на Венгрию, на Гулаг, на десталинизацию, – несмотря ни на что. Манес не слишком задумывался.
Я никогда не рассказывал вам об этом периоде своей юности, потому что, по сути дела, стал подпольщиком по воле обстоятельств. Если бы не Фермантен и его компания, я так и лупил бы свой мешок с песком да ковырялся в книжках до самого конца войны. Отлично учиться, получать дипломы, добиваться положения – вот дань, которую я собирался заплатить памяти отца. Но уж никак не воевать! Он бы проклял меня за это! «Больше всего род людской удручает меня не тем, что они вечно убивают друг друга, а тем, что после этого они продолжают жить». Именно тот плевок в физиономию бросил меня в круговерть исторических событий. Мое участие в них – следствие законов баллистики, и ничего больше.
Короче говоря, с весны 43-го года по весну 45-го (когда я вступил в армию Де Латра [8] ) мне пришлось оставить занятия и на какое-то время забросить этот дневник. Наши писания оставляют за нами длинный след, который плохо сочетается с подпольной деятельностью. Сколько товарищей полегло из-за всякой писанины! Никаких дневников, никаких писем, никаких заметок, никаких записных книжек – никаких следов. Особенно когда тебе доверена миссия связного, которую я исполнял последние десять месяцев! В этот период я потерял к своему телу всяческий интерес. Я имею в виду – как к объекту наблюдения. На смену ему пришли другие, более важные вещи. Например, остаться в живых, четко выполнять задания и возложенную на меня миссию, в долгие недели бездействия, несмотря ни на что, сохранять бдительность. Жизнь подпольщика – это жизнь крокодила. Сидишь неподвижно в норе до нужного момента, потом выскакиваешь, наносишь удар, быстро ныряешь обратно и снова ждешь. Между вылазками – не расслабляться, нервы держать в напряжении, упражняться, быть всегда начеку. Внешние опасности помогают обуздать тело с его сюрпризиками.
Не знаю, занимался ли кто-нибудь специально вопросами здоровья во время партизанских войн, но эта тема явно требует глубоких исследований. Среди моих товарищей почти не было больных. Чего только не пришлось вытерпеть нашим телам: голод, жажду, неудобства, бессонницу, усталость до изнеможения, страх, одиночество, застенки, тоску, раны – и ничего, они безропотно все выносили. Мы не болели. Ну, разве случайная дизентерия или простуда, с которыми мы быстро справлялись без отрыва от службы, – ничего серьезного. Мы спали со сведенными от голода животами, шагали на стоптанных в кровь ногах, на нас было страшно смотреть, но мы не болели. Не знаю, подходят ли мои наблюдения всему подполью, я констатирую лишь то, что видел вокруг себя. Конечно, с ребятами, которых угнали на работу в Германию, все было иначе. Те мерли как мухи. Несчастные случаи на работе, депрессия, эпидемии, инфекционные болезни, членовредительство, которое совершали те, кто хотел увильнуть от работы, – все это так и косило людей. Бесплатная рабочая сила расплачивалась своим здоровьем за работу, для которой требовалось лишь ее тело. У нас же главенствовал дух. Неважно, как его называть: дух сопротивления, патриотизм, ненависть к врагу, жажда мести, политические идеалы, братство, освободительная борьба, – что бы это ни было, благодаря этому мы оставались здоровы. Наш дух отдавал наше тело в полное распоряжение большому общему телу борьбы. Конечно, это не исключало соперничества, каждое политическое направление по-своему готовилось к мирной жизни, имело свое представление о том, какой будет освобожденная Франция. И все равно в борьбе против захватчиков Сопротивление, несмотря на его разнородность, всегда представлялось мне единым организмом, большим общим телом. Когда наступил мир, это большое тело распалось, и каждый из нас снова стал отдельной кучкой клеток со своими противоречиями.
В последние недели войны я познакомился с Фанш, которую ты так любила. Не будучи врачом, она была прирожденным хирургом, применяя свой талант на заброшенном кирпичном заводике, куда мы сносили наших раненых. Как ты знаешь, именно благодаря ей я сохранил руку. А вот чего ты не знаешь, так это что я научил ее методу «слухового обезболивания» по Виолетт, который она впоследствии с успехом применяла. Она так дико орала, делая нам перевязки, что боль отступала куда-то в самые глубины мозга. И еще ты не знаешь, что, несмотря на квадратную голову, раскосые глаза, бретонский выговор и боевой характер, Фанш не более бретонка, чем мы с тобой. На самом деле ее зовут Кончита, ее родители, испанские беженцы, поселившиеся в Бретани, переименовали ее в Франсуазу – в благодарность нашей стране. А Фанш – это мужское уменьшительное имя, которое ей дали ее бретонские приятели в ознаменование ее чисто мальчишеских доблестей.
21 год, 9 месяцев, 4 дня
Суббота 14 июля 1945 года
Именем Временного правительства, вверенными мне полномочиями…
Над чем же я плакал во время церемонии? Я не плакал со смерти Виолетт. Только от боли – в последнее время из-за раздробленного локтя. Короче говоря, я плакал, не скрываясь, в течение всей церемонии, плакал долго, без всхлипов, словно освобождаясь от слез и даже не пытаясь их утирать. Я все еще освобождался от них, когда Он стал награждать нас с Фанш. Без тени сомнения, Он сказал, что я – настоящий мужчина: вы с полным правом можете так называться! И, несмотря на то, что я был весь липкий, как бумага от мух, Он приложился ко мне в отеческом поцелуе. И, как и я, не утерся после этого. Вот он – настоящий героизм! После двухлетнего перерыва мне хочется, прежде всего, написать здесь про эти слезы. Вернее всего было бы сказать, что мое тело излило из себя все слезы, которые мой дух скопил за годы этой невообразимой бойни. Сколько нашей личности вытекает со слезами! Плача, мы опустошаемся в гораздо большей степени, чем писая, омываемся гораздо лучше, чем плавая в самом чистом озере, снимаем с души груз, скидывая его на платформу прибытия. Как только душа переходит в жидкое состояние, можно праздновать встречу с телом. Мое этой ночью, несомненно, будет спать. Думаю, я плакал от облегчения. Всё закончилось. По правде говоря, оно закончилось уже несколько месяцев назад, но для окончательного закрытия данного периода жизни мне потребовалась эта церемония. Конец. За это Он меня и наградил – за окончание моего сопротивления. Да здравствуют слезы!
21 год, 11 месяцев, 7 дней
Понедельник, 17 сентября 1945 года
Я снова начал готовиться к вступительным экзаменам. И все физические ощущения, связанные с умственной работой, немедленно вернулись ко мне. Трепетная тишина, пушок книжных страниц под подушечками пальцев, поскрипывание пера по бумажным волокнам, терпкий запах клея, поблескивание чернил, тяжесть неподвижного тела, мурашки в ногах после того, как ты слишком долго сидел, скрестив ноги. Чтобы избавиться от этих мурашек, я вскакиваю и начинаю лупить по своему мешку, подпрыгивая и пританцовывая, – прямой правой, прямой левой, кросс, апперкот, серия коротких прямых (конечно, левая рука у меня не до конца разгибается, но кроссы и апперкоты у нее получаются неплохо), в голове жужжат стихи в ритме бокса, крутятся фразы многовековой давности, а ноги все приплясывают, а кулаки молотят по мешку, пот ручьем… Затем – прохлада зачерпнутой из тазика воды – ополоснись! вытрись! надень рубашку! – и снова неподвижность, снова это ощущение парения над строчками! Я как сокол-сапсан, высматривающий добычу на просторах раскрытой страницы, прячьтесь, умные мысли, все равно вам ничего не поможет: вы будете не только съедены, но переварены и усвоены, вы станете пищей для моей головы! Вот черт, куда это меня заносит? На сегодня хватит, веки отяжелели, как будто их заполнили песком, перо не слушается. Поспим. Ляжем прямо на землю и поспим.
21 год, 11 месяцев, 10 дней
Четверг, 20 сентября 1945 года
Сделал перерыв и перечитал бульшую часть этого дневника. (Тетради вернул мне на днях Тижо. Они были спрятаны у него, но он «ничего не читал, честное слово!».) С удивлением и волнением нашел записи про Додо. Додо, которого я выдумал, когда жил с мамой, чтобы у меня был друг. Додо – мой вымышленный младший братик, которого я учил писать и есть то, что он не любил. Додо, которого я учил выдержке, которому преподавал основы секса – подрочи мне, малыш Додо, во мне соки гуляют! Додо, которого я потихоньку настраивал против спесивой, лживой, напыщенной материнской глупости. Не могу сказать, что Додо – это я сам, нет, но он стал для меня убедительным упражнением на становление личности. Я чувствовал себя таким неживым – таким не живущим – рядом с умирающим отцом, посреди всего этого вранья, которое мать называла «жизнью» – жизнь – это не то, жизнь – это не это … Пусть Додо был выдумкой, но его хрупкое тельце (я слышал его сонное сопенье рядом с собой, когда, испугавшись чего-то ночью, он перебирался ко мне в кровать) было реальнее и явственнее той «жизни», о которой вещала ее святейшество моя мать. Сейчас, когда я пишу эти строки, мне кажется, что все последние годы, слушая голос маршала Петена, я слушал свою мать. То, что он блеял по радио про жизнь и про Родину, было такой же закоснелой, вековой, трусливой, лицемерной, смехотворной ложью. Это живший во мне Додо вступил в ряды Сопротивления. Это Додо был удостоен награды. И по крайней мере, я могу быть уверен, что он не будет ею хвастаться.
22 года, 3 месяца, 1 день
Пятница, 11 января 1946 года
Как приятно снова почувствовать вкус кофе после нескольких лет сплошного цикория! Черный кофе, крепкий, горький. Этот удар по вкусовым ощущениям, за которым следует довольное причмокивание. Это жжение за грудиной, которое бодрит и подстегивает, ускоряет сердцебиение и стимулирует нервные клетки. Хотя, если честно, он часто бывает противным на вкус. До войны он был вкуснее. Но почему сегодняшний кофе не такой вкусный? Может, это тоска по прошлому?
22 года, 5 месяцев, 17 дней
Среда, 27 марта 1946 года
О кошмарах. За два последних года они мне почти не снились. Но с возвращением к мирной жизни они снова пошли в наступление. Я не считаю их порождением моего сознания, это всего лишь мозговые отходы. Решил приручить их посредством записей. Кладу рядом с кроватью блокнот и, как только проснусь, записываю очередной кошмар. Эта привычка имеет двойной смысл: во-первых, она позволяет оформить кошмары в рассказы, во-вторых, так они меня не пугают. Из объектов страха они превращаются в предмет моего любопытства, они как будто знают, что я поджидаю их, чтобы перенести на бумагу и – вот дураки-то! – почитают это за честь. Как раз сегодня ночью, во время одного из них, самого жуткого, я ясно подумал: не забыть записать это, когда проснусь. В данном случае «это» – оторванная рука жандарма из Розана, которая писала что-то прямо на небе.
22 года, 6 месяцев, 28 дней
Среда, 8 мая 1946 года
Первая годовщина Победы. Можно подумать, что в честь праздника болезни, которые не трогали меня за эти месяцы борьбы, набросились на меня все сразу: насморк, колики, бессонница, кошмары, стеснение в груди, температура, провалы в памяти (засунул куда-то часы и бумажник, потерял адрес Фанш, конспекты по Светонию, все лабораторные работы и т.д.). Короче говоря, мое тело разгулялось не на шутку. Оно как будто решило вернуться на исходные позиции – к тому чахлому ребенку, каким я был когда-то. ( Ничего, говорила Виолетт, это у тебя нервы. ) И правда, сегодня утром, когда я проснулся, нервы у меня были на пределе, нос заложен, в животе урчало, в горле застрял ком, а температура подскочила до тридцати восьми и двух. Схватить насморк под тремя одеялами и понос после превосходного ужина? Похоже, мое тело сопротивляется вновь обретенному комфорту. Что касается кома в горле, то после двух часов работы он бесследно исчез; перевод старика Плиния меня успокоил. Зато от дизентерии я валюсь с ног, мне с трудом удается лупить по своему мешку. а здравствует война – залог здоровья? Во всяком случае, за два года, что я крутился в пляске смерти, мир нервничал вместо меня.
23 года
Четверг, 10 октября 1946 года
Приехав в Париж, заглянул к Фанш. Завтра у меня собеседование в министерстве. Фанш спросила, где я собираюсь ночевать. В отеле, в четырнадцатом округе. Пока я жива, фугасик, никаких отелей, тем более в день твоего рождения! (Смотри-ка, помнит!) Она отводит меня на бульвар Рошешуар, в реквизированную квартиру, населенную полудюжиной музыкантов. Вина – залейся, еды – никакой, сплошное веселье и никакого благоразумия. Пойдем! Ну, ладно. В какой-то момент они всем кагалом снимаются с места и отправляются в кабак. Фанш знает неподалеку, на улице Оберкампф, бомбоубежище, переделанное недавно в отличный погребок. Ну, пошли же! Я колеблюсь. Я устал. Тело ноет после поезда. И завтрашнюю встречу никак нельзя пропустить. Если я ее сорву, мне останется только вернуться к себе в конуру. Нет, спасибо, я лягу спать. Фанш показывает мне комнату, кровать, вот здесь. Хочешь принять ванну? Ванну? Настоящую? В настоящей ванне? Неужто такое возможно? В ванне я собираю по частям тело, совершенно развалившееся за семнадцатичасовое путешествие по железной дороге. После чего немедленно засыпаю, голый и теплый. Просыпаюсь среди ночи. Кто-то лезет ко мне под одеяло. Чье-то тело, такое же голое и теплое, как мое, пухлое, самое что ни на есть женское, три слова: чшшшш, не дергайся, я сама, после чего на меня набрасываются, и вот уже мой член раскрывается у нее во рту, принимая правильные, вполне достойные очертания, а руки тем временем ласкают мой живот, поднимаются выше, к груди, очерчивают контур плеч, спускаются вниз по рукам, по бедрам, оглаживают меня, точно руки гончара, хватают за ягодицы, те доверчиво укладываются в них, а полные мягкие губы и нежный язык все работают, работают, о, еще, еще, пожалуйста, но я чувствую, как неотвратимо поднимается волна, как втягивается живот, не надо, подожди, держись, держись, парень, не губи эту вечность, но как удержать извержение вулкана, за что ты его удержишь, можешь сколько угодно стискивать кулаки и сжимать веки, кусать губы, вставать на дыбы под всадницей, которую тебе вовсе не хочется сбрасывать, – бесполезно, волна растет, ты лепечешь что-то, постой, тихонько, погоди, постой, не надо, ты отпихиваешь от себя ее плечи, но они так пышны, так аппетитны, что пальцы предательски задерживаются на них и начинают разминать кошачьими движениями, и я знаю, что мне дольше не выдержать, знаю и, как воспитанный юноша, вдруг думаю: только не в рот, так же нельзя, я уверен, в рот – нельзя, но она отталкивает мои руки и удерживает меня, пока я кончаю, кончаю из самых недр моего существа, удерживает у себя во рту и медленно, терпеливо, решительно пьет мою утраченную наконец девственность. А потом она подползает поближе, к самому моему уху, и я слышу ее шепот: Фанш сказала, что у тебя сегодня день рождения, я и подумала, что из меня получится неплохой подарок.
23 года и 3 дня
Воскресенье, 13 октября 1946 года
Мой подарок зовут Сюзанной, она приехала из Квебека, она – специалист по взрывчатым веществам, то есть по разминированию, и эта работа тоже требует терпения и точности. Благодаря ей мое собеседование прошло отлично. Я был переполнен жизненной энергией. Бессонные ночи тоже бывают разные. Потому что, как спокойно пояснила Сюзанна во время завтрака за общим столом, мы всю ночь провели «в любви», и оральным сексом дело не ограничилось, нет, после того как я кончил, настала ее очередь наслаждаться, потом – снова моя, потом наша – на этот раз мы взорвались одновременно, потом еще парочка «выходов на манеж», потому что «в эт парне столько неизрасходованной любви – эт что-то!». Я ставлю эти квебекские фразы в кавычки, а сам думаю об акцентах, над которыми не властны ни века, ни океаны. Пока собравшиеся за столом смеялись, у меня вдруг закралось подозрение, что Луиза Лабе [9] , возможно, сочиняла стихи с таким же акцентом, как у Сюзанны, или Корнель, которого всегда так кстати цитирует Фанш: «Сначала в силах мы сопротивляться страсти, Пока она своей не показала власти».
23 года, 4 дня
Понедельник, 14 октября 1946 года
Ах, как мне нравится акцент – акцент во плоти!
23 года, 5 дней
Вторник, 15 октября 1946 года
Есть нечто физическое, почти животное, во всяком случае, примитивно-половое в противостоянии престарелого начальника и молодого специалиста. По крайней мере, такое ощущение осталось у меня после только что пройденного собеседования. Два самца наблюдают друг за другом. Старый вожак и молодой, карабкающийся наверх экземпляр. Обнюхиваются без намека на доброжелательность, выясняя меру осведомленности и намерения друг друга. Сколько ты знаешь, докуда намерен идти? – написано на морде старшего. Какую ловушку ты мне заготовил? – спрашивает физиономия кандидата на место. Это – противостояние двух поколений, умирающего и идущего ему на смену. И ничего приятного тут нет и быть не может. Как бы это ни выглядело внешне, культура и дипломы тут мало что значат. Яйца, мужская сила – вот что важно в этой дуэли. Способен ли ты стать продолжателем касты? – интересуется вожак. Стоит ли тебе жить дальше? – задается вопросом новичок. И все это – под глухое рычанье в крепком духе спермы, старой, прогорклой и ядреной, молодой.
23 года, 16 дней
Суббота, 26 октября 1946 года
Только что, после сеанса любви, лежа на животе и обливаясь потом, опустошенный, умиротворенный, уже сонный, я почувствовал, как мне на спину, на бедра, на шею, на плечи через неравные промежутки времени падают прохладные капли. Медленная восхитительная капель, тем более чудесная, что я не знал ни куда, ни когда упадет следующая капля, показывая мне определенную точку моего тела, как мне казалось, каждый раз – новую. В конце концов я обернулся: сосредоточенно, словно над неразряженной миной, Сюзанна стояла надо мной на коленях со стаканом в руке и окропляла меня водой. Ее кожа вся усеяна веснушками и темными родинками – словно звездочками. Взяв шариковую ручку, я нарисовал на ней карту звездного неба: Большая Медведица, Малая, и т.д. А теперь давай посмотрим на твои небеса, сказала Сюзанна. Но у меня на коже ничего нет, ни спереди, ни на спине – ни пятнышка, ни родинки. Ничего. Чистая страница. Что меня огорчает, но она трактует это по-своему: Ты как новенький.
23 года, 3 месяца, 11 дней
Вторник, 21 января 1947 года
Сюзанна уехала обратно к себе в Квебек. Войны заканчиваются для всех. Мы достойно отметили разлуку:
Царапина на правой щеке.
След укуса на мочке левого уха.
Засос на шее, справа, где бьется пульс.
Еще засос слева, под подбородком.
След от укуса на верхней губе – припухший, синеватый.
Четыре параллельные царапины на расстоянии примерно сантиметра одна от другой от грудной кости до левого соска.
Такие же отметины в верхней части спины.
Засос на правой стороне груди.
Довольно глубокий укус на подушечке большого пальца.
Болезненные яички.
И, как последний штрих, след поцелуя в паху слева: «Когда помада сотрется, надо будет начинать жить заново».
Фанш в который раз залечивает мои раны. Например, от нее я узнал, что Сюзанна залезла ко мне в постель не только из-за моего дня рождения. Да? Да, фугасик, это был приказ – лишить тебя девственности. Без шуток? Конечно, без шуток! Мы же все за тебя переживали. Непорочный связной – такая редкость. Такая опасная работа, такое напряжение, большинство из вас после задания сразу запрыгивали в постель. Занимаясь любовью напропалую, связные как бы заговаривали опасность. Парни, девчонки – всем нужны жизненные силы, всем хочется чувствовать себя в безопасности в чужих объятиях. А ты – нет. И все это знали. Отсюда всякие подозрения. Священник? Девственник? Импотент? Несчастная любовь? Чего только о тебе не думали. Вот Сюзанна и решила произвести разведку боем. Последний подвиг Сопротивления, вот так-то, фугасик!
ЗАМЕТКА ДЛЯ ЛИЗОНФанш стала звать меня «фугасиком» с того дня в марте 45-го, когда после боя при Кольмаре мне на эльзасской дороге чуть не оторвало полруки осколком фугаса. Я вел грузовик, беспечно высунув локоть в окошко, – как будто не было уже никакой войны. Фанш всем своим раненым давала такие прозвища – по названию оружия, поразившего их. Я – «фугасик» из-за того самого снаряда, Ролан – «пулеметик» (он как-то попал в засаду и еле выбрался, неся свои кишки в руках), Эдмон, чудом выживший после допроса с пристрастием, – «ванночка». «Мой фугасик» – иначе она меня больше никогда и не называла.
23 года, 3 месяца, 28 дней
Пятница 7 февраля 1947 года
После каждого насморка я еще долго просыпаюсь по ночам с заложенным носом. Сухим, но заложенным. Особенно левая ноздря, закупоренная разращением слизистой, которое я даже могу нащупать пальцем, если засунуть его поглубже. Я сплю с открытым ртом и просыпаюсь с пересохшей глоткой. Может, у меня аллергия на парижский воздух?
23 года, 4 месяца, 9 дней
Среда, 19 февраля 1947 года
Не знаю, что тому причиной – отъезд ли Сюзанны, или заградительный огонь, которым Шаплен отвечает на любое мое предложение, или же этот кретин Пармантье, помешавшийся на своих квотах, но меня все время мучит изжога. Я и в детстве страдал старческими болезнями. Этими болячками, которые сопровождают вас всю жизнь и в конце концов становятся чертами характера. Вот и сейчас я кисну изнутри, а через несколько лет прокисну совсем?
23 года, 5 месяцев, 21 день
Понедельник, 31 марта 1947 года
Поел через силу. Плохо спал. Ничего не проходит и не выходит. Почти постоянные боли на уровне пищевода. Я затянул с этим делом и теперь нервничаю. Этьен говорит, что надо обследоваться. Это особенно полезно для нервов, говорит он. Гастроэнтеролог, к которому он советует обратиться, может положить меня к себе в больницу Кошен через две недели. Немного помогают пастилки «Ренни». От Сюзанны никаких вестей.
23 года, 5 месяцев, 30 дней
Среда, 9 апреля 1947 года
Осталось еще пять дней. Господи, сколько времени потеряно! От Сюзанны по-прежнему ничего. Чего ты ждешь от этой девицы? – спрашивает Фанш, она открыла тебе двери во взрослую жизнь, фугасик, так давай, входи! Я жду, когда вернется аппетит. В том числе и сексуальный. И вкус к жизни – тоже. В общем, ко мне возвращаются мои детские страхи. В виде ипохондрии! Потому что то, что я сейчас чувствую, – к чему скрывать? – это безотчетный страх заболеть раком. Ипохондрия: расстройство сознания, влекущее за собой гипертрофированное восприятие телесных проявлений. Что-то вроде мании преследования, где мы и преследуемые, и преследователи одновременно. Мое сознание и мое тело поигрывают друг с другом. Вообще-то, занятное ощущение – совершенно новое. Интересно, я по природе ипохондрик или это у меня временное? Рак желудка: быть сожранным изнутри собственным органом пищеварения! Ужас!
23 года, 6 месяцев, 2 дня
Суббота, 12 апреля 1947 года
Я себя не перевариваю.
23 года, 6 месяцев, 4 дня
Понедельник, 14 апреля 1947 года
Консультация у врача длилась семь минут. Вышел от него в ужасе. Не запомнил и четверти из того, что наговорил мне этот гастроэнтеролог. Я не смог бы описать его кабинет. Странное расстройство памяти. Вам повезло, один пациент отказался от госпитализации, я могу взять вас через три дня. Это правда или он накормил меня этой трепотней только затем, чтобы не сказать, насколько все не терпит отлагательств? Я не слушал его, только вглядывался в его лицо. Сухо, четко он пояснял мне, что через три дня вставит мне в живот трубку, чтобы посмотреть, что там происходит. Больше на лице этого специалиста прочесть было ничего нельзя, но моя ипохондрия наделяла каждую его черточку невысказанной задней мыслью. Ты скоро совсем спятишь, мой милый, ты ведешь себя так, будто этот врач – переодетый эсэсовец!
23 года, 6 месяцев, 6 дней
Среда, 16 апреля 1947 года
Не могу читать. Не могу ни на чем сосредоточиться. Только физический труд еще как-то меня отвлекает. Хотя сегодня утром Жозетт сказала, что у меня отсутствующий вид, а Марион – что озабоченный. «Ренни» мне больше не помогает. Совсем. Нервы вконец расстроены. Нет никаких сомнений: ставки сделаны, я в последний раз в качестве не-больного пью это вино, ем эти маслины, это пюре (которые, впрочем, не проходят), и я никогда больше не увижу, как цветут каштаны Люко.
С каких это пор тебя интересуют каштаны, придурок? Ты же всегда считал их слишком «школьными»! Все верно, но теперь, когда я уверен в скорой смерти, я мог бы влюбиться и в таракана. Страх заболеть ужаснее самой болезни. Поставьте же мне скорее диагноз, чтобы я воспрял духом! Уж перед неминуемым раком я смогу держаться достойно. Я даже знаю как – есть у меня в запасе несколько героических поз. Но пока – влажные ладони, дрожащие пальцы, приступы паники, от которых запор переходит в понос, – как когда мне было двенадцать лет. Я не буду больше бояться, не буду бояться, никогда не буду бояться… Ничего себе! неужели я так ничему и не научился? Неужели этот дневник, который я завел, чтобы изгнать из себя вот этот самый страх, был ни к чему? Неужели мне всю жизнь придется уживаться с этим ничтожеством, с этим беспозвоночным, который при малейшем мандраже сразу делает в штаны? Хватит ныть! Ишь, распустил нюни! Прекрати, слышишь?! Посмотри на себя со стороны, идиот несчастный, ты выбрался живым из всемирной мясорубки, и чудеснейшая из женщин открыла тебе дорогу, по которой ты можешь пройти в дамки!
23 года, 6 месяцев, 7 дней
Четверг, 17 апреля 1947 года
Прошел гастроскопию в состоянии полной отрешенности. Сдался на милость науки. Слепая вера и никаких иллюзий. Тихий фатализм. Все время, пока гастроэнтеролог вместе с помощником засовывали мне в глотку шланг, а потом пропихивали его по пищеводу, чтобы в конце концов обследовать мой желудок до самого привратника, я боялся, что меня вырвет, и чтобы побороть этот страх, думал о шпагоглотателе, которого видел однажды в детстве, когда папа водил меня в цирк. Изучая мои внутренности, врачи трепались. Поправляя шланг, они обсуждали будущий отпуск. Вот и хорошо. Пусть. Одна жизнь кончается, другие продолжаются. Хорошая новость: обследование показало банальное раздражение слизистой пищевода. Плохая новость: мне придется снова прийти с результатами анализа крови. Лечение: обволакивающие средства и диета. Никакого мяса в остром соусе (похоже, этот врач не в курсе, что у нас – карточки).
23 года, 6 месяцев, 18 дней
Понедельник, 28 апреля 1947 года
Обследования показали, что все в норме. Ничего у меня нет! Что вызывает у меня смешанное чувство ликования, омраченного стыдом за собственную трусость. Но главное – облегчение, ввиду чего я отправился с Эстеллой в ресторан. Я заказал ливерную колбаску, жареную картошку и бутылку «Бруйи». До сегодняшнего дня мне нельзя было ничего кислого. Потом – прекрасная прогулка с Эстеллой по Ботаническому саду. Мое тело снова со мной. Да-да, прямо по Монтеню – прекрасный свет здоровья !
23 года, 6 месяцев, 28 дней
Четверг, 8 мая 1947 года
Прохожий спрашивает, как пройти к Трокадеро. Но вместо того чтобы показать, я вдруг, неожиданно для самого себя, говорю ему с Сюзанниным акцентом, «шо я нездешний, шо я с Квебека и никакого Трокадеро н’знаю». Когда Сюзанна изображала французское произношение – мое произношение, – она показывала мне физиологическую сторону нашего языка. Лицо ее вытягивалось, брови подскакивали кверху, она задирала голову, прикрывала веки, выпячивала вперед губы с капризно-надменным выражением: вы, французы, черт бы вас побрал, говорите своей куриной гузкой с таким видом, будто прямо сейчас высрете на наши бедные головы золотое яйцо!
23 года, 6 месяцев, 29 дней
Пятница, 9 мая 1947 года
Произношение, говорила Сюзанна, это как если бы мы ели свой язык! Ты, француз, в нем ковыряешься, а я уминаю за милую душу!
ЗАМЕТКА ДЛЯ ЛИЗОН
После истории с ипохондрией – пропуск длиной в несколько месяцев. Вновь обретенная радость бытия, начало карьеры и связанное с этим возбуждение, а также политические поединки оказались важнее этого дневника. Сыграв со мной очередную шутку, тело отошло на задний план. Да и послевоенная жизнь била ключом.
24 года, 5 месяцев, 19 дней
Понедельник 29 марта 1948 года
После сеанса любви Брижитт спрашивает, не веду ли я дневник. Я говорю, что нет. А она ведет. Я спрашиваю, напишет ли она в нем про нашу ночь. Возможно, говорит она с притворной стыдливостью, характерной для девушек, которые, признавшись в главном, считают, что, упираясь в деталях, сохранят-таки свою тайну. Конечно, напишешь, подумал я, и именно поэтому у меня нет личного дневника. От сегодняшней ночи у меня останется, прежде всего, стойкое ощущение болезненного напряжения уздечки крайней плоти, которая чуть не порвалась. Это все, о чем я должен написать здесь. Остальное, более приятное, никакого дневника не касается.
24 года, 5 месяцев, 22 дня
Четверг, 1 апреля 1948 года
Все-таки «натянуть носочек» звучит гораздо симпатичнее, чем «открыть головку члена». Хотя в физиологии не стоит полагаться на эмоции. К тому же слово «открыть» вызывает у меня вполне приятную ассоциацию с машинами с откидным верхом.
24 года, 6 месяцев, 6 дней
Пятница, 16 апреля 1948 года
Был у одного доктора по фамилии Бек, которого рекомендовал мне дядя Жорж, консультировался по поводу «пузырей», которые на несколько недель закупоривают мне ноздри после каждого насморка (особенно левую). Полипы, ничего тут не поделаешь. Неужели это на всю жизнь? При сегодняшнем состоянии медицины – несомненно, молодой человек. Так-таки ничего нельзя сделать? Попробуйте не болеть осенью и весной. Каким образом? Избегайте людных мест: метро, кинотеатров, театров, церквей, музеев, вокзалов, лифтов… Он зачитывает список, словно диктует рецепт, и в довершение дает совет: Кроме того, избегайте оральных контактов. (Короче говоря, избегайте рода людского – всего-то.) А операция? Не советую, полипы – это не миндалины, они отрастают снова. И все же добрый доктор Бек отпускает меня с хорошей новостью: носовые полипы редко бывают злокачественными, в отличие от тех, что, возможно, обнаружатся однажды у вас в мочевом пузыре или в кишечнике.
24 года, 6 месяцев, 14 дней
Суббота, 24 апреля 1948 года
Моя машина потеряла откидной верх: уздечка крайней плоти в конце концов не выдержала, и мой разорванный член залил нас с Брижитт кровью. Оглядев себя, Брижитт заявила, что «мир перевернулся».
24 года, 6 месяцев, 21 день
Суббота, 1 мая 1948 года
Значит, воздержание. Все равно кожа у Брижитт какая-то пупырчатая. Не думаю, что я смог бы все ночи проводить рядом с такой пупырчатой задницей. Всю жизнь рядом с ней – возможно, но все ночи рядом с ее задницей – нет.
25 лет
Воскресенье, 10 октября 1948 года
Оргазмы из самых недр тела, оргазмы от кончика члена. Теперь с Брижитт мне случается кончать только потому, что так надо. Вежливый оргазм, скромное удовольствие, ограничивающееся зоной, которая его порождает, послушное следование приказу: надо трахать – будем трахать, пора кончать – кончаем. Оргазм от ума, тело участвует в нем только частично. Так тебе и надо, звучит внутри меня назидательный шепот, чтобы излить из себя что-то, сперва надо им наполниться. Люби, преисполнись любви, люби всем сердцем, и тогда ты насладишься всласть! Не далее как вчера сие утверждение было опровергнуто девицей, предлагавшей платные услуги, которую я подцепил на улице Могадор в качестве подарка к собственному дню рождения. Она оказалась такой нежадной в отношении своего времени, такой искусной и такой покладистой, что мое тело буквально взорвалось – всё, включая голову, как при Сюзанне.
25 лет, 2 дня
Вторник, 12 октября 1948 года
В день рождения всегда вспоминаю первые годы моей жизни, когда мама спрашивала, что, по моему мнению, я «заслужил» в качестве подарка. Так и слышу ее голос: Ну и как по-твоему, что ты заслуживаешь на день рождения? Она говорила это с воспитательной целью, чеканя каждый слог и глядя широко раскрытыми глазами, чтобы показать, что от нее ничто не может ускользнуть. Это при ее-то невнимании к окружающим. И нежелании быть внимательной. Задувая свечки, я специально кашлял. Как папа. Что мне действительно тогда доставило бы радость в день рождения, так это хорошая чахотка!
25 лет, 3 месяца, 6 дней
Воскресенье, 16 января 1949 года
Довольно долго – во всяком случае, мне так показалось – пытался извлечь волоконце лука-порея, застрявшее между верхним правым резцом и соседним клыком. Сначала ногтем, потом – уголком визитной карточки, и наконец – заостренной спичкой. Но никакого волоконца там не оказалось. Десна неверно меня информировала, она сама ошиблась, запомнив предыдущий подобный случай. И не первый раз она играет со мной такие шутки. Надо же, моя десна – жертва иллюзий!
25 лет, 3 месяца, 12 дней
Суббота, 22 января 1949 года
Бесполезно дольше скрывать это от самого себя: Симона не вызывает во мне никакого желания. И это – взаимно. Наши тела не подходят друг другу. Рано или поздно эта несовместимость станет причиной нашего разрыва. Теперь же у нас период компенсации. Под идеальным взаимопониманием, которое мы демонстрируем на людях и благодаря которому мы считаемся такой «публичной» парой, мы скрываем наше сексуальное фиаско. Нельзя, чтобы от этого недоразумения однажды пострадал ребенок.
25 лет, 3 месяца, 14 дней
Понедельник, 24 января 1949 года
Пытаюсь в постели объяснить Симоне способ, которому учил когда-то Додо: как есть то, что не любишь. Увы, транспонирование оказалось невозможным. Мой вымышленный младший братик должен был напряженно думать о том, что у него во рту, и только об этом, четко представляя себе, из чего состоит эта еда, а не придумывать всякое, как это часто делают дети, исходя больше из консистенции того, что едят, чем из вкуса. Рисовые котлетки – это не рвотная масса, шпинат – не какашки, и т.д.
Так вот, в постели, где почти все зависит от консистенции, этот метод не работает. Чем лучше я знаю, что именно сейчас сжимаю в объятиях, тем труднее мне к этому примениться: эта сухая кожа, эти острые ключицы, эта плечевая кость, прощупывающаяся под двуглавой мышцей, эта слишком мускулистая грудь, твердый живот, жесткая поросль на теле, напряженные ягодицы, слишком маленькие для моих рук, – одним словом, это тело спортсменки неизменно заставляет меня мечтать о чем-то противоположном. Хуже того, чтобы употребить его должным образом, мне приходится прибегать к разнообразным фантазиям. В противном случае – вялость, сомнительные извинения, испорченная ночь, дурное настроение утром.
25 лет, 3 месяца, 22 дня
Вторник, 1 февраля 1949 года
И потом, мне не нравится ее запах. Сама она мне нравится, а вот нюхать ее я не могу. В любви нет большей трагедии.
25 лет, 3 месяца, 25 дней
Пятница, 4 февраля 1949 года
Монтень: Самый прекрасный женский аромат – это отсутствие запаха . Неужели? Где ты, Виолетт? Твой запах был моим покрывалом. Но Монтень говорил не о тебе. Где ты, Сюзанна? Твой запах был моим знаменем. Но и не о тебе он говорил.
25 лет, 4 месяца
Четверг, 10 февраля 1949 года
У нас с Симоной есть «все для взаимопонимания», только вот наши тела ничего не говорят друг другу. Мы подходим друг другу, а тела – нет. По правде говоря, прежде всего меня привлекло не ее тело, а ее манера держаться: взгляд, походка, голос, чуть резковатое изящество жестов, рост, элегантность, улыбка на сомневающемся лице, и все это (что я принял за ее тело) идеально сочеталось с тем, что она говорила, думала, читала, и предвещало полное согласие. И вдруг в постели со мной оказывается чемпионка по теннису, сплошные мускулы, сухожилия, все под контролем, все – сама сдержанность. Что было бы, если бы благодаря боксу и физическим упражнениям я сам не был бы так накачан? Стукнувшись прессом о пресс, мы отскакиваем друг от друга. А что, если мне теперь растолстеть? Стать рыхлым и тучным? Чтобы мое раздувшееся тело вбирало в себя ее мускулы, одновременно проникая в них? Чтобы, отдаваясь мне, она покоилась в моих жирных складках? Когда Фанш спросила Полину Р., почему она любит только очень толстых мужчин, та ответила, закатив глаза и задыхаясь от восторга: Ах, это как будто занимаешься любовью с облаком!
25 лет, 4 месяца, 7 дней
Четверг, 17 февраля 1949 года
Сегодня утром наша постель была едва измята.
25 лет, 5 месяцев, 20 дней
Среда, 30 марта 1949 года
Кариес, или искушение болью. Проснулся от зубной боли. Кариес. Сначала эта гадость заставила меня взмыть под потолок, но потом даже показалась интересной . Есть в ней что-то электрическое. Да-да, эта боль ближе всего к удару электрическим током. И как любая электротравма, она несет в себе элемент неожиданности. Язык мирно подремывает во рту, ни о чем не думая, и вдруг – две-три тысячи вольт! Страшно больно, но боль длится недолго. Как одиночная молния на грозовом небе. Боль не распространяется, ее действие четко ограничено одним участком, и она почти сразу же исчезает. До такой степени, что первое удивление сменяется сомнением. И тут начинается опасная игра – проверка ощущений. Сначала на разведку отправляется язык, недоверчиво, с тысячей предосторожностей, точно сапер, он обследует десну, стенки подозрительного зуба, только после этого отваживается подняться на выщербленный гребень и с осмотрительностью слизняка, продвигающегося на ощупь при помощи выставленных вперед рожек, проникает в колодец. Но тут новый электроразряд снова подбрасывает – так, понятно. Только вот очень трудно сохранить это ощущение в мозгу, настолько эта боль мимолетна. И ты начинаешь все сначала. Новый разряд! Слизняк сжимается в комок. Вот такой вот шутник этот кариес.
25 лет, 5 месяцев, 24 дня
Воскресенье, 3 апреля 1949 года
Каролин – настоящий кариес. Вспышки ее злобы моментально забываются. До такой степени, что, схлопотав от нее оплеуху, сразу начинаешь сомневаться: а была ли она вообще? Такая нежная девушка! Такой голосок! Такая бледненькая! Такая синеглазая! А волосы – прямо как у Боттичелли! Ну и начинаешь снова. Проверяешь себя. И возвращаешься в слезах. Она мне сделала это, она мне сделала то. Пострадавших – предостаточно. Каролин – это кариес, возникший на почве нашей ненасытной жажды быть любимым. Когда с нее сорвешь маску, она изображает из себя больной зубик: У меня было такое несчастное детство. Сама невинность. Разве кариес может быть в чем-нибудь виноват? Это не я – это злые люди сделали меня такой. А ее бесконечные жертвы выступают в роли зубного врача. Я, я тебя вылечу! Очаровательный кариес. Даже привлекательный. Дантисты расталкивают друг друга: Смотри, какие у меня мази, какая бормашина! Как я люблю тебя! Я знаю, что на самом деле ты вовсе не такая! И язык уступает этому очарованию и снова лезет в колодец. Уверен, эту девушку ждет блестящая политическая карьера.
25 лет, 5 месяцев, 25 дней
Понедельник, 4 апреля 1949 года
Ну вот, рассуждая о товарище Каролин, я скатываюсь до обыкновенного личного дневника. Вопрос: когда мое тело порождает ассоциацию, объясняющую природу мне подобных, имею ли я право отклониться в сторону того, что можно считать личным дневником? Ответ: нет. И какова же главная причина такого запрета? Каролин, конечно же, сама ведет дневник, в котором преподносит действительность под нужным ей соусом. И потом, характер этой девицы вызывает столько других ассоциаций: например, клещ, который коварно питается вашей кровью и которого всегда обнаруживаешь слишком поздно. Или золотистый стафилококк, спящий глубоким сном, но уж если проснется – тогда держись!.. Нет, никаких личных дневников!
25 лет, 6 месяцев, 3 дня
Среда, 13 апреля 1949 года
Впервые в жизни пошел к дантисту (по рекомендации дяди Жоржа). В результате – щеку раздуло так, что я не могу показаться на работе. Короткие разряды тока я променял на настоящую боль, долгую, сильную, этакую раскаленную докрасна жаровню, горючим для которой служит левая сторона верхней челюсти. Если будет больно, примите это. Принял, все равно больно. Боль началась с обезболивающего укола. В дырку моего моляра перпендикулярно воткнулась игла, и все время, пока мой палач орудовал шприцем, впрыскивая мне наркотик, я чувствовал себя доской на пилораме. Будет не слишком приятно, зато быстро. Получилось ни приятно, ни быстро. Впрыснув жидкость, он принялся дырявить мне челюсть бормашиной, шум которой отдавался у меня в черепе, как стук кирки каторжника на рудниках. И все это ради того, чтобы выудить из моих внутренностей тонюсенькую серую ниточку. Смотрите, вот ваш нерв. Сейчас я поставлю вам временную пломбу, а коронкой займемся потом, когда заживет.
А еще он посоветовал мне тщательнее чистить зубы. Не меньше двух минут – утром и вечером. Сверху вниз и слева направо. Как американские солдаты из объединенных союзных войск.
25 лет, 6 месяцев, 9 дней
Вторник, 19 апреля 1949 года
Был на очень серьезных переговорах с «M&L», и вдруг – резкий запах дерьма. Завоняло так неожиданно и так сильно, что я вздрогнул. Похоже, мои собеседники ничего не почувствовали. Но вонь-то была! Резкая, удушливая, она буквально «хватает за горло». Дерьмовее не бывает. Как будто я свалился в выгребную яму. Этот ужас преследует меня весь день, накатами, а окружающие при этом ничего не замечают. На работе, в метро, дома – словно открывается дверь жуткого сортира, я задыхаюсь от вони, а потом дверь снова закрывается. Обонятельные галлюцинации – вот мой диагноз. Ни в какую выгребную яму я не падал, я сам – эта яма, полная вони, которую, к счастью, не распространяю вокруг. Но это ощущение – вонючей выгребной ямы – все время со мной. Я рассказал обо всем Этьену – чтобы выяснить наконец, что это такое. Он спросил, не был ли я недавно у дантиста. Да, на прошлой неделе, по рекомендации твоего отца. Верхний моляр? Да, слева. И думать нечего: он проткнул тебе пазуху, и теперь ты напрямую подключен к носовой полости. Это пройдет через несколько дней, когда ранка зарубцуется. Носовая полость? А с чем она соединяется? Что, от нашей души разит дерьмом? А ты сомневался? И Этьен подробно рассказывает мне об этой своеобразной вони. Зловоние распространяет не наша душа, этот запах гноя, а точнее – гниения органических продуктов, производят носовые пазухи, часто далекие от чистоты. Ну а благодаря тому, что дантист малость промахнулся со своей бормашиной, наш обонятельный аппарат получил возможность наслаждаться этим запахом по полной. Бывает, ничего страшного. Такое прямое подключение к внутренностям нашей головы действует на гнилостные запахи, как лупа. (Наружная вонь рассеивается, а потому не так концентрирована.) Что же до самого запаха, он вполне реален, никакая это не галлюцинация, а скопление гниющих клеток.
25 лет, 6 месяцев, 15 дней
Понедельник, 25 апреля 1949 года
Шесть дней незаметно для окружающих я нюхал дерьмо. Даже защищая диссертацию. Комиссия не заметила ничего, кроме вдохновения. Единодушные поздравления. А я плаваю в выгребной яме. Как леди Макбет.
25 лет, 7 месяцев, 4 дня
Суббота, 14 мая 1949 года
Быстрые движения портного, снимающего мерку. Длина руки, длина ноги, окружность талии, окружность шеи, ширина плеч. Точные, бесстрастные прикосновения в области промежности. (Мимолетная мысль: а чувствую ли я это?) Портного не интересует мое тело. Да он и не касается его. Ничего общего с осмотром врача. Его пальцы, втыкающие там и сям булавки, определяют объем, очерчивают видимость. От портного выходит не просто человек, а человек социальный, облеченный должностью. Мое тело чувствует себя странно голым в этом новом костюме.
25 лет, 7 месяцев, 5 дней
Воскресенье, 15 мая 1949 года
Не понял вопроса портного. Вы носите налево или направо? Пришлось ему давать пояснения. После чего мне понадобилось время, чтобы подумать. Думаю, скорее, налево. Да, налево. Мой член – левый уклонист. Никогда не думал об этом.
26 лет, 5 месяцев, 2 дня
Воскресенье, 12 марта 1950 года
Несколько месяцев не писал сюда, как всегда, когда со мной случается нечто важное. На этот раз я влюбился. И было гораздо важнее пережить это, чем описывать в дневнике. Любовный угар! Не так-то легко это описать, не утонув при этом в сентиментальном супе. К счастью, любовь чертовски связана с телом. С того дня прошло уже три месяца. Вернее, с вечеринки у Фанш. В квартире полно народу. Звонят, я ближе всех к двери, открываю. Она говорит только: «Я – Мона», – а я так и стою перед дверью, загораживая ей проход, потеряв голову от внезапно свалившейся на меня любви, окончательной и бесповоротной. С ума сойти, до чего наше желание зависит от красоты! Эта Мона – несомненно, самое аппетитное существо на свете, и вот она уже и самая умная, и самая милая, самая утонченная, и лучше всех аккомпанирует! Совершенство в превосходной степени. Сердце мое тут же расплавилось, точно кусок свинца. Будь она самой глупой, самой злобной, самой пошлой, самой хищной, самой расчетливой, самой лживой сволочью, самой последней мещанкой или отъявленной негодяйкой, будь это подтверждено документально и предъяви мне кто-нибудь эти документы, все равно мое сердце поверило бы только моим же глазам! Вся моя жизнь была сплошным ожиданием ее! То, что стоит передо мной в проеме этой двери и, по зрелом размышлении, тоже не торопится войти, это – моё! Женщина с большой буквы! Она – моя! Моя женщина! Притяжательное прилагательное и такое же местоимение – вместе! И нет в этом никаких сомнений! В тот самый миг, когда нас поражает любовь, вся культура поднимается из неизведанных глубин нашего существа и устремляется в сердце – и все это под действием веществ, выделяемых определенными железами. Всё – простенькие песенки и пышные оперы, первый взгляд, брошенный Ромео на Джульетту и герцогом Немурским на принцессу Клевскую, все Мадонны, все Венеры и Евы, от Кранаха до Боттичелли, вся любовь мира, в ошеломляющих количествах почерпнутая из самых сомнительных источников и музеев, из иллюстрированных журналов и романов, из рекламных фотографий и священных текстов, Песнь песни песней, все желания нашей юности, собранные воедино, приумноженные горячими ночами самоудовлетворения, все наши подростковые «холостые выстрелы», выпущенные по картинкам и словам, все устремления нашей отчаянной души – переполняют сердце и воспламеняют разум! О, это любовное ослепление! О, мгновенное прозрение! Пораженный, я полным кретином стою в дверях. К счастью, мое пальто висит тут же на вешалке. Я хватаю его, и вот уже три месяца, как мы с Моной не покидаем нашей постели, где рассмотрели уже друг друга в целом и в деталях, ныне и присно и вовеки веков. Перламутр, шелк, пламя и жемчуг – вот какое оно, лоно Моны, само совершенство! Это – говоря о главном, потому что есть еще ее жадный взгляд, тончайший бархат ее кожи, нежная тяжесть грудей, эластичная твердость ягодиц, свойственная только ей округлость бедер, четкая покатость плеч, и все это – точно мне по ладони, по размеру, по температуре, по запаху, по вкусу – ах, что за дивный вкус у моей Моны! – нет, для того, чтобы дверь вот так вот открылась на вашу совершеннейшую половинку, нужен Бог! Нужно, по крайней мере, чтобы Бог существовал, иначе как бы наши тела оказались вот так идеально подогнаны одно к другому? Все происходило постепенно: сначала привыкали друг к другу наши руки и губы, потом – наши сокровенные места. Уж как мы их ласкали, ублажали, щекотали, поглаживали, настраивали, прежде чем разрешить им встретиться, войти друг в друга, искусно растягивая ноту блаженства до головокружительного верхнего «до», а теперь они набрасываются друг на друга на счет «раз», и не нужно им никакого нашего разрешения, все делается по-быстрому – на ощупь, на лестнице, между дверей, в кино, в подвальчике у того антиквара, в гардеробе в том театре, в беседке в сквере, на верху Эйфелевой башни – пожалуйста! Я сказал – «не покидаем постели», но наша постель – это Париж и его окрестности, это берега Сены и Марны! Мы любим друг друга до полного насыщения, мы готовим наши сокровенные инструменты, начищаем их языками, как солдат – свой котелок, как облизывают ложку, мы с восхищением рассматриваем их в моменты славы и полного изнеможения, с дурацким умилением, как пьяницы, переводя все это словами любви, будущего, потомства, я, например, хочу иметь потомство, только бы Мона не покидала моей постели, хочу плодиться и множиться – почему бы и нет, если от этого не пострадает удовольствие и если итогом всему будет счастье? Идет, пусть будет крикливая малышня, в любых количествах, по одному карапузу от каждого траха, что ж – снимем казарму, чтобы разместить эту армию любви! Короче, вот так обстоят дела. Я мог бы и дальше строчить тут обо всем этом, если бы не насущная необходимость, лежащая поперек моей кровати и подсказывающая мне, что сейчас время не мемуары писать, а действовать, снова и снова! Не воспевать прошедшее время, а воздавать почести настоящему!
26 лет, 7 месяцев, 9 дней
Пятница, 19 мая 1950 года