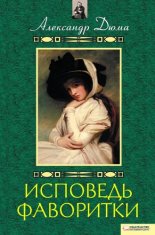Дневник одного тела Пеннак Даниэль
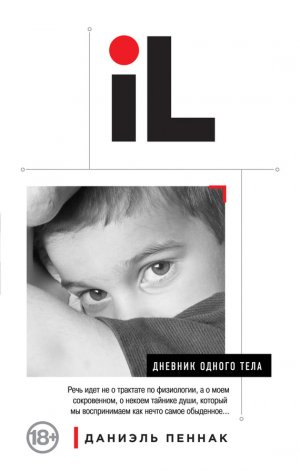
В конце дня – общее собрание. Собираю свой маленький мирок и вдруг вижу, что он не так уж и мал. Моих дорогих сослуживцев из прежних семнадцати человек стало тридцати четыре. Меня что, повысили в должности? Да нет же, это не количество моих подчиненных удвоилось, это каждый из них раздвоился. Два Шеврие, две Аннабель, два Рагена, два Пуаре… Похоже, я окосел. От усталости. Никаких сомнений – два Феликса, двойной Декорне… у меня двоится в глазах. Как будто каждый из них явился под ручку с прозрачным ангелом-хранителем. Как только я напрягаюсь и «навожу фокус», ангел залезает обратно в своего подопечного, как будто испугавшись моих нахмуренных бровей. Но стоит мне ослабить напряжение, как ангелы снова начинают мельтешить у меня перед глазами. Две Сильвиан, два Пармантье, две Сабины…
45 лет, 1 месяц, 10 дней
Среда, 20 ноября 1968 года
Начало дальнозоркости, ставит диагноз окулист. Раздвоение предметов из-за недостаточной аккомодации глаза – классика. И предлагает мне заняться специальной гимнастикой, чтобы «поднакачать глаза» и отсрочить тем самым момент, когда придется надеть очки. Это неизбежно? После сорока лет, увы, – да. Тогда давайте уж сразу перейдем к очкам. Спорим. Он не понимает, почему я не хочу выиграть еще года два-три. Я мудро парирую: зачем отсрочки, если в определенном возрасте без очков не обойтись? Он настаивает. Я говорю: нет у меня времени заниматься этой гимнастикой, да и лень. Хотя настоящая причина не в этом, но я держу ее при себе: мне претит, что кто-то будет там что-то мне «поднакачивать».
45 лет, 1 месяц, 19 дней
Пятница, 29 ноября 1968 года
Никак не подобрать очки. Не из-за оправ, которые в неимоверном количестве предлагает мне продавец, а потому что мне никак не найти ту, которая подчеркнула бы индивидуальность моего лица. Примеряю модель за моделью, все без толку: не могу сказать, идут мне эти очки больше, чем те, или меньше, чем вот эти. Нет у меня на этот счет никакого мнения. Продавец с поистине ангельским терпением каждый раз подает мне зеркало. Это молодой парень, тощий, с торчащим кадыком и выступающими скулами, себе он подобрал изящную черную оправу, которая перечеркивает его лицо, придавая ему решительный вид. По крайней мере, в этом отношении парень себя понимает. Его лицо ему что-то говорит. Мне мое – ничего. Полагаюсь на вас, говорю я ему, выберите, пожалуйста, за меня. Любопытная игра: сейчас узнаю, каким видит меня этот совершенно чужой парень, перед которым таких, как я, за день проходят тысячи. Он смотрит на меня, задумывается, но без особых колебаний, и выбирает очки без оправы. Вот, говорит он, как будто вы вообще без очков.
Что не мешает Моне и Лизон утверждать, что эти очки мне очень идут. Позже Брюно кратко замечает: Не удивительно, что ты выбрал именно эти! Он ждет, что я начну спрашивать, почему, а я этого, естественно, не делаю. Есть между нами такая противная игра… Рядом с Брюно я снова становлюсь подростком, но таким, каким никогда не был.
45 лет, 1 месяц, 19 дней
Пятница, 29 ноября 1968 года
Эти очки и правда тебе очень идут, повторяет Мона, после чего, закрыв книгу, я кладу их на тумбочку у изголовья и гашу свет. Значит, очки мне идут. Почему в данном случае употребляется глагол «идти»? Когда говорится о жизни, о делах – это понятно… Дела идут, жизнь идет. Глагол сохраняет свой «ходячий» смысл. Мы идем по жизни, жизнь идет, дела тоже. Но когда речь заходит о красоте, о гармонии, при чем тут глагол «идти»? Вопрос растворяется в накатившей на меня волне сна. Мне снится «море, идущее об руку с солнцем» [22] . Какое счастье, что Рембо не задавался подобными вопросами.
45 лет, 1 месяц, 20 дней
Суббота, 30 ноября 1968 года
Засыпая, мы растворяемся во сне. Пробуждаясь, вновь закипаем веселыми пузырьками.
46 лет, 2 месяца, 29 дней
Четверг, 8 января 1970 года
По тому совершенно особому взгляду, которым Шеврие посмотрел на меня сегодня в обед, когда за телячьей печенкой мы обсуждали Женеву, я понял, что к нижней губе у меня прилип кусочек петрушки. Что напомнило мне о некоем Валентине, который просто поражал меня в те времена, когда я готовился к вступительным экзаменам. Кладезь премудрости, стоит только вспомнить его дивные отступления на темы куртуазной любви, поэтов Возрождения или «Карты Страны Нежности» [23] . Но таких взглядов он не понимал и ел как свинья. К концу обеда на его подбородке можно было прочитать все меню. Отвратительно. Он тогда делал только первые шаги по наклонной плоскости, потом же совсем опустился и много лет спустя закончил в психиатрической лечебнице, а ведь был лучшим на потоке.
46 лет, 3 месяца, 11 дней
Среда, 21 января 1970 года
Не могу прочитать название улицы Варенн на противоположной стороне! Как и названия других улиц, встречающиеся мне по дороге. Сколько ни хмурюсь, ни прищуриваюсь – все без толку, буквы сливаются. Даже яркие надписи на рекламных плакатах, и те мне не даются. Ну вот, приехали, я теперь и вдаль тоже не вижу! И это удручает меня сильнее, чем известие о дальнозоркости. То первое проявление старения глаз показалось мне совершенно безобидным. С ним может справиться любая лупа. А здесь – совсем другое дело: я почуял… да, опасность. Первобытное чувство? Древний инстинкт? Сократились мои охотничьи владения? Да, что-то в этом роде. Я уже не могу окинуть царственным взором всю саванну. Раньше я обозревал ее до самого горизонта, зорко следил за пасущейся вдали дичью, теперь же недалек тот день, когда мне только и останется, что давить тараканов на стенах моего логова. Лежащий же за его пределами большой мир затянется мутью. Подобные страхи, наверно, были знакомы и нашим предкам, которые старались как можно дольше скрывать их от молодых, но те внимательно приглядывались к старикам, дожидаясь неизбежной минуты, когда охотник сам превратится в добычу. Так низвергаются престолы.
Хотя, как пояснил мне окулист, это ничуть не страшнее, чем дальнозоркость. В вашем случае это ее прямое следствие. Мышцам приходится слишком много работать, чтобы компенсировать недостаточность ближнего зрения, они устали, отчего стало страдать и дальнее зрение. Между прочим, это должно было случиться еще раньше. Вы прекрасно держитесь! Ну, как бы то ни было, а это корректируется так же просто, как и дальнозоркость. Вам нужны еще одни очки – для дали. Или, если вам так больше нравится, это может быть одна пара с двумя стеклами, расположенными одно над другим.
46 лет, 3 месяца, 25 дней
Среда, 4 февраля 1970 года
Вижу отлично. Очки фокусируют за меня. Скоро настанет время, когда от меня останется только мозг, осуществляющий центральное руководство, а все остальное будут делать разнообразные протезы. Учитывая темпы развития робототехники, интересно, что останется от меня первоначального лет этак через тридцать? Погрузившись в размышления над этой чушью, я засыпаю.
46 лет, 8 месяцев, 7 дней
Среда, 17 июня 1970 года
Как ни тяжела для меня бессонница, все же она напоминает старинную радость, которую доставляло мне повторное засыпание. Каждое пробуждение – обещание нового засыпания. А в промежутке я плыву, плыву…
48 лет, 6 месяцев
Понедельник, 10 апреля 1972 года
Проснулся очень рано от свиста – как будто забытая на плите скороварка. Я решил, что это где-то снаружи, и заснул снова. Через час – то же самое. Тот же свист. Высокий, долгий, как форсунка, как паровой свисток – что-то в этом роде. Пожаловался Моне. Какой свист? Ты что, не слышишь? Не слышу. Ты оглохла? Она прислушалась. Ну, свист же, тоненький, высокий, как будто струйка пара свистит, неужели не слышишь? Да нет же, нет ничего. Встаю, открываю окно, слушаю улицу. Да, точно, свистит на улице. Снова закрываю окно, свист не исчезает! Раздается с прежней силой. Мона, ты что, правда не слышишь? Правда, она не слышит. Закрываю глаза. Сосредоточиваюсь. Откуда это может доноситься? Иду на кухню делать кофе, там – тот же свист, и я так же не могу определить источника. Проверяю газовые горелки, водогрей, окна… На обратном пути в комнату с кофейником в руках открываю дверь на лестницу: там тоже, как и везде, свистит с упрямым постоянством – будто линия, проведенная по линейке между моих ушей. И тут я его узнал. Это такой же свист, какой я слышу иногда у себя в голове в конце еды. Но тогда он быстро проходит. Загорится и погаснет, как падающая звезда. Иной раз бывает подольше, но все равно в конце концов он исчезает в бездонных глубинах моего мозга. А на этот раз – нет. Я затыкаю уши: да-да, свист раздается именно тут, у меня в голове, он прочно поселился где-то между ушами! Меня охватывает паника. Две-три секунды воображение рисует безумные перспективы: а вдруг это навсегда? Мысль, что всю свою жизнь я должен буду слушать этот звук, не имея возможности прекратить его или хотя бы изменить, приводит меня в ужас. Пройдет, говорит Мона. И правда прошло: уличный гомон, шорох метро, гвалт в коридорах, разговоры по работе, звон телефонов, продолжающиеся переговоры, возражения Пармантье, нытье Аннабель, крайне неприятные перепалки между Рангеном и Гаре по поводу накладных расходов, нескончаемые разглагольствования Феликса за обедом, весь этот городской и рабочий шум погасил в конце концов мою падающую звезду, которая увязла в нем и рассыпалась в прах. Но вечером, стоило мне закрыть за собой дверь квартиры (Мона была у Н., Лизон – у себя в мастерской), свист снова оказался тут как тут, протянулся у меня между ушами, точно такой же, как сегодня утром. На самом деле он и днем-то никуда не девался. Его просто заглушали шумы моей публичной жизни.
48 лет, 6 месяцев, 4 дня
Пятница, 14 апреля 1972 года
ЛОР, которого порекомендовала мне Колетт, оказался, разумеется, светилом в своей области. После сорокапятиминутного ожидания светило объявило мне следующее, по пунктам:
1) что у меня тиннитус [24] ;
2) что пятьдесят процентов тиннитусов не излечивается;
3) что пятьдесят процентов пациентов, страдающих тиннитусом, проявляют склонность к суициду;
4) что эти радостные открытия будут стоить мне сто франков, пожалуйста, заплатите в приемной.
Естественно, ночью я не сомкнул глаз. Ничего себе – один шанс из двух, что у меня окончательный и бесповоротный тиннитус, иными словами – в голове будет постоянно играть радио, настроенное на единственную программу, по которой передают нескончаемый свист (в моем случае, у кого-то – это совиное уханье, у кого-то – барабанная дробь, у кого-то – колокольный перезвон, стук кастаньет или дребезжанье гавайской гитары). И мне остается только ждать. Терпеливо дожидаться, что это либо пройдет, либо подтвердится, и тогда эта радиопередача либо так и останется на стадии свиста, либо в черепной коробке у меня поселится целый оркестр.
48 лет, 6 месяцев, 5 дней
Суббота, 15 апреля 1972 года
Не желаю рыться в медицинских библиотеках. Не желаю собирать материалы по тиннитусу. Не хватало еще мне становиться специалистом по собственным болезням.
48 лет, 7 месяцев, 12 дней
Понедельник, 22 мая 1972 года
Мона последнее время считает, что я стал слишком нервным и что мне было бы неплохо «проконсультироваться». В наших кругах глагол «проконсультироваться», употребляемый без дополнения, означает одно: «проконсультироваться у психиатра».
48 лет, 8 месяцев, 7 дней
Суббота, 17 июня 1972 года
Женщину-психоневропатолога, у которой я вчера побывал, более обеспокоило здоровье ЛОРа, чем мое. По правде говоря, мсье, лучше было бы, чтобы меня навестил тот мой собрат по профессии. Его состояние волнует меня гораздо больше, нежели ваше. По ее словам, постоянный тиннитус встречается так часто, что, если бы половина страдающих этим недугом кончала самоубийством, он стал бы главной причиной смертности. После чего, сменив тему, она спросила, с какого времени я дышу, не думая о полипах, заполонивших мои носовые пазухи. Да всю жизнь, думаю. Нет, мсье, не всю жизнь. По ее словам, я просто забыл, как начиналось это хроническое заболевание, с которым я ничего не могу поделать и из-за которого я слегка гнусавлю и дышу словно через соломинку. Но я приноровился. Мой мозг привык к этому, как привыкнет он и к шуму в ушах, который скоро начнет относить к категории «тишина». На самом деле, мсье, в данный момент вас больше всего беспокоит новизна этого шума, вы боитесь, что он останется навсегда, но, сказала она в заключение, жить в состоянии постоянного удивления просто невозможно.
И она принялась рассказывать мне о своей работе, которая состоит в том, чтобы убеждать пациентов, что они привыкнут к тому, что на данный момент кажется им невыносимым.
Она, словно четки, перебирает болезни и травмы, которые настолько впечатляют своим разнообразием и чудовищностью, что в сравнении с ними мой шум в ушах выглядит каким-то домашним питомцем. Я покидаю ее, унося с собой рецепт на снотворное и на то, что тетушка Югетт называла «успокоительным».
– Если не перестанете бояться, приходите снова.
48 лет, 11 месяцев, 22 дня
Понедельник, 2 октября 1972 года
Министр Г., не на шутку разгневанный остротой бедняги Бертло, задирает подбородок и угрожающе понижает тон:
– Вы что, забыли, с кем разговариваете?
Бертло, красный от смущения, прячется в свою раковину. А мне вспоминается высказывание маленького Жозе: «Иди просрись, министр сраный».
– Ну что ж, – шипит министр, испепеляя меня взглядом, – если вашему начальству это кажется смешным!..
Да нет, а вот что меня действительно страшно веселит, так это скатологический рефлекс, который всегда провоцируют у меня проявления подобной должностной гордыни. Вы желаете, чтобы на вас смотрели как на бюст римского императора, мне же всегда было насрать на статуи, и сама идея насрать у подножия мраморного монумента вызывает у меня улыбку. Довольную улыбку, согласен – дурацкую, но разве она бывает иной, после того как ты как следует просрался?
49 лет, день рождения
Вторник, 10 октября 1972 года
Как и обещала психиатр, прошло три месяца – и я привык к своему тиннитусу. Большинство наших физических страхов сродни кишечным газам: о них забываешь, едва выпустишь их из себя. Мы пасемся на лугах наших повседневных забот и, точно лань от собачьего лая, замираем, едва заслышим голос заговорившего тела. Но стоит тревоге улечься, мы снова жадно обращаемся к корму.
49 лет, 20 дней
Понедельник, 30 октября 1972 года
Наши болезни – как анекдоты: мы думаем, что они известны только нам, а оказывается, все вокруг их давно знают. Чем больше я говорю о тиннитусе (делая вид, что хочу узнать, что означает слово, и скрывая, что страдаю этим недугом), тем больше мне попадается товарищей по несчастью. Например, вчера Этьен: Спасибо, что спросил меня об этом, я сразу вспомнил о своем! Он подтвердил, что к этому быстро привыкаешь. Вернее, поправился он, с этим смиряешься. Потому что тишины ты все же лишаешься. Как и я, вначале он страшно перепугался. Он использует то же сравнение, что и я: У меня было такое чувство, что я подключен к постоянно работающему радиоприемнику, и жизнь звуковой колонки мне вовсе не улыбалась.
49 лет, 28 дней
Вторник, 7 ноября 1972 года
Шум в ушах, изжога, приступы «мрака», носовые кровотечения, бессонница… Мое достояние. Которым я владею совместно с несколькими миллионами таких же, как я.
6 50 лет – 64 года (1974—1988)
Верните мне долготу времени. Пусть клетки замедлят старение.
50 лет, 3 месяца
Четверг, 10 января 1974 года
Если бы мне пришлось публиковать этот дневник, я адресовал бы его в первую очередь женщинам. С другой стороны, я был бы не прочь прочесть подобный дневник, написанный женщиной. Чтобы приподнять хоть край завесы, покрывающей эту тайну. В чем тайна? Ну, например, в том, что мужчине неведомы ощущения женщины относительно формы и веса ее груди, так же как женщинам неизвестно, что чувствует мужчина относительно своего полового члена.
50 лет, 3 месяца, 22 дня
Пятница, 1 февраля 1974 года
Жидкое мыло, лосьоны, кремы, маски, косметическое молочко, мази, шампуни, пудра, тальк, тушь для ресниц, тени для век, тональный крем, румяна, губная помада, подводка для глаз, духи – короче говоря, почти все, что косметическая промышленность может предложить женщине, чтобы приблизить ее к желанному идеалу, – это добро у Моны копится тоннами, тогда как моим единственным туалетным средством остается кубический кусок хозяйственного – «марсельского» – мыла, при помощи которого я и бреюсь, и моюсь – от волос до кончиков пальцев на ногах, не забывая ни пупок, ни головку члена, ни дырку заднего прохода, и даже стираю трусы, которые тут же вешаю сушиться. Раковина в ванной комнате полностью оккупирована войском Моны: щетки, расчески, пилки для ногтей, пинцеты, кисточки, карандаши, губки, ватные диски, пуховки, наборы теней, тюбики, баночки, пульверизаторы участвуют в нескончаемой битве, в которой я склонен видеть ежедневную погоню за аккуратностью. Мона, занимающаяся макияжем, – это Рембрандт, до бесконечности подправляющий свои автопортреты. Тут не столько борьба с неумолимым временем, сколько отделка шедевра. А то! – отвечает Мона, именно – неизвестный шедевр!
50 лет, 3 месяца, 26 дней
Вторник, 5 февраля 1974 года
Что касается меня, то после душа, без которого мне просто не проснуться, первое мое осознанное действие – это бритье, ежеутреннее удовольствие, которому я предаюсь с пятнадцатилетнего возраста – с тех пор, как вообще начал бриться. В левой руке – кусок хозяйственного мыла, в правой – кисточка, смоченная теплой водой, которой я предварительно смочил и лицо. Медленно взбиваю пену – она должна быть не слишком густой, но и не слишком жидкой. Тщательно намыливаю лицо, пока половина его не покрывается как будто облаком взбитых сливок. Затем – собственно бритье, заключающееся в «раскрытии» этого самого лица, в возвращении ему привычного облика, чтобы оно стало таким, каким было до появления бороды, до нанесения пены: соскребаю щетину – широкими движениями от осторожно вытянутой шеи до кожи вокруг губ, затем скулы, щеки, челюсти, особенно – челюстная кость, где хитрые волоски имеют обыкновение прятаться от бритвы – при пособничестве ползающей по кости кожи. Самое приятное – скрип щетины под лезвием, прокладываемые бритвой широкие просеки, а также ежеутренняя игра: удастся сегодня или не удастся снять всю пену одним движением бритвы так, чтобы на долю полотенца, которым я вытираю лицо, не осталось ни единого клочка.
51 год, 1 месяц, 12 дней
Пятница, 22 ноября 1974 года
Иногда бывает, что после работы я чувствую, что мог бы пройти пешком весь Париж три раза! Как приятно шагать вот так, будто хорошо смазанный механизм – гибкий в лодыжках, устойчивый в коленях, твердый в икрах, крепкий в бедрах, – зачем возвращаться домой? Пройдемся еще, насладимся ходьбой при как следует отлаженном теле! Когда телу приятно, то и все вокруг кажется красивее! Легким хорошо дышится, мозгу легко, а ритму ходьбы вторит ритм слов, складывающихся в короткие радостные фразы.
51 год, 9 месяцев, 22 дня
Пятница, 1 августа 1975 года
Всегда вздрагиваю, когда при сморкании подушечка указательного пальца проглядывает сквозь влажный бумажный платок розовым пятнышком, которое я принимаю за размытую кровь. Я не успеваю испугаться, облегчение наступает почти сразу же: это же только кончик пальца! До носовых кровотечений я за собой такого не замечал.
52 года, 2 месяца, 4 дня
Воскресенье, 14 декабря 1975 года
Вчера вечером за столом у Р. я что-то активно аргументировал – неважно, на какую тему, – перечислял неоспоримые пункты «за» и «против» (главным образом, против скуки от пребывания там) и был уже в двух шагах от всеобщего одобрения, как вдруг – раз! – и не смог подобрать нужного слова! Память заклинило. Я будто упал в люк, внезапно открывшийся у меня под ногами. И вместо того чтобы прибегнуть к перифразе – подойти к проблеме творчески, – я начинаю тупо искать нужное слово, яростно рыться в памяти – словно в обчищенном воришкой кармане, требуя, чтобы она выдала мне то самое слово! Я ищу это чертово слово с таким упорством, что к тому моменту, когда, потерпев поражение, все же решаюсь на перифразу, забываю, о чем вообще шла речь! К счастью, все уже говорят о другом.
52 года, 2 месяца, 8 дней
Среда, 17 декабря 1975 года
Брюно смутил вопрос портного, спросившего, как он носит, направо или налево, – в точности как меня в его возрасте. Он, конечно, не понял, о чем говорит портной. Отмечу мимоходом, что ничему не научил своего сына относительно «телесных» дел, так что тут все понятно. Тижо, который ужинает с нами, заявляет, что это, тем не менее, вопрос величайшей важности. Брюно поднимает нос от тарелки: Да? И Тижо рассказывает нам вот такую историю:
ИСТОРИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЛ, КАК ОН НОСИТ – НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО.
Доктор, сказал один больной своему семейному врачу, меня мучает боль: она поднимается от мизинца к плечу, потом спускается по груди и животу и останавливается на уровне колена, нет сил терпеть. Я вижу против этого только одно средство, недолго думая, отвечает доктор: вам надо ампутировать яйца! Пациент, конечно, засомневался, но, поскольку боль стала совершенно невыносимой, в конце концов он согласился на операцию. Несколько месяцев спустя одно важное событие заставило нашего больного обратиться к известному портному, чтобы заказать новый костюм. Как вы носите – направо или налево? – спрашивает портной. Понятия не имею, отвечает клиент, крайне смущенный ситуацией. Что ж, подумайте хорошенько, говорит портной, потому что, если я сошью вам брюки без учета этой вашей особенности, вы тут же почувствуете страшную боль в мизинце, которая поднимется к плечу, спустится по груди и животу и остановится на уровне колена.
52 года, 9 месяцев, 25 дней
Среда, 4 августа 1976 года
Перед самым погружением в сон я отчетливо увидел колоду мясника и лежащий на ней окровавленный мозг. Почему-то я решил, что он – мой, и эта мысль доставила мне неизъяснимое удовлетворение, которое я испытываю до сих пор. Думаю, это был первый раз, когда я видел вот так свой мозг. Я даже подумал тогда: чту, если бы на поле боя мне оторвало снарядом ногу, руку или еще какой-нибудь орган и отбросило бы его куда-то далеко, где он оказался бы среди других человеческих останков? узнал бы я его с той же легкостью, как этот мозг, оказавшийся в мясной лавке?
52 года, 9 месяцев, 26 дней
Четверг, 5 августа 1976 года
Мы с Тижо на террасе кафе пьем кофе. За соседним столиком парикмахер объявляет друзьям, что скоро уезжает в отпуск. Услышав это краем уха, Тижо с самым серьезным видом спрашивает: Тебе не кажется возмутительным, что парикмахер едет в отпуск, а волосы в это время будут торчать тут?
53 года
Воскресенье, 10 октября 1976 года
Еще один год прихватил. У кого? И куда подевались предыдущие? Например, последнее десятилетие, за которое все мои клетки, кроме сердца и мозга, обновились? Я отказался от официального празднования своих дней рождения – принимаю только подарки от детей. Никакого застолья, никаких гостей, одна Мона – вечером на нашем утлом плоту, который за эти годы заметно отяжелел, но все еще держится на плаву. Предвидя этот приступ меланхолии, Мона организовала вечер заранее: взяла два билета в зал Фавар на Боба Уилсона [25] : «Эйнштейн на пляже» [26] . Пятичасовой спектакль! Симфония замедленности. Именно то, что мне было нужно: чтобы мне вернули длительность времени, чтобы клетки замедлили свои процессы. Меня сразу покорили и миллиметрически точный въезд на сцену гигантского паровоза, и бесконечная чистка зубов, которой занимались все персонажи, а особенно – эти фосфоресцирующие подмостки, которые по полчаса переходят из горизонтального положения в вертикальное, и все это в полутьме, когда вокруг ничего не видно, кроме свечения. А ведь я узнал их, эти подмостки: это же тот обелиск из моего сна, который в ночь моего сорокатрехлетия водружался с поистине исторической медлительностью!
53 года, 1 день
Понедельник, 11 октября 1976 года
Пара, сидевшая на «Эйнштейне» перед нами с Моной, демонстрировала иной взгляд на длительность времени. Пара эта была вовсе не юная – не случайные влюбленные, не соблазнитель и жертва, которой он собирался «показать нечто такое». Нет, это были два «спутника жизни», муж и жена, которые, как и мы с Моной, прошли уже стадию «культурного эпатажа» и успели обзавестись потомством, оставленным сейчас на приходящую няню. У них с собой была корзинка с едой и термос с кофе, красноречиво свидетельствовавшие о том, что они знали, какого рода спектакль им предстояло увидеть, что они прочно укоренились в любви, во времени, в обществе и имеют вкус к жизни вообще и к современной жизни в частности. Корзинка была милейшая – сплетенная из ивняка. К тому же пара явно не принадлежала к числу тех, кто, находясь уже у самого финиша, приходят в театр, чтобы скрасить свое «одиночество вдвоем»: никакого сомнения, что в большом дворе Папского дворца в Авиньоне они кутались бы в один плед. Впрочем, как только яркий свет в зале сменился тревожным холодным свечением, лившимся со сцены, женщина положила голову на плечо своему спутнику. Все вокруг погрузились в замедленность Боба Уилсона, и сидевшая перед нами пара растворилась в ореоле охватившего меня очарования. Я только увидел, как мужчина, слегка двинув правым плечом, придал своей спутнице вертикальное положение. Зачарованный въездом паровоза, бесконечной чисткой зубов, фосфоресцирующими подмостками и минималистской скрипкой Филипа Гласса, я утратил всякое представление о времени, перестал чувствовать свое тело, осознавать, где я нахожусь. Я не смог бы даже сказать, удобно мне или неудобно сидеть. Мои клетки перестали обновляться. В какой момент этой вечности женщина предложила своему соседу чашку кофе, от которой он отказался, коротко мотнув головой? В какой момент она попыталась высказать какую-то мысль, но была прервана резким «тссс!»? В какой момент она стала ёрзать на сиденье, за чем последовало раздраженное «перестань!», заставившее пару голов обернуться? Эти краткие эпизоды, рассеянные на протяжении нескольких часов, отпечатывались где-то на периферии моего сознания. До того момента, когда мужчина прокричал фразу, после чего спектакль на несколько минут переместился в зрительный зал, а его спутница обратилась в бегство, причем вслед ей полетела изящная корзинка: «Вали отсюда, паскуда, дура несчастная!» Вот что прокричал член этого гармоничного союза. И женщина свалила – побежала, опрокидывая все на своем пути, упала в проходе, быстро поднялась и помчалась дальше, пробираясь к выходу, как прокладывают себе путь в толпе, во встречном потоке – спотыкаясь и топча походя всех и вся: зрителей, сумочки, очки (кто-то вскрикнул: «Очки! Очки!») и даже малолетних детей (если бы таковые оказались в зале).
53 года, 2 дня
Вторник, 12 октября 1976 года
Тому, что я записал вчера, нет места в этом дневнике. И это радует!
53 года, 1 месяц, 5 дней
Понедельник, 15 ноября 1976 года
Тижо, которого развеселила эта история, сказал, что видел однажды, как его друг Р.Д. писал под шумок на машину полицейского, который в этот момент как раз выписывал ему штраф. Шел дождь, и, пока инспектор заполнял квитанцию, сосредоточившись на том, чтобы не намочить блокнот, Р.Д., прикрыв член полой плаща, слил все содержимое своего мочевого пузыря на открытую переднюю дверцу патрульной машины. И правда, такое свободное обращение со сфинктерами перед лицом власти вызывает восхищение. Я на такое был бы неспособен. И не только из страха, но еще и потому, что истории подобного рода мне никогда не казались смешными. Все эти прилюдные пуканья, писанья, рыганья вызывают у меня еще большее омерзение, чем скрытые. Возможно, именно поэтому я всегда держался в стороне от коллективных видов спорта. Общежитие, раздевалка, столовая, автобус на всю команду, где пресловутая мужская сила выставляется напоказ и цветет пышным цветом, – все это не для меня. Видимо, тут сказывается мое положение единственного ребенка в семье. Или я слишком долго прожил в пансионе. Или просто я такой скрытный…
53 года, 1 месяц, 10 дней
Суббота, 20 ноября 1976 года
Брюно вдруг ни с того ни с сего спрашивает меня, присутствовал ли я при его рождении. По тону его голоса я чувствую, что меня вопрошает не любопытство, а дух времени. (Дух времени очень подозрителен по части таких тем.) На самом деле нет, я не присутствовал при рождении ни Брюно, ни Лизон. Почему? Из страха? Из отсутствия любопытства? Потому что Мона не попросила меня об этом? Потому что мне неприятно смотреть на растерзанные тела? Из уважения к сокровенным местам Моны? Не знаю, ничего не могу сказать. По правде говоря, вопрос даже не поднимался, в наше время просто не принято было присутствовать при родах собственной жены. Но дух времени требует ответов, особенно на вопросы, которые не принято задавать. Что же, я из тех мужей, что бросают жен мучиться в одиночку? Из тех отцов, которым с самого начала наплевать на отцовство? Вот что спрашивает сын, не сводя с меня пытливого взгляда. Конечно же нет, мой мальчик, у меня кружится голова, когда она кружится у твоей матери, я ужасно страдаю от ее мигреней, мне больно, когда у нее болит живот, ее тело всегда было мне в высшей степени интересно, а пока ты и твоя сестренка появлялись на свет, я в приемной родильного отделения ломал себе руки самым классическим образом. Во всем, что касается моей жены, я чувствителен до невозможности. И мне было бы очень любопытно увидеть, как ты приходишь в этот мир. И Лизон тоже. Так что же? Может, это рождение Тижо, вой Марты, мечущейся в липкой постели, ее отверстое, сочащееся кровью лоно, бледное лицо дышащего водкой Манеса навсегда отвратили меня от любых родовспомогательных опытов? Вполне возможно. Но во время вашего рождения я не вспоминал об этом. Все эти картины запрятаны глубоко в моей памяти.
И все такое, чего я Брюно не сказал, но что крутилось у меня в голове, когда я услышал свой ответ: «При твоем рождении? Нет, а что?»
– Да вот, Сильви беременна, и я думаю пойти принять своего сына.
Имеющий уши да услышит…
ЗАМЕТКА ДЛЯ ЛИЗОН
Милая моя Лизон,
Перечитал про эту перепалку с твоим братом, и мне стало стыдно. Это претендующее на остроумие «Нет, а что?» только углубило ров, что пролег между нами. И я не только не попытался его хоть чуточку присыпать, но, кажется, даже испытал определенное удовольствие от того, что он стал глубже. Настолько глубже, что вскоре стал могилой наших отношений. Брюно раздражал меня. Я считал, что дело в несовместимости. Характеры разные, говорил я, вот и все. И на том стоял. Подобное родительское возмущение составляет материальную основу психоанализа. Я должен был найти время (и силы), чтобы ответить тогда Брюно. Тем более что, перечитывая этот дневник, я не нахожу в нем ни единого описания беременной Моны. А ведь эта писанина посвящена именно телу! И все же нет – ни намека. Как будто вы с Брюно явились на свет в результате партеногенеза. А до этого – ничего не было. Хуже того, я обнаружил, что даже размышления на эту тему не вызывают во мне ни малейшего воспоминания о двух беременностях Моны. Вот что мне следовало сказать тогда Брюно. Ничего не помню о беременности твоей матери, мой мальчик, прости, я сам поражен, но факт остается фактом. И поразмышлять немного об этом вместе с ним. Думаю, такое не редкость среди мужчин моего поколения. (Еще одна область, где я ничем не выделился.) Женщина в ту пору вынашивала ребенка в окружении других женщин. Мужчины же словно застряли где-то в начале неолита, едва осознавая свою активную роль в размножении. Рассказывали про одну женщину, которая ждала ребенка как творение Святого Духа. Впрочем, женщина не «ждала», она трудилась на ниве продолжения рода, ждал мужчина и, чтобы скоротать это ожидание, изменял жене, пока та снова не становилась пригодной к употреблению. И потом, вот уже пятьсот лет как над образом беременной женщины нависла тень Тридентского собора [27] , запретившего художникам изображать Мадонну беременной и даже кормящей Младенца грудью! Нельзя такое изображать ни в живописи, ни в скульптуре, на такое нельзя смотреть, об этом не упоминают, не вспоминают, такое надо вычеркнуть из памяти, это – святое! Позор любому проявлению животного начала! Уберите этот живот, чтоб я его не видел! Дева Мария – это вам не млекопитающее! Все это прочно засело в католическом подсознании моего поколения, да и в моем тоже, несмотря на декларируемый мною атеизм. Ведь моя голова была создана по образу и подобию всех остальных.
С другой стороны, Мона говорит, что, когда вы с Брюно были уже в пути, мы с ней еще очень долго занимались любовью. Целомудрие никогда не было нашей сильной стороной, и если я сегодня не помню Мону беременной, то это во искупление тех любовных игр, о которых у нее остались как раз очень даже приятные воспоминания! В определенный момент беременности, когда наступило время «окончательной отделки изделия» (sic), она сама положила конец нашим кувырканиям.
Видишь ли, Лизон, в ту пору, когда вы родились, эра беременного мужчины еще не начиналась (это – открытие вашего поколения): впечатляющая смена ролей, когда «матричный отец» полностью копирует «материнский персонаж», до такой степени, что (помнишь?) твой приятель Ф.Д., пока его жена рожала, корчился от боли, а Брюно заявил, что может кормить Грегуара из рожка гораздо лучше Сильви.
И наконец, главное, что я сказал бы Брюно, если бы наш разговор и правда состоялся, это что в ту самую секунду, когда я взял вас на руки – и Брюно, и тебя, – мне показалось, что вы были всегда! Это-то и поразительно: наши дети существовали извечно! Стоит им родиться, как мы уже не можем помыслить себя без них. Конечно, мы помним время, когда их еще не было, когда мы жили без них, но их физическое присутствие укореняется в нас так внезапно и так глубоко, что нам кажется, что они существовали всегда. Это чувство относится только к нашим детям. Что касается всех остальных существ, какими бы близкими и любимыми они ни были, мы все же можем представить себе их отсутствие, а вот отсутствие детей, даже самых что ни на есть новорожденных, нам не представить. Да, мне очень хотелось бы иметь возможность поговорить об этом с Брюно.
53 года, 2 месяца, 16 дней
Воскресенье 26 декабря 1976 года
Посмотрел фильм «Дерсу Узала» японского режиссера Куросавы. При первом появлении внезапно возникшего из тундры [28] Дерсу сердце сжалось от дурного предчувствия. Этот охотник, этот умница, подумал я, этот кусок живой природы, этот старый, но такой чуткий человекозверь ослепнет. Вот что с ним случится. Зрение у него начнет падать, мало-помалу его будет окутывать мрак, он не сможет нормально целиться, из охотника превратится в добычу и так и погибнет. А поскольку этот персонаж мне, как и другим зрителям, был очень симпатичен, я весь фильм просидел в тяжелейшем состоянии бессильного сопереживания, ожидая неотвратимого конца. И конечно же, случилось то, что и должно было случиться. Дерсу стал плохо видеть, и в конце концов его убили охотники, позарившиеся на суперсовременное ружье, которое оставил ему его друг, капитан-землепроходец, чтобы как-то восполнить утраченную остроту зрения. Такое предвидение в кино мне не нравится. Бывает, я даже ухожу с фильма, потому что заранее знаю, чем он кончится. Жду Мону в кафе, читаю книжку. Чаще всего она подтверждает мою догадку, вызывая во мне смешанное чувство удовлетворения и разочарования. Но с Дерсу Узала было иначе. Тут дело не в слабом сценарии. Я просто вспомнил о собственных ощущениях в тот день, лет шесть или семь назад, когда вдруг понял, что почти не вижу вдаль. В тот день я был как Дерсу.
53 года, 5 месяцев, 2 дня
Суббота, 12 марта 1977 года
Утром, стоя под душем, размышлял над следующей хронологией. До восьми или девяти лет меня «отмывала» Виолетт, с десяти до тринадцати я притворялся, что моюсь сам, с пятнадцати до восемнадцати я предавался этому занятию часами. Сейчас я принимаю душ перед тем как бежать на работу. Интересно, что будет на пенсии? Я окончательно растворюсь в ванне? Нет, все-таки мы – это наши привычки, и пока я держусь на ногах, я буду просыпаться при помощи душа. Придет время, и какой-нибудь санитар будет соскребать с меня грязь в часы, когда в больницу не допускают посетителей. И наконец, кто-то займется моим последним туалетом.
53 года, 7 месяцев
Вторник, 10 мая 1977 года
Родился Грегуар! У меня родился внук, черт побери! Сильви – вся такая усталая-усталая, Брюно – весь такой отец-отец, Мона – в восторге, а я… Возможно ли при рождении ребенка говорить о любви с первого взгляда? Думаю, в моей жизни не было ничего, что взволновало бы меня так же сильно, как встреча с этим крошечным незнакомцем, моментально ставшим таким страшно родным. Я вышел из больницы и три часа шагал сам не зная куда. Никак не мог отделаться от впечатления, что мы с Грегуаром обменялись многозначительным взглядом, заключили пакт о вечной любви. Может, я впадаю в маразм? Вечером – шампанское. Тижо верен себе: А тебе не противно теперь будет спать с бабушкой?
53 года, 9 месяцев, 24 дня
Среда, 3 августа 1977 года
С рождения Грегуара Брюно и Сильви выбиваются из сил, как все молодые родители: искромсанные ночи, сон вполглаза, весь жизненный уклад к черту, ни на секунду нельзя ослабить внимание, беспокойство по всякому поводу, беготня (соска потерялась, молоко слишком горячее, молоко слишком холодное, черт! молока больше нет, черт! пеленка не высохла), – чего и следовало ожидать. Они готовились к этому и считали, что на инстинктивном уровне уже всё умеют. Особенно Брюно. Однако истинная причина их изнеможения – в другом. Их родительский якобы инстинкт не учел потрясающей диспропорции в силах у противоборствующих сторон. Энергия, которую развивают младенцы, не идет ни в какое сравнение с нашей. Рядом с этой бьющей через край жизнью мы выглядим древними старцами. Даже предаваясь худшим из излишеств, взрослые – молодые – стараются экономить силы. Грудные дети – нет. В отношении энергии – они чистые хищники и без стыда и совести питаются за чужой счет. Вне сна они не отдыхают вообще. Ну а родители если спят, то самую малость. Сильви совершенно измотана, у Брюно, упертого на идее примерного отцовства, нервы на пределе, оба чувствуют, как единственный объект их заботы пожирает их заживо. Не признаваясь себе в этом – боже милостивый, они никогда не посмели бы признаться в таком ужасе! – они сожалеют о не таких уж и далеких временах, когда в «нашем кругу», как говорила мама, которая, впрочем, к этому кругу не принадлежала, детвора сбывалась на руки прислуге. Счастливейшие времена, когда младенцы из высшего общества досуха высасывали простых крестьянок. Разве меня самого не вырастила Виолетт? И в то же время сердца их, конечно же, тают от нежности к Грегуару. В конце концов (о, в этом они тоже как современные родители никогда не признаются), этот юный господин – живое воплощение их любви: они вдвоем встретили его в родовой палате, и вот теперь их трое – навсегда. Эти прозрачные пальчики, эти румяные щечки, эти пухлые ручки и ножки, это милое пузико, эти складочки, ямочки, эта крепкая попка – как у ангелочка, все это маленькое устройство – плод их любви! А взгляд! Какому бессловесному божеству принадлежит этот взгляд, которым новорожденные, не мигая, смотрят на нас? Что они видят – эти глаза с черными-пречерными зрачками и неподвижной радужкой? Откуда смотрят они? Ответ: оттуда, где зреют все будущие вопросы. Где зарождается неутолимая жажда знаний. После того как чадо пожрало их тела, молодым родителям приходится опасаться за свой ум. И усталость их происходит как раз от уверенности, что это никогда не кончится. Но – тссс… Глазки Грегуара закрываются… Грегуар засыпает… Сильви с библейской осторожностью укладывает его в кроватку. Ибо высшая хитрость этого всемогущества заключается в том, чтобы все вокруг считали тебя верхом хрупкости и уязвимости.
53 года, 10 месяцев, 16 дней
Пятница, 26 августа 1977 года
Когда мы с Лизон и малышами Этьена и Робера возвращались после прогулки, я не стал прыгать через ограждение. Впервые я не перепрыгнул через ограждение. Что меня удержало? Нежелание «молодиться» перед малышней? Боязнь, что зацеплюсь ногами и не перепрыгну? В любом случае мною внезапно овладела неуверенность. Неуверенность в чем? В собственном теле? Усомнился, что не хватит «куража»? Тело что-то говорит мне. Что именно? Что силы с годами уменьшаются.
54 года, 5 месяцев, 1 день
Суббота, 11 марта 1978 года
Последние два дня Грегуар сосредоточенно теребит себя за уши. Несмотря на все мои усилия ее успокоить (дети всегда используют для игры все, что торчит: пальцы ног, нос, кожные складки, крайнюю плоть, первые зубы, уши…), Сильви ставит диагноз: начинается отит. Надо срочно нести Грегуара к педиатру. Недолеченный отит – это очень серьезно, папа, ваш друг А. от этого оглох! Лифт, машина, лифт, педиатр. Который заявляет, что никакого отита нет, не волнуйтесь, мамочка, в этом возрасте все младенцы так себя ведут, это совершенно нормально. Вот только объяснить «почему» он не счел нужным. Зачем десятимесячному младенцу с маниакальным рвением теребить себя за уши, если вышеозначенные уши у него не чешутся? И вот во время дневного сна мы с моей невесткой самым серьезным образом пытаемся разрешить этот вопрос. Поскольку ни одного убедительного ответа найти нам не удалось, мы решили исследовать наши собственные уши, чтобы узнать, что же чувствует Грегуар последние три дня. Для этого нам необходимо вернуться в младенчество, стать такими же, как Грегуар, и с простодушием десятимесячного младенца прислушаться к собственным ушам. Итак, мы начинаем тянуть себя за мочки, словно это жевательная резинка (впрочем, их эластичность весьма относительна), пробегаем пальцами по краю ушной раковины, который у Сильви оказывается гораздо эже и намного изящнее, чем у меня, нажимаем на козелок, который у меня оказывается более толстым, чем у Сильви, и, главное, волосатым – смотри-ка, с каких это пор? С каких пор этот треугольный кусочек плоти (до сегодняшнего дня я и не знал, что он называется «козелок») украсился «ирокезом» из жестких волосков? Мы обследуем глубины ушной раковины – вот бы Брюно нас увидел сейчас, шепчет Сильви с закрытыми глазами, переходя к выпуклой наружной части раковины, – и вдруг – эврика! – она находит, что мы искали. Я знаю! Я поняла! Закройте глаза, папа! (Закрыл.) Отогните уши, опустите, как у спаниэля. (Опустил.) Слышите? спрашивает Сильви, постукивая пальцами по выпуклой наружной части ушной раковины. Барабанная дробь, говорю я, я слышу, как моя невестка барабанит по моей ушной раковине, и эта дробь гулко отдается у меня в черепе! Ну, так Грегуар только что сделал это открытие! Музыку, папа! Он открыл для себя музыку! Перкуссию! Мы проверили эту гипотезу, как только Грегуар проснулся. Никаких сомнений: наша подопытная крыска – этот меломан – шлепает себе по ушам сначала обеими ручонками, а потом проходится по ним быстрыми пальчиками – как мы барабаним пальцами по краю стола. После чего, с прискорбным непостоянством начинающего, начинает запихивать себе в рот пластмассовый трактор, а я предлагаю Сильви спуститься в гараж и попробовать на вкус нашу машину – чтобы проверить и это.
55 лет, 4 месяца, 17 дней
Вторник, 27 февраля 1979 года
Когда пишу, замечаю на тыльной стороне ладони маленькое кофейное пятнышко. Блекло-коричневый цвет. Пытаюсь стереть его кончиком указательного пальца. Не стирается. Послюнил палец – не тут-то было. Краска? Нет, ни мыло, ни вода ее не берут. Щеточка для ногтей тоже. Приходится признать очевидное: пятно на коже не чужеродное, оно порождено самой кожей. Знак старости, вылезший на поверхность из глубин организма. Из тех, которыми усеяны старческие лица: Виолетт называла их «кладбищенскими цветочками». Когда же он успел пробиться, этот цветочек? Подписываю ли я бумаги на работе, ем ли или пишу здесь, у себя за столом, рука почти постоянно находится у меня перед глазами, а я до сих пор не замечал этого пятнышка! И тем не менее подобные цветочки не вырастают за одну секунду! Нет, он незаметно внедрился в мою привычную жизнь, вылез спокойненько на поверхность, и я несколько дней смотрел на него, не видя. И вот сегодня особое состояние моего сознания позволило мне его по-настоящему увидеть. Затем расцветет множество новых «цветочков», и скоро мне будет уже не вспомнить, на что были похожи мои руки, до того как покрылись этой кладбищенской флорой.
55 лет, 4 месяца, 21 день
Суббота, 3 марта 1979 года
Некоторые перемены в нашем теле наводят меня на мысль об улицах, по которым мы ходим годами. В один прекрасный день вдруг закрывается какой-то магазин, вывеску снимают, помещение пустеет, появляется объявление о сдаче в наем, и ты не можешь вспомнить, что же там было раньше, всего неделю назад.
55 лет, 7 месяцев, 3 дня
Воскресенье, 13 мая 1979 года
Я поздравляю Тижо с тем, что некая симпатичная Ариетт так долго остается рядом с ним (хотя какое мое дело?). Он выслушивает меня, а затем, когда я наконец завершаю свое похвальное слово прочным связям, с самым серьезным видом заявляет: «Мужской конец оставляет внутри женщины не больше следов, чем пролетевшая по небу птица». И по его глазам нельзя понять, что он хочет сказать этой китайской мудростью.
56 лет, день рождения
Среда, 10 октября 1979 года
Когда мне было двадцать лет, потягиваясь, я как будто взмывал в воздух. Сегодня утром, потянувшись, я почувствовал себя распятым на кресте. Совсем заржавел. Надо размяться. Правильно говорил наш учитель физкультуры (Демиль? Димель?), убеждая нас в предпоследнем классе, что без ежедневных упражнений мы заржавеем раньше времени… Возможно. Ну а пока, когда я смотрю, во что превратились мои спортивные друзья, прожужжавшие мне все уши своими достижениями (у Этьена, на сегодняшний день скрюченного ревматизмом, переломаны все пальцы и ключицы, а плечи, как у всякого регбиста, поражены капсулитом), я убежден, что правильно делал, сопротивляясь культу рекордов и диктатуре постоянных тренировок, которые кажутся мне своеобразным онанизмом. Я всегда ненавидел спорт как культ тела. К боксу я относился как к танцам, как к игре, как к искусству. Ну и потом, я занимался им большей частью в одиночку, лупил чаще всего по мешку с опилками. И в теннисе – бил в стенку. Что касается брюшного пресса и отжиманий, это были упражнения, необходимые для моего «воплощения». Они позволяли прозрачному мальчугану, призраку своего отца, обрести плоть, «войти в тело». Выиграть матч в вышибалы, отделать мерзавца на ринге, выставить задавалу на посмешище на корте, взобраться по крутому склону на велосипеде – все это была моя месть за папу, взиравшего на это с расстояния, с трибуны, где он сидел на почетном месте. Спорт никогда не был для меня физической необходимостью. Впрочем, в тот день, когда мы повстречались с Моной, я совершенно его забросил.
56 лет, 9 месяцев, 27 дней
Среда, 6 августа 1980 года
Анекдот. Услышал его только что в баре, где пил кофе, от соседа по стойке, который допивал явно не первый стаканчик пастиса. Никаких женщин, – говорит врач пациенту. Ни женщин, ни кофе, ни табака, ни выпивки. – Я так дольше проживу? – Не знаю, не знаю, – отвечает врач, – но время для вас будет тянуться гораздо медленнее.
56 лет, 9 месяцев, 29 дней
Пятница, 8 августа 1980 года
В Мераке ветрянка. Напала на всех детишек сразу, как саранча. Все покрылись болячками, ни один не уцелел. Все кругом пищат, засыпают, просыпаются, ноют, что у них чешется, а чесать нельзя. Мона и Лизон, как сестры милосердия, сражаются на всех фронтах. Тут и Филипп с Полиной, внуки Этьена, и три маленьких друга семьи. Я быстренько телеграфировал Брюно, чтобы тот прислал сюда Грегуара, – надо пользоваться такой возможностью, это же естественная прививка, но Брюно ответил телеграммой, краткость которой говорит сама за себя: «Надеюсь, ты шутишь? Брюно». Жаль, сказала Мона, ветрянка в компании – это игра, а в одиночку – наказание.
Все время пытаюсь представить себе Брюно – как он тщательно подыскивает для ответа эти четыре слова. В каком возрасте люди примиряются с мыслью, что их отец до сих пор жив?
56 лет, 10 месяцев, 5 дней
Пятница, 15 августа 1980 года
Сколько ощущений не испытано? На концерте в церкви женщина с обнаженными руками, положив локоть на спинку соседнего, не занятого стула, мечтательно теребит волоски у себя под мышкой. Я тоже попробовал. Довольно приятно. Могло бы быстро превратиться в тик, если бы место было более доступным.
57 лет, день рождения
Пятница, 10 октября 1980 года
Получил на день рождения чудесный подарок от Лизон. Ужинаем всей компанией: Мона, Тижо, Жозеф, Жаннетт, Этьен с Марселиной и т.д. Лизон, сидя напротив меня, участвует в общей беседе с жизнерадостностью, которая кажется мне удесятеренной какой-то неведомой силой. В нее словно вдохнули новое дыхание. В ней поселился добрый гений. Который, судя по осунувшемуся лицу, ее несколько утомляет. После ужина зову ее в библиотеку. (Этот отеческий призыв мы всегда обыгрываем с особой торжественностью: Дочь моя, ступай за мной! Лизон с виноватым видом идет в библиотеку, я – следом, поступью командора, и закрываю за нами двери.) Садись. Она садится. Сиди тихо. Она смотрит себе на ноги. Я пробегаю взглядом книжные полки и достаю «Доктора Живаго». Ищу отрывок, который хочу зачитать ей, а! вот! нашел! Девятая часть, глава третья. Записки Юрия Живаго. Он пишет их в Варыкино, в конце зимы, перед самой весной. Слушай. Лизон слушает.
«Мне кажется, Тоня в положении. Я ей об этом сказал. Она не разделяет моего предположения, а я в этом уверен. Меня до появления более бесспорных признаков не могут обмануть предшествующие, менее уловимые.
Лицо женщины меняется. Нельзя сказать, чтобы она подурнела.
Но ее внешность, раньше всецело находившаяся под ее наблюдением, уходит из-под ее контроля. Ею распоряжается будущее, которое выйдет из нее и уже больше не есть она сама».
Поднимаю голову. Лизон говорит: Вот это проницательность! И мы бросаемся друг другу в объятия.
Мы еще час или два проболтали там, в библиотеке. Тебе сейчас столько же лет, сколько было Виолетт, когда она умерла, сказала она.
– Откуда ты знаешь?
– У нее на могиле написано.
Боже мой, на могиле Виолетт, где я больше так и не был! Даже в День всех святых. Ни разу.
– А кто ухаживает за могилой Виолетт?
– Тижо. Он каждый год сажает там цветы. Я иногда тоже с ним ходила, когда была маленькая,
А ведь это моя привычка – читая некрологи или прогуливаясь по кладбищу, мысленно подсчитывать возраст умерших… Во время похорон Виолетт на кладбище в Мераке, спасаясь от горя, я бродил между могил, подсчитывал годы усопших, читал вслух их имена: я был уверен, что им приятно, что кто-то все еще называет их по имени. И что их возраст будет закреплен за ними навечно. Франсуа Франсески, 49 лет, Сабина Одпен, 78 лет. Амеде Бреш, 82 года. Каждому своя минутка, говорила Виолетт, опуская яйца в кипяток. Там были и дети. Некоторые недолго задержались на этом свете – не дольше, чем нужно яйцу, чтобы свариться. Младенец Сальваторе, 3 месяца. Имена вырезаны на необработанном граните или на полированном мраморе… А памятник Виолетт еще не был готов. Могильщик Маритен забросал гроб тяжелой землей. Всю неделю до того шел дождь, в ноздрях у меня до сих пор стоит запах той земли. Нет памятника – нет даты. Дата появилась вместе с памятником. Почему же я больше ни разу не побывал на том кладбище? Почему у меня не возникло даже желания? Из-за неизбывного горя? Не думаю. Скорее, чтобы не узнать возраста Виолетт. Чтобы не знать, сколько Виолетт прожила. Потому что Виолетт была не просто человек, а персонаж, согласна?
Я смотрю на Лизон. Как бы ей сказать, что я был бы рад, если бы меня похоронили рядом с Виолетт… Нет, не буду.
– Ты что, папа?
– Ничего, милая. Тебе кого хочется? Мальчика или девочку?
ЗАМЕТКА ДЛЯ ЛИЗОН
Так вот, моя милая, твой отец, который совершенно не помнит беременность твоей матери, догадался о беременности дочери в тот момент, когда Фанни и Маргерит были в самом начале пути на этот свет! Какой инстинкт отвечает за такое предвидение? В сущности, ты вполне могла бы толкнуть этот дневник «Новому психоаналитическому журналу», наш друг ЖБ неплохо бы на этом нажился.
58 лет, 28 дней
Суббота 7 ноября 1981 года
В магазинах наших шикарных кварталов теперь редко услышишь расистское высказывание осознанно физического свойства. И тем не менее. Сегодня утром, булочная. Мы с Тижо покупаем круассаны и бриоши. Лизон уехала, и Фанни с Маргерит на все утро остались на нас с ним. Так вот, булочная. Перед нами – две приличные дамы и старик араб. Позади очередь тянется до самого входа (булочная популярная). За прилавком – продавщица в розовом халате, из тех, кто выражает свою благовоспитанность при помощи сослагательного наклонения. Чего бы вам хотелось? А что бы вы взяли еще? Наконец, обе покупательницы обслужены, подходит очередь старика араба. Джелаба, остроносые туфли без задника, сильный акцент плюс нерешительность, свойственная его преклонному возрасту. Сослагательного наклонения как не бывало. Так, ну что, что ему надо? Он выбрал наконец? Ответ покупателя с трудом поддается дешифровке. Что? Старик указывает рукой на слоеный пирожок, переводя на желанное изделие и взгляд. Воспользовавшись этим, розовая продавщица нарочито зажимает нос пальцами левой руки, а правой как бы разгоняет невыносимую вонь. Потом хватает металлическими щипцами пирожок, мигом сует в пакет и, громко объявив его стоимость, швыряет покупателю. Тот задирает свою джелабу и роется в кармане брюк в поисках денег. Не набрав нужной суммы, он снова лезет в карман за добавкой, не находит, лезет в другой карман, достает оттуда старые очки. Эй! Нельзя ли поживее? Вы что, не видите, сколько народу вас ждет? Широким жестом она указывает на остальных покупателей. Он нервничает. Монеты сыплются на пол. Он наклоняется, снова распрямляется, раскладывает в отчаянии все свое богатство на искусственном мраморе прилавка. Она выуживает нужную сумму. Он выходит из магазина, опустив глаза. Не нужны мне ваши извинения! После чего – обращаясь ко всем присутствующим: Эти арабы! Понаехали тут, пьют нашу кровь, да еще и вонь разводят! Все молчат. Возможно, от потрясения, но все же молчат. (Как я, например.) И тут раздается голос Тижо. И правда, эти арабы – подонки. Ведь только подонок согласился бы пить кровь мадам! (Молчание.) Обращаясь к молодому человеку, стоящему за нами: Скажите честно, мсье, вот вы бы стали пить кровь этой дамы? Молодой человек бледнеет. Нет? Я вас понимаю. Потому что, судя по тому, что вылезает у нее изо рта, кровь у нее – это что-то! Ужас охватывает всех присутствующих. Тижо переходит к другой собеседнице. А вы, мадам, стали бы пить ее кровь? Нет? А вы, мсье? Тоже нет? Ну конечно, вы же не арабы! Теперь уже у всех покупателей кровь застыла в жилах. Все в ужасе ждут, что будет дальше, это написано на лицах. В словах Тижо столько натурализма. Только я собрался прекратить это издевательство, как Тижо без всякого перехода обращается к продавщице сладчайшим тоном: Сударыня, вы не оказали бы такую любезность, продав нам четыре круассана и столько же бриошей?
58 лет, 29 дней
Воскресенье, 8 ноября 1981 года
На самом деле человек боится только за свое тело. Как только обидчик понимает, что то, что он говорит, могут сделать с ним самим, его ужас не поддается описанию.
58 лет, 1 месяц, 5 дней
Воскресенье, 15 ноября 1981 года
Вчера вечером мы с Моной караулили Грегуара и его приятеля Филиппа, оба четырех с половиной лет от роду. Ужин, чистка зубов, сказка на ночь, свет потушить ровно в 9, дверь в детскую приоткрыть, чтобы туда попадал свет из коридора, – кроме всего этого нам пришлось их еще и искупать. Вытирая их, я обнаружил, что Грегуар весит намного больше, чем Филипп. В то же время габаритами они почти не отличаются. Для очистки совести я их взвесил. Удивительно, но вес у них оказался тоже одинаковым, с разницей в какие-то пятьдесят граммов (кстати, в пользу Филиппа): семнадцать кило с небольшим. Грегуар не тяжелее Филиппа, но гораздо плотнее. Бедный Филипп! Я уверен, что недостаток плотности готовит ему жизнь, полную неуверенности в себе, вечных сомнений, с постоянной сменой убеждений, затаенным чувством вины, рецидивирующей тоской, короче говоря, с массой проблем личного плана, тогда как Грегуар, твердо стоящий на ногах, будет двигаться по жизни невозмутимо, как танк. Боль бытия для Филиппа, стабильность и гедонизм для Грегуара. И все дело в плотности организма. Мона может сколько угодно говорить, что мое заключение не имеет никаких оснований, сегодня утром одно воспоминание об этих таких разных тельцах утвердило меня в моем убеждении.
58 лет, 6 месяцев, 4 дня
Среда, 14 апреля 1982 года
После долгих переговоров с японцем Тосиро К. Сколько ему может быть лет? Он так худ, что коричневое кимоно выглядит на нем как древесная кора, болтающаяся вокруг былинки. Его движения медлительны, как у лемура, а ручка в его пальцах кажется поленом. Противоречивые впечатления: кажется, будто у этого человека нет больше сил для жизни, но при этом он не жалеет времени. Долгие паузы, крайняя медлительность речи и жестов воскресили образ моего отца, который подносил ложку ко рту так, будто поднимал гору. Четыре года войны и германские газы опустошили, дематериализовали моего отца, превратив его в то же, во что этот японский старец превратился за целый век. Короче говоря, за стол переговоров вместе с нами уселся отец, уютно устроившись в долгих молчаливых паузах Тосиро К. Уходи, папа, ты меня отвлекаешь. Так и вижу, как он упирается в буфет у нас на кухне, а тот не двигается ни на миллиметр. Господин Тосиро К. не мешает мне наблюдать, как отец теряет последние силы в этой домашней битве. Папа, пожалуйста, твой сын ведет переговоры. А вот папа за семейным столом. Мы с мамой не сводим глаз с мухи, усевшейся ему на нос. Она, наверно, решила, что я уже труп, говорит он, не делая ни малейшей попытки ее согнать. Мама вскакивает из-за стола, опрокинув стул. Это гнусно! – кричит она. Да нет же, шепчет он. Я – маленький мальчик – целую его протянутую руку. Господин Тосиро К. ждет. Папа затягивает переговоры. В самолете на обратном пути мои сотрудники будут хвалить меня за терпение, проявленное в отношении старого японца.
58 лет, 6 месяцев, 5 дней
Четверг, 15 апреля 1982 года
Отец. Тело – одна оболочка. Ни легких, ни плоти – мышцы как обвисшие канаты. И я – мальчик с вялыми руками-ногами, повторяющий его замедленные движения, передвигающийся по дому натыкаясь на мебель, юный призрак своего отца, которого избегала собственная мать, затерроризированная этой невозможной парочкой.
59 лет
Воскресенье, 10 октября 1982 года
С конца лета у меня чешется, иногда ужасно, под левой лопаткой. Похоже, это – от позвоночника, но проявляется сильнее всего после того, как я переем. Я не писал здесь, пока это не стало повторяться регулярно.
59 лет, 1 месяц, 8 дней
Четверг, 18 ноября 1982 года