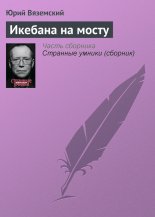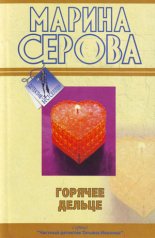Мой взгляд на литературу Лем Станислав

Майклу Канделю
Краков, 21 мая 1975 года
Дорогой пан,
вернувшись вчера из путешествия по обеим Германиям, обнаружил 2 ваших письма в стопке корреспонденции, выловил их и прочитал. Идея вашей книги кажется мне родственной моей идее, с которой я носился некоторое время, но так никогда даже и не начал. Это должна была быть десакрализованная версия договора с дьяволом. Совершенно заурядный тип, в чужом городе, бродя по city между тысячами реклам, фирм, вдруг видит какую-то одну, обещающую Исполнение Желаний, случайно и из прихоти поднимается на какой-то этаж (идет дождь, дело происходит вечером, он один, делать ему все равно нечего) и попадает в маленький кабинет, бюро, в котором ему предлагают соглашение, которое (ОДНАКО все-таки начал, вижу, но в гротесковой модальности, vide «Абс[олютную] пустоту»!) можно изложить так: фирма начинает деятельность, целью которой является идеальное разглаживание жизненного пути в соответствии с выраженным желанием, незаметными вмешательствами, и с клиента за такой договор пока не берут никакой оплаты, потому что это фаза эксперимента, пусковой период, то есть анонимный Капитал, скрывающийся за этой вывеской, хочет прежде проверить, будут ли окупаемы инвестиции в большом масштабе, так что первые согласившиеся останутся в качестве лабораторных крыс клиентами, обслуживаемыми бесплатно, а герой может быть одним из них. Соглашение заключено от нечего делать, без веры в то, что оно будет иметь хоть какую-то ценность, но судьба вскоре меняется, все «идет», идет все лучше, уже даже так, что личности, которых герой считает для себя особо неприятными, исчезают… (гибнут в катастрофах, уезжают неизвестно куда etc.). Эта полоса делает героя все более наглым, он начинает как бы выламываться из свойственного ему природного характерологического стереотипа (был скорее скромным, скорее несмелым, скорее пассивным) — он ведет себя так легкомысленно и нагло, что создает себе колоссальные, может быть, даже криминальные проблемы, он отправляется в тот город, чтобы подать рекламацию, а заодно и проверить, было ли это соглашение на самом деле (ибо иногда ему уже кажется, что весь этот договор ему только приснился) — и оказывается, что никакой такой фирмы нет, — точнее, она есть, но это нечто вроде рекламного агентства, а что касается работника, который заключал с героем «соглашение», то о нем никто не хочет говорить (то есть неизвестно, был ли он вообще, или был, но впал в паранойю, когда беседовал с героем) — и герой начинает падать в устроенную самому себе бездну. А может быть, фирма решила, что на этом много не заработаешь, и потому от всего отказалась — этот вопрос должен остаться открытым. Это, как вы видите, Рай и Ад в Рыночной версии (предложение и спрос, оферт и цена, которую нужно платить)[351]. Но, естественно, связи с вашей концепцией, скорее, весьма отдаленные…
Что касается моих интересов в США, то во время прогулок по берегу моря в Ростоке я понял, что должен больше думать о том, что мне следует написать, а меньше resp. как можно меньше вмешиваться в судьбы того, что уже написал. Поэтому я не буду развлекаться никакими войнами с «Seabury», тем более, что это могло бы принести неприятности уважаемому и преданному мне Роттенштайнеру, который считает, ЧТО ДЕЛА С «SEABURY» ИДУТ неплохо… Мистер Линц НИКОГДА не написал мне ни единого слова; я не получил из фирмы ни одной рецензии с тех пор, как оттуда ушла миссис Реди; вообще НИЧЕГО — если Так выглядит это… но, повторяю, я не буду устраивать никаких сцен. Нужно, я думаю, делать СВОЕ. В ваших словах, касающихся будущего моей издательской программы в США я ощущаю огромные сомнения по поводу «Мнимой величины». Я прекрасно это понимаю. Мистер Акерман прислал мне ксерокс диплома, которым мистер, а точнее, герр Эрнстинг из Западной Германии произвел его в лауреаты премии «ХЬЮГО» на немецкой территории — а этот Э[рнстинг] один из авторов суперпошлятины — «Перри Родана», ну и что, я бы скоренько спустил такой диплом с водой в клозете, а мистер Акерман хотел этим похвалиться передо мной; если там таковы Знатоки, то какой может быть публика?
Уже несколько десятков лет в области SF в США под видом амброзии и нектара Богов продается говно, публика уже вошла во вкус этого говна, и теперь какой-то тип с азиатского Востока, с подножия каких-то Татранских гор должен быть тем, кто умеет лучше, и ради него надо отказываться от любимого говна??? Так что я прекрасно все понимаю, знаю, что у вас две души, как у кулака по Ленину: одна душа та, которая жаждет Fame & Fortune[352], вторая душа — та, что хочет в первую очередь отдаться тому, что ЕЙ самой больше нравится, не обращая внимания на внешне-рыночно-издательско-торговые результаты. В значительной мере этот раздрай у меня уже позади, хотя, наверное, и не во всем, какой из меня герой-аскет. Книга эта хороша в моих глазах тем, чего нет ни в одной другой, и это свойство для меня, пожалуй, главное. Я на самом деле считаю, что нужно, когда речь идет о моей вещи, действовать активно, наперекор типичной тенденции, именно теперь, во время БЫСТРОЙ кристаллизации и окостенения мнения о конкретном авторе (i), — что следовало бы так координировать и подбирать очередные произведения, чтобы образ автора не смог раз навсегда застыть для читателей и критиков в ячейке с одной этикеткой («юморист» — «карикатурист типичной SF» и т. д.). И хотя я так считаю, одновременно хочу быть стоиком и в связи с этим a priori согласен с любой отличной от вышеуказанной концепции издательской тактикой. И ДАЖЕ С ИЗДАНИЕМ вообще неконцептуальным, то есть «как попало и как получится». Знаю, что тогда это будет неоптимальная тактика, может быть, и пессимальная даже, ну что ж! наш мир не оптимальный, так почему в нем должна быть оптимальной жизненная карьера моих книг??? Да, — конечно, — пока ВЫ хотите меня переводить для «Seabury», до тех пор и я буду это полностью принимать, — вот к какому окончательному выводу я пришел. Может быть, мое излишнее участие в издательских вопросах было фрейдовским отражением страха перед тем, что я ДОЛЖЕН написать еще, но за что не осмеливаюсь взяться?!!
Путешествие, разумеется, хоть и утомило меня — у меня теперь слишком много обязательств, — было интересным, поучительным. Рецензий на мои вещи так много, что я не в состоянии их все прочитать, что даже смешно в сопоставлении с ситуацией в США, когда вы присылаете мне статью, в которой есть 3–4 слова обо мне плюс упомянуто одно название… а что меня, признаюсь с некоторым Schadenfreude[353], порадовало, так тот факт, что все серии SF, запущенные уважаемыми издательствами ФРГ (все-таки это продукция для каких-то 75 млн. людей, то есть и Австрия, и ФРГ, и немецкая область Швейцарии), зачахли, то есть сдохли, а Лем вышел победителем, в 2, 3 и 4 переизданиях. Кстати, в Берлине (Западном) я слышал, что «Investigation»[354] идет чрезвычайно хорошо, уже на границе бестселлера (то есть находится на одном из последних мест в списках бестселлеров). Черт его знает, почему именно ЭТО!
Не думаю, чтобы NBA был слишком замечательным ранним вашим успехом, но, кажется, примерно понимаю, что вы имели в виду, когда писали об этом. Я ужасно утомлен путешествием (вчера проехал на автомобиле более 800 км за день), а пишу вам в 6.15 утра… так что, может быть, эта моя писанина и не слишком мудрая. Тогда лучше всего закончить — сердечным приветствием!
Преданный
Станислав Лем
Владиславу Капущинскому
Краков, 11 ноября 1975 года
Уважаемый и дорогой пан профессор,
одиннадцатый номер «Problemy» стал непосредственным толчком, который склонил меня написать вам, — я не буду начинать с извинений за мое долгое молчание, но я не смел отвлекать вас, хоть не раз думал, что, в конце концов, чтение письма не является чем-то слишком хлопотным, и уже пора хотя бы в паре слов представить вам, что у меня происходит.
Собственно, могу уже говорить о ростках мировой карьеры моих книг. Как и прежде, за пределами нашей страны света наибольшим успехом они пользуются в ФРГ, а также и во Франции; и только трудности с поиском хороших переводчиков стали причиной того, что мои теоретические книги все еще там не вышли (анекдот: один переводчик в ФРГ взял 7000 марок у моего издателя на перевод «Суммы технологии» и… ничего не сделал). Ну, и в ГДР вышло на душу населения книг Лема больше, чем в Польше. А вот на англоязычной территории, особенно в США, мои книги идут тяжело, поскольку отличаются от распространенных там образцов. Но и там возникает моя религиозная община. Медленно это идет, но все-таки как-то идет.
Сейчас я заканчиваю писать новую повесть со странным, может быть, названием «Насморк», в какой-то степени связанную с моим давним «Расследованием», но на сей раз это история совершенно логичная и эмпирически правильная (серия таинственных смертей, безуспешно расследуемых разными полициями, вызванная, коротко говоря, полипрагмазией, — в результате встречи в организмах некоторых людей химических соединений, производных от лекарств, которые оказываются сильным галлюциногеном, вызывающим атаки острого психоза; героем этой книги является американский астронавт, а точнее, кандидат в астронавты, забракованный из-за аллергического насморка).
А вообще, как обычно, я делаю одновременно очень много разных вещей. С начала ноября преподаю на философском фак[ультете] Ягеллонского университета у проф. Кудеровича «мою точку зрения» на избранные вопросы из области теории познания. По просьбе американского издателя проектировал обложки к моим книгам, в последнее время к «Звездным дневникам». Лаборатория искусственного интеллекта в Стэнфорде, Калифорния, пригласила меня (проф. Маккарти) на конференцию, посвященную будущему этого машинного разума, которая произойдет в марте 1975 года. Отказаться — отказался, потому что выезжаю куда-то, только если должен (ars longa, vita brevis[355]), но все-таки лестно, так как там собираются только ученые головы. Написал несколько радиопостановок для баварского радио. 14 месяцев назад сдал в краковское Литературное Изд-во новый сборник рассказов «Маска», сейчас пришла корректура: к сожалению, производственный цикл издания книг стал таким продолжительным! Наделал себе неприятностей и хлопот, составляя для Лит. Изд-ва серию SF «С. Лем рекомендует», так как первый же американский автор этой серии, Ф. Дик, к сожалению, немножко сумасшедший, опубликовал в американской прессе открытое письмо, в котором обозвал меня вором и мошенником, который якобы незаконно, то есть без договора, издал книгу, гонорар (в долларах) присвоил себе, а его оставил в дураках. Ну и теперь Литературное Изд-во вынуждено слать туда разные dementi[356], копии договоров и т. д., потому что все этот бедный человек наврал, но не думаю, что по злому умыслу, попросту слишком долго употреблял ЛСД. (Ну и, естественно, много личностей обиделось, что не включил в эту серию ИХ книги.) А эти книги, этой серии, рождаются с неимоверным трудом. Бумага и типография…
Не хотел бы вам надоедать, но это факт, что я пишу и хочу писать, пока еще в голове бродят мысли. А что касается дома, то сын мой Томаш, которому уже 7 с половиной лет, ходит в первый класс, с марта этого года учится играть на фортепиано и у него это удивительно хорошо получается; больше всего он рад тому, что Папа совершенно безграмотен в области нот. У нас новый пес, добрый дурачок, Бартек, который в восемь месяцев весит 34 кг; очень сильный и прожорливый, но добрейшая скотина, только снова большие проблемы с кормлением, потому что Не Любит Каши, а любит мясо, известное дело. Наш старый Пегас, ЧТОБ НЕ СГЛАЗИТЬ, тоже чувствует себя хорошо, и сосуществование двух псов складывается на удивление благополучно.
Жена по-прежнему работает в рентгене. В мае этого года были с ней в Берлине, сначала в Восточном, затем в Западном, и там, и там у меня были авторские встречи, и любопытно, я заметил, что немцы, хоть и разделены стеной и строем, намного более похожи друг на друга мышлением, нежели можно было этого ожидать. Потом в сентябре была такая маленькая конференция в австрийском Тироле, в Альпах, посвященная моему творчеству, но я хоть и собирался поехать, не поехал, потому что не сложилось. Зато я написал большую часть следующей книги. «Повторения», в которой есть silva rerum[357] — короткие и длинные рассказы, всего понемногу. Из прорывов (не моих, а моих книг) последний — это издание на португальском языке в Бразилии, где выходят 2 мои вещи, и можете представить мое удивление при подписании договора, так как я под присягой бы утверждал, что в Бразилии говорят по-испански! (В Испании генерала Франко вышел «Футурологический конгресс», и издатель поначалу немного боялся тамошней Цензуры, но все в конце концов как-то устроилось.) Впрочем, этот вопрос, иноязычных изданий, для автора как наблюдателя весьма захватывающий. В Швеции «Солярис» пошел хорошо, его купили публичные библиотеки, а в Финляндии, вроде бы тоже скандинавской стране, скорее скверно. И никогда не известно, почему так или этак. В декабре, а точнее, под Новый Год, в ФРГ выйдет что-то вроде антологии критических работ, посвященных моему творчеству[358], и самые большие трудности были с поиском для этой антологии ПОЛЬСКОЙ критики, так как речь шла о целостных, синтетических разборах, а не о рецензиях на отдельные книги. А когда в предисловии к советскому переизданию я прочитал, что Лем стал известен в СССР раньше, чем на своей родине, мне стало удивительно. Но это лишь подтверждает тезис, что nemo propheta in patria sua[359].
Также, как могу, продолжаю доучиваться; в последнее время читал очень плотно и умно написанную (на русском) книгу И. Шкловского об эволюции звезд; но вообще-то нельзя пожаловаться на ИЗБЫТОК ценных научных и одновременно новых позиций в наших книжных магазинах. Уж скорее Межкнига[360] иногда человека чем-то порадует. В нашем доме стало страшно тесно, самое худшее — это пачки с авторскими экземплярами на весьма экзотичных языках, так как непонятно что с этим делать. Подвал забит до отказа, на чердак класть и неудобно, и страшно, как бы не треснул свод, вот и мучаемся, хотя это, конечно, embarras de richesse[361]. Еще я постоянно разрываюсь между пишущей машинкой и великими проектами моего сына, потому что у него появилась страсть мастерить, а именно: делать разные изобретения, вот и строим, когда только я могу, интересные устройства, сейчас принялись за электрический мотор, основанный на старой концепции катушки, всасывающей железный сердечник, по форме такой же, как старая паровая машина Ватта, с балансиром. У Томаша есть разные вещи (машина Уимсхерста, паровая машина), но сейчас он презирает все, к чему сам рук не приложил, и я должен очень стараться, чтобы его не разочаровать, например, подтянулся в ПАЯНИИ.
Со здоровьем дела обстоят средне, более или менее, в общем, как бы не подводит. Зубов во рту все меньше, начал расти живот, на за живот я взялся строго и безжалостно недельными голодовками, и в самом деле есть результаты. Сон перепутался, и часто уже не сплю в четвертом часу (утра), но по совету немецкой пословицы aus einer Not eine Tugend machen[362] я начал в эти предранние часы писать, так как это самое спокойное время. И так понемногу передвинул себе день, так что к девяти вечера падаю с ног… и часто идем спать вместе с Томашем.
Не буду спрашивать пана профессора, как у вас дела, так как думаю, что смею надеяться, если вы найдете такую возможность, черкнете хоть пару маленьких слов в наш адрес. Я был очень тронут, увидев вашу статью и фотографию в «Problemy», и упоминание в последнем из примечаний о верном слуге пана профессора, который, желая вам здоровья, настоящим рабски преклоняется; всего доброго
желает вам преданный
Станислав Лем
Майклу Канделю
Краков, 12 апреля 1978 года
Дорогой пан,
я получил ваш перевод «Сталеглазых»[363]. Лишь читая его, по-настоящему осознал степень трудности перевода. Вы сделали много. Несмотря на это, у меня было впечатление, что чего-то там не хватает, и я долго не мог объяснить себе это ощущение, поскольку перевод ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ. Я думаю, что напал на след, — а именно: той парадигматической областью, которая соучаствовала в написании «Сталеглазых», и которую вы не приняли во внимание (как я сейчас добавлю, это было невозможно), — является область стишков для детей. Я имею в виду nursery rhymes, каждые в каждой языковой среде совершенно иные. Эти механические, часто бессмысленные ритмические итерации, из которых и складываются такие стишки, представляют собой самую раннюю импрегнацию наших умов — в самом раннем детстве. Но учесть это при переводе нельзя, поскольку эти парадигматические области совершенно не перекрываются. (Польская и англосаксонская, например.) Так что, если бы Вы приняли во внимание эту область, то были бы вынуждены использовать, естественно, англосаксонскую, но тогда вы уже вообще не могли бы переводить, а были бы вынуждены написать совершенно свободный парафраз этой истории, то, что немцы называют freie Nachdichtung[364], — но это уже не переводческая работа!
Новшеством, свойственным «Кибериаде», как я думаю, является введение в пространство парадигматики (той, которая составляет так называемые форманты) — парадигматическое скрещение СКАЗКИ и НАУКИ — в сердце, а не на периферии этих пространств (то есть — в управляющем центре преформации, а не на околице, когда сказку всего лишь механически инкрустируют отдельными наукоподобными НАЗВАНИЯМИ, что типично для SF).
Отсюда и трудности — в переводе. Как я думаю, к счастью, «Сталеглазые», из-за своей исключительной близости — по отношению к сказочным праобразчикам (nursery rhymes) — являются позицией исключительно трудной, но одновременно обособленной; то есть иные части «Кибериады», хоть тоже, наверное, нелегки в переводе, но имеют другие характеристики трудности — не столь неблагоприятные. (Так как «Сталеглазые» в ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ слое оригинала сильно «склеены» с польской сказочкой для детей, с ее типичными рецитациями, итерациями, «Жил-Был» — «Баба-Яга» — «за седьмой горой, за седьмой рекой» — и т. п.) Так как, конечно, «kometa-kobieta»[365] — формальный эквивалент Бабы-Яги, и т. п. Тем не менее, для отдельных текстов английскую стилистику нужно попросту создавать, и здесь вам нужно быть изобретателем, а не переводчиком! Кстати, считаю, что это прекрасно удалось вам со сказочкой о том, как уцелела Вселенная. Правда, ужасно крепкие орешки Вас еще ожидают — в дальнейшей части «Кибериады» (особенно в «ячеечной истории» о трех машинах-рассказчицах). Ибо, в соответствии с методом, который вы уже использовали, нужно будет создавать эквиваленты. Я думаю, что польский и английский языки здесь очень далеки друг от друга. Например, я представляю, что в английском можно контаминировать идиомы так, как нельзя в польском, — и наоборот (например, breaking the code — the DNA code — и breaking an entering[366] — в английском можно сконтаминировать для получения забавного эффекта, а в польском нельзя, так как не хватает идиоматических эквивалентов — ведь по-польски код ВЗламывают, а грабитель ВЛАмывается). Извините за бледные буквы в этом письме, — печатаю на старой ленте.
Так что, я думаю, что со «Сталеглазыми» в границах того, что мы называем переводом, вы сделали много. Что же касается дальнейших текстов, если это совпадает с вашим желанием, я бы весьма охотно каждый оценивал насколько смогу и делился с вами своими замечаниями (кстати, на мой взгляд, ваш труд должен оплачиваться так же, как оплачивается перевод стихов, а не прозы, но боюсь, что издатель не одобрит такой подход).
Меня приняли в Комитет Футурологов «POLSKA 2000», и в связи с этим появилась масса новых забот, что усложняет жизнь. Благодарю за присланный перевод, сердечно приветствую, и остаюсь ваш
Станислав Лем
Ежи Яжембскому[367]
Вена, 10 января 1985 года
Дорогой пан,
не столько даже, чтобы ответить на ваше предпраздничное письмо, которое нас здесь ожидало, сколько, чтобы затронуть пару вопросов, по-виткацевски существенных, пишу вам первому по прибытии в Вену, глядя на кучу писем, на этот укор совести, потому что отвечать на них мне не хочется. Как приехал, эти несколько дней, я методом внимательного расковыривания читал «Дневник» Гомбровича, особенно же II и III тома, не без того, чтобы не думал о возможности издания, плюс статью Сандауера о «Дневнике» и о Гомбровиче в новогодней «Polityka». Чтобы это удалось издать, я как-то не верю; статья же С[андауера], в свою очередь, очень ловкая и при этом искусно подретуширована в фактографии там, где это было ему на руку. Но мне пришла в голову давно уже преследующая меня мысль, связанная с чтением Гомбровича, именно потому, что эта мысль нашла свое выражение и в статье С[андауера], правда, высказанная намного жестче, так что я не могу с ней полностью согласиться.
Дело в том, что С[андауер] прав не только в моем читательском восприятии: я преклоняюсь перед «Фердидурке», обожаю «Бакакай» и могу постоянно перечитывать снова и снова, и не менее восторгаюсь «Транс-Атлантикой», правда, уже с одной оговоркой, что меня не удовлетворяет окончание, потому что это окончание, это вроде как если бы кто-то показывал прекрасные смешные и чарующие вещи, творил какие-то чудеса, а потом вдруг фыркнул, развернулся на каблуках. И пошел себе. Изменение бездонной и просто онтологически сарматской проблематики на чисто лексикографическую не может быть только моей иллюзией, потому что я знаю, какие кошмарные трудности имели с финальными словами «Транс-Атлантики» все переводчики во главе с французскими: ибо это бух-бах не удавалось эффективно перевести, поскольку оно сидит в корнях лингвистической субстанции так же крепко, как и в «холистически»-смысловой всей книги (кстати, «Пан Тадеуш» тоже обрывается так же неожиданно и неприятно для меня).
Однако, при чтении вашего толстого тома о Гомбровиче[368] как-то не видно различия между плеядой ранних произведений, которые я назвал в качестве объектов моего обожания, смеющегося обожания, и позднейшими повестями. Знаете, это похоже на то, как если бы кто-то сделал химический анализ свадебного торта и картофельного супа: здесь углеводороды, там углеводороды, здесь сметана, там сметана и т. п. Правда, по-настоящему глубокие возражения у меня вызывает лишь «Порнография», и я консультировался с такими читателями, как — например — Я.Ю. Щепаньский, — и слышал от него то же, что оттолкнуло и меня: написано это изощренно, и очень, но душа от этого не играет. Именно эта церебральность, эта спекулятивность, эта сухая как кость игра в «формальное» засучивание штанин, — это отсутствие танца, пения, живости, этого вулканического юмора, который пьянил меня в более МОЛОДЫХ книгах Гомбровича, — это меня отталкивало. Что же касается того, что его собрание сочинений (но, на диво, не его «Дневник») распадается на Молодую и Старую части, — я совершенно в этом не сомневаюсь, и голову бы дал на отсечение, что это выявит и докажет само течение времени, ибо время обладает таким непонятным свойством, что «само», своим ходом, жизненно отделяет Прочные и могучие произведения от быстро испускающих дух. Неужели вам ощущения подобного рода совершенно чужды? Что касается «Обета», то я вообще не согласен с С[андауером], а что касается «Космоса», то ценности этой книги попросту находятся где-то в другом месте, совершенно не там, где в Молодых книгах.
Затем я начал, в свою очередь, расковыривать «Дневник». Думаю, что у вас, погруженного в Шульца, уже вылетели из головы эти гомбровичевские дела, но для меня Шульц никогда не был такой головоломкой, как Гомбрович, потому что Шульца можно довольно легко подделывать (фальсифицировать), а вот Гомбровича вопреки видимости Нет — разве что только тонкий верхний слой одного из его стилей. (Суп из блеска…) Так вот, меня удивляло, что Гомбрович, такой дьявольски интеллигентный автор, позволил себе обмануться Сартром. Это меня несказанно удивляет. Чтобы спорить с кем-то таким, как Сартр, — в вопросах какого-то первенства. Я Сартра никогда не уважал, и, может быть, единственный дополнительный материал, свидетельствующий о том, как я его трактовал, вы найдете в моем «Выходе на орбиту», в рецензии на его рассказы. Да, я был тогда молодым глупцом, но компас мой уже тогда был правильно настроен, я уже тогда сделал свой выбор мастеров, или путеводных звезд. По причинам, которые я не могу вам объяснить, мне неудобно сейчас соглашаться с мнениями С., но и полемизировать с ним я также не могу. Тем не менее этот вопрос очень сильно меня волнует и заставляет задумываться. Мой Боже — мне кажется, что Гомбрович умер вовремя, на своем пике, с чувством, что не только Эпоха уже видит его и обращается к нему, но и что он ее выражает, именно он, и что в его случае non omnis moriar[369] будет звучать надлежащим образом. Во всяком случае, в Польше — в других местах, как вам известно, с этим уже хуже.
Это был необыкновенный человек, о нем одном можно сказать, что он при жизни поставил себе памятник одновременно совершенно правдивый и лживый: он свои несчастья, страдания, нужду и скитания смог переработать в мощно, звучно, отважно и безмятежно звучащую бронзу — и, пожалуй, другой такой искусной артистической автобиографии, лучше аутентично созданного «Дневника», нет в мировой литературе. Он имеет такое свойство, что ОЖИВАЕТ, когда его читаешь, и тогда Живой Человек говорит нам: это очень чародейская, очень трудная штука. Другое дело, что ТАКОЙ нельзя даже позавидовать.
У меня еще нет той книги, которую Рита издала о нем[370], но я постараюсь ее найти. У меня пока никаких новых писательских планов большого калибра нет, так что, если вы пожелаете познакомиться с «Фиаско» и, возможно, с «Миром на Земле» (но эта, вторая вещь, отрывочна, потому что заканчивал я ее в спешке, опасаясь, что если операция будет неудачной, то я вообще ее не закончу), то сможете хоть какое-то время пребывать в милой уверенности, что я не доставлю неприятности вашему вскрытию какими-то неожиданными коленцами[371].
От Янека Б[лоньского] и от нас шлю вам сердечные приветствия и генеральное отпущение всех грехов в той мере, в какой вы пожелали в них признаться в своем письме.
Преданный
Станислав Лем
Часть 2
Сильвические размышления
Сильвические размышления IV: Прелести постмодернизма
Начинаю с середины, или с конца, или с другого места, потому что на этом основана современность. Впрочем, может уже кто-то додумался и до того, что следует взять Тициана, смешать с Веласкесом, приправить Босхом и подклеить порезанного на кусочки Вермеера — и это уже и есть постмодернистский гиперконцептуализм.
Старые ночные горшки, надетые на дли-и-инный телеграфный столб, с постаментом, как музыкальным автоматом, рукоятка которого должна быть воткнута в зад совы. Весьма современно. Порезанная на пласты автомобильная шина, украшенная розами и четками. Смело, но, может, уже не стоит так напрягаться, ибо разве нет вероятности, что кто-то уже давным-давно это придумал? Я не допускаю, чтобы другой человек, по фамилии Мел или похожей, недалеко от Огненной Земли написал бы «Осмотр на месте» по-испански и полностью независимо от Лема. Так далеко мыслью простираться я не смею. Однако, с другой стороны, я вижу, что чрезвычайно тяжело решиться на такую мысль, или группу понятий, или только слов, или цветов и четок, которая не является бессознательным повторением тождественного эпизода, где-то в мире уже кем-то художественно составленного.
Вообще все интересное, значительное, забавное, связное, логически разумное, колоритно вкусное, повествовательно захватывающее, сюжетно оригинальное было написано и очень давно где-то издано, поэтому теперь, если давление разбушевавшегося творческого вдохновения усилится, ничего другого не остается кроме как неинтересно молоть вздор, надоедать, внушать отвращение, разрушать, нелогично бормотать, грязно рисовать, скучать, дефабулировать и возносить ужасные конструкции на пьедесталы. Зося Б. сказала однажды о новой книге: «Это шедевр, но читать его невозможно». Отлично! Какое меткое замечание, какое актуальное! Я окружил себя горами печатной бумаги из-за посткоммунистической жадности, когда было запрещено все — научное, hard porno, альбомы, «IH Tribune», «Die Welt», «Le Monde», «New Scientist», «Science et Vie», «Природа», «Знамя», «Новый мир», «Огонек», «Аргументы и факты», «Economist». Я словно помешался на этом, ибо непрочитанные стопки приходится выкидывать, и я, который прежде эти источники знания, которые предлагал MPiK[372], высасывал до остатка, теперь тону в излишках. Отечественную прессу, собственно говоря, можно не читать, об отечественном телевидении нечего и говорить, дальние отголоски до меня доходят через третьих лиц, поскольку я запал на спутниковое TV. Все это почти как у Мак-Люэна: «Medium is the Message!» — «Средство есть сообщение». Показывают либо не цветное ретро, либо цветное, коронации и войны, первая и вторая мировая — любимая тема. Или фильмы — сериалы: светский, династический (меня сильно тошнит уже на титрах). Или человечек, который, если его придушить или приставить нож к горлу, или засунуть в несгораемый шкаф и закрыть, весь разбухнет до зеленого (фильм «Incredible Hulk»), станет два с половиной или три метра роста, сталь разрывает, как старые тряпки, кротко рыча, проходит через разрушенные им преграды и стены, причем сперва на крупном плане — сильно разбухающие мускулы рвут в лохмотья фланелевую рубашку. Жалко рубашку, и я не знаю, откуда он сразу же берет следующую. Или он же изображает фокусника и превращает наручники в носовой платок. И, кроме того, вечером все стреляют во всех, густо падают кровавые трупы, и все это изрезано рекламой. Реклама просто чудесная: какие-то пальмы, юг, прекрасные девушки целуются с очаровательными юношами и сразу отправляют в широко улыбающийся рот макароны, суп с пирожками, кока-колу, зубную пасту, помидоры, марципаны, мороженое, а также — электробритва самонаклоняющаяся и настоящие бумажные полотенца. После чего опять падают трупы, ибо стреляют гангстеры или модные сейчас женщины-убийцы без жалости и без трусиков. Только книг и чего-нибудь печатного как-то не рекламируют. Зато бюро путешествий и банки, банки, кредитные карты, а также ссуды — наоборот. Этого много, и современность разнообразна, но трупов масса. Отдельно сериал с господином доктором, ни один врач не имеет такой врачебной привлекательности, как этот актер. Happy end пропал не знаю, как давно, прекрасные девушки, женщины с раком (casus inoperabilis[373], inop сокращенно) мрут понемногу, врач их сопровождает, музыка, гроб в цветах, при таком докторе и умереть приятно, кровати, операции, жидкость из висящей бутылки, то есть капельница, инструменты и вновь труп. Как-то с трупом обратная связь происходит постоянно. И SF. «Star Trek» человекообразный и рисованный: все в цветных блузках, которые никогда не надо стирать (и в самом деле не стирают), никому в туалет не надо (и в самом деле не ходят), кнопки нажимают, и разные страшные чудовища, извергающие огонь, их атакуют, но ничего не будет, режиссер не позволит, он должен жить, и требует постоянных доходов, и это меня успокаивает, потому что Найт Райдер весь в прекрасных завитках, без оружия, c гангстерами справляется, авто, с которым он ведет разговоры, двигается туда и сюда. И такое на всех сорока программах, а кроме этого есть «Новости» (ARD, ZDF, Sat 3, ORF и т. д.), и в них то же самое плюс мчащиеся авто, плюс столкновения в гармошку (двенадцать или шестнадцать помятых автомобилей), плюс обломки самолетов, спасение, наводнение, тайфуны, все по шею, и опять трупы, ибо IRA, ибо баски, ETA, ибо бомбы, и Израиль, и арабы, и президент Буш, и Ельцин, и русские озабочены избытком свободы при нехватке продовольствия.
И здесь я вдруг вижу, что забыл на своей террасе насыпать пшеничных зерен воробьям и сейчас как можно скорее это сделаю и вновь засяду за всякую всячину. Деррида. Я купил его «Грамматологию» на немецком и ни в зуб, причем сильно. Введение в Деррида. Не справился. Деструктивизм деструктивный и постмодернизм постструктуралистический. Скорее я себе зубы повыламываю. К черту, ничего не пойму, а все в «Encounter» и «NYT Book Review» бормочут! «Деструкция, Поль де Ман». И прамодернизм. И супер. И Сьюзен Соннтаг. Итак, опять, но ничего, хоть и с разбегу и даже бегом. Легче мне было бы влезть на стеклянную гору, пока мне член Академии, очень мудрый пожилой человек, не объяснил на ухо: «Д. — дурак!». Вот так, просто. Logorrhea[374] и заразил всех во главе с американцами. Ага! Сексизм, «he or she, she or he»[375], да Бог, да Иисус, выше всего Матерь Божья. Соглашусь. Пасторы в воскресенье в проповедях наводят скуку. К счастью, по-английски: ничего не понимаю. Без иллюстраций. И иногда, но редко, красивый кусочек какого-нибудь музея, Египта, культура, часто в австрийском издании, ибо им приходится, потому что они должны. В общем, очень утомительно. Будто я не подгоняем, не принуждаем, и добровольность преобладает, но, с другой стороны, стопки «New Scientist», «Scientific American», «Природы», но я уже выбился из сил и сажусь, и загорается экран, и трупы в свежем состоянии, потому что опять бой или (сейчас, когда пишу) Олимпиада, и я думаю, господи, ведь у этих несущихся, катящихся конькобежцев повыскакивают диски из позвоночника, ибо они несутся, сложенные пополам, так долго, и так им или другим дьявольски важно, чтобы мяч попал в ворота или на теннисную ракетку, что, впрочем, весьма разумно, ибо за труд всей жизни перед похоронами (мертвых не награждают) можно получить Нобелевскую премию, а за эту ракетку или за меткий удар — и три, четыре раза столько же. Легче докопаться до миллионерства, чем дописаться: писать вообще не стоит. Особенно теперь количество написанного и по библиотекам, наполненным книжно-бумажным потопом, должно призвать к осознанию ситуации. Единственно этически правильной вещью, хорошим поступком, поступком писателя будет удержать вдохновение, приостановить или перестать что-либо писать. Ни напрасно мудрить, ни, Боже упаси, сложно фабулизировать, мастерски. Повествование резать на ломти и из них склеивать высшую, современную бессмыслицу. Нет и нет. Боже упаси, и сначала — публику, хотя она сама защитится, читая исключительно вздор. Нельзя никому запрещать ни докторов с медсестрами, ни Садов Любви (черт бы ее не побрал), ни палеовьетнамскую кухню (нога в соусе bernaise, не важно чья), ни миллиардеров, беззакония, ничего, включая дивно украшенный и оплетенный цветами зад Марыни. Это так. Закрыть, но дать понять. Кратко, с иллюстрациями или лучше на кассете, молча. Звуки оргазма с диска. Впрочем, CD — это уже порно. Нам не надо, самое большее — RTL plus для мужчин — мужской журнал в субботу, но я предпочитаю в эту пору спать!
СПОКОЙНОЙ НОЧИ!
СильВИческие размышления IX: Читаю Сенкевича[376]
Читаю Сенкевича. И поскольку я читаю и читаю его с гимназических времен, знаю, или скорее со временем узнал, как нужно его читать, чтобы получить удовольствие.
Упаси Боже, по порядку, от «Огнем и мечом», от первой страницы до последней. Если пойти на такую глупость, ждет неизбежное поражение, как в известном очерке Гомбровича («Сенкевич», включенный в первый том «Дневника»). Все непоследовательности, неровности, шероховатости, вся деконструкционная слабость формы вылезет, как швы в вывернутом наизнанку фраке, и уже ничто, кроме языка (а это есть и останется памятником, отлитым из прекраснейшего польского языка, какой мне вообще в жизни довелось узнать), всего не исправит. Тогда одной пылью покроются осадные пушки, направленные в сенкевичевскую грудь, которые Гомбрович наладил, взяв под прицел легкую красоту добродетели, оборону Ченстоховы, марионеточную ради женских добродетелей, особенно напряженное пересечение бесчисленных «случайностей», благодаря которым не важно и то, что «Бар взят» и что Богун Елену в Валадынке для себя на десерт оставил и, наконец, даже княжеским медиком сваренные отвары, предназначенные для Оленьки, в ход не пошли, благодаря чему Богуслав ровно во времена оны атаками был свален с ног, когда, будто медведь бортовым медом, решил утолить жажду.
Я не смеюсь: в самом деле, совершая над Сенкевичем (то есть tout court[377] над «Трилогией», ибо, кроме рассказов, об остальном говорить не буду) говенья, я делаю это осторожно, проникая в роман таким путем, который я выбрал, чтобы он меня захватывал, а это очень легко. Забираюсь внутрь чаще всего через «Потоп», а через «Пана Володыевского», само собой, никогда; и сцены в Кейданах бывают моим началом, или post raptum puellae[378] поединок пана Михала с Кмитом; если так сюда вломиться, то можно уже снести то необычное и совсем нечеловеческое благородство, оказанное Кмиту раненному в постели, когда ему милостивый государь Володыевский вручает королевскую грамоту князя на Биржах.
Потом уже легче, с Кемличами в Ченстохову, но упаси Боже — до ее защиты: это было бы так, словно после знаменитого торта «Prinz Eugen» (кондитерская на углу Operngasse в Вене) сыпать себе в рот сахар мешками. Чего слишком много, то не на пользу, и также последняя глава «Имени розы» Умберто Эко называется (перевожу с листа, поскольк не знаю польской версии): «От излишка добродетели побеждают силы ада». Таким образом, петляя по «Трилогии», копаясь в строчках, я вхожу и на территорию «Огнем и мечом». Можно насладиться бессмертностью этого произведения, разумеется, не как следствием его фокусничества или искусственности. Легионы спецов, которые вылили ушаты чернил, чтобы доказать, что с историей не согласуется, слегка согласуется, антисогласуется, недосогласуется, мешает, лжет, сумасбродничает и т. д. и т. п., поступали одинаково разумно как и те, кто желал эмпирически доказанной, документами подкрепленной и, тем самым, ab ovo[379] воссозданной войны за прекрасную Елену вместе с осадой Трои; кто, однако, научно и историософически, а также археогностически не сошел с ума, тот, помня благородную поговорку Гете о «Dichtung und Wahrheit»[380], заранее был вынужден принять бессмысленность этих усилий. Святой Боже! Даже о численности войск и черни здесь и там спорили, за чубы хватались, Свентоховский доказывал реакционность, Швейковский сказочность, и хорошо, что до фехтования не дошло, тогда бы пал труп, обильно залитый чернилами. Тарновскому же одно удалось на пятерку с плюсом («Огнем и мечом»), второе — на хорошо с плюсом («Потоп»), а Крашевский invidia maxima[381] побужденный, так смешал свои оценки с грязью, что сам себя ею обрызгал и полил.
Я понимаю человеческие слабости, сам человек, но процентное содержание сахара можно подсчитать и указать на этикетке, если соблюдающему диету рекомендовано считать употребляемые калории, а подсчитать процент правды в историческом произведении — нереально: возникает чистый нонсенс. Итак, не расхождения между реальной историей обороны Ченстоховы и этой супермонахомахией ксендза Кордецкого засоряют чувства, глаза и разум, но именно то, что можно писать сказку и можно вести за поводья реалистическое произведение, но нельзя начинять романы сказками, а сказки — реалиями: допустим, представлять, что волшебница действительно бросила гребень, который превратился в дремучий лес, но уточнить: так как у нее была перхоть, то бор возник, полный цветочного пуха! Это должно повеселить, но ведь не в том дело, чтобы мы затряслись от смеха, если из осады монастыря возникает что-то в виде осады Сталинграда, перенесенной в давние времена. Надо знать меру, и это важно. И только читатель, дьявольски опоенный князем Богуславом и необыкновенной, ибо неописуемой, красотой Оленьки, как и сабельным искусством пана Михала, сможет под конец даже эти излишки пагубной добродетели глотать, как гусак шарики, с Заглобой во главе, который чем был старше, чем больше был придавлен тяжестью жизни, тем более храбрым становился: одним словом, когда нас загипнотизируют, мы поверим всему. Напрасно Гомбрович такие термины, как «фокусник и обольститель», «повар, готовящий суп из всего самого яркого», преподнес нам для принижения полета сенкевичевской саги, поскольку я стою на том, что обольщать, творить волшебство, пленять магией слов, а также готовить пищу для духа из всего самого яркого — это настоящее искусство, ars magna[382]. В самом конце в душе возникает фатальное подозрение, что к варящейся в котле волшебниц (здесь пояснению место нашлось бы: чьи волшебницы и что варят) зловредной и скверной крови создатель «Транс-Атлантики» примешал также и зависть. Потому что никто на этом поле не сможет тягаться с вооруженным и одетым в броню гусарского польского языка паном Генриком Сенкевичем. Разумеется, критиковать, сравнивать, в отварах, основанных на источниках, стирать можно каждому, кто умеет, и сколько влезет. Но с удовольствиями от чтения по моей извилистой тропинке это не имеет ничего общего. Абсолютный нонсенс, как если б кто-нибудь хотел выявить эмпирически «диверсионность» в греческой мифологии (благодаря ее контрдействительности).
Одним словом, выше я выдал себя чувством, которое, впрочем, в худшие времена, когда я пребывал в Вене из-за военного положения, поддерживало меня, и более того, я считал, что Фолкнер, сославшийся на «утешение сердец» как на достойный девиз, вовсе не ошибся и не впал в глупость, поскольку «Потоп» все-таки о том, что из несчастья, даже всех охватывающего, можно выбраться собственными силами, и об этом шла речь (по крайней мере в моем понимании). Возможно, это было плацебо, а, возможно, и чудодейственное лекарство, возвращающее здоровье: результат был таким же, а химико-лексикографический анализ я не проводил. Разумеется, моя вера в различных героев «Трилогии» была (ибо должна была быть) разной. Больше всех прав был Прус, ибо Заглоба, сначала похожий на кабана, затем окрылился, если сначала старик струсил, то потом уже нет; пана Подбипятку я всегда считал героем, перенесенным из геркулесовых сказаний, и также Прус, сравнивший Скшетуского с Иисусом, был одушевлен здравым смыслом, но и опять то, что нас пленяет и поражает как целое, остается в дальнейшем намного могущественнее, чем строительные элементы, и в этом кроется тайна. Никто в этом у нас с ним не сравнялся, даже и «Сенкевич в юбке»[383], абсолютно никто: это не аттестат зрелости, только суть, выжатая или дистиллированная из моих размышлений о Сенкевиче в течение шестидесяти лет. Ведь не язык Пасека, и не язык Жевуского, а просто чистейший язык может быть дистиллятом и делией, подшитой латынью: если кто-то желает, скажу проще: если бы фальсификатору удалось — не важно из чего — вытопить такое золото, которое не является, собственно говоря, золотом, но его никаким методом или способом не удается отличить от подлинного драгоценного металла, то такая фальсификация стала бы волшебством, на котором основано настоящее искусство. Сейчас оно создается скорее, в тавоте, в навозе, в чудовищах, в трилобитах (Лебенштейн, наверное, рассматривал палеонтологические атласы, что notabene нисколько не умаляет его достоинств), в пятнах, в бесформенностях по разным осям, в графике — особенно многоцветной — хаоса, авторами которой являются компьютерные программы и которые больше чем на голову выше уже измученного человеческого воображения, но я — здесь скажу то, что меня уже окончательно погубит и предаст вечному позору — предпочитаю «Потоп» (но только по протоптанной мной тропинке чтения) «Одиссее» и «Илиаде», не из-за взвешенного и обдуманного вывода, а из-за чисто поведенческого наблюдения: а именно, что я хочу возвращаться к «Трилогии», а к Гомеру — меньше. Подход Каннеберга… ах подход! А Свено… и так далее. В редакции «Tygodnik powszechny» 1945-го или 1946-го года Ясеница и Голубев могли изъясняться одними цитатами из «Трилогии»… и то, что они незабываемы, никакими мельницами никаких критиков в прах размолото быть не может.
Для меня удивительным было то, что ужасы «Трилогии», ее битв, ее насилий, этого пошаливания с девицами, которым потом камень на шею — и в воду, эти лужи застывающей крови, и затхлый смрад побоищ, и груды трупов — что это все, такая масса страшных смертей, принималось Гомбровичем за вид малинового сока, за какие-то десерты, ибо никого нельзя этим ужаснуть, и никто не дрогнет перед припекаемыми голыми людьми на бревне — будто речь идет о театральной декорации. Поэтому такой способ описания, который отдает правде то, что правде принадлежит и, несмотря на это, не ужасает и не вызывает тошноту — я считал результатом мастерства. Пускай же кто-нибудь другой попробует, но так, чтобы не становилось плохо — теперь ведь натурализм в моде, и в этом я усматриваю больше порнографии, чем (за одним единственным исключением) во всем Сенкевиче. Эксперты говорят, что он был немного педофилом (ибо его женщины во главе с Басей и Анусей были похожи на девочек, и даже не надо обращаться к «В пустыне и в пуще»), а также и садистом; свидетельством, к сожалению, являются посаженный на кол Тугай-бей Азья и беременная Евка Нововейска, а как финал — турецкие гаремы.
Но этой страницы нашей давней истории все избегали, как заразы, и я это понимаю, ибо некоторые восточные, азиатские, татарские черты некоторых земляков и особенно землячек могут навести на размышления, но это уже ничего общего не может иметь с «Трилогией». Мне также кажется странным, что наступило время, когда в моду вошли ужасы, а ведь, будучи пограничной территорией, мы имели возможность, к сожалению, наблюдать результаты татарско-турецких набегов среди белоголовых привислинских или скорее заволынских жителей. Но о конструктивном методе «Трилогии» я писал уже много-много лет назад в «Философии случая» и не намерен ни повторять написанного, ни развивать его, потому что копаться в делах даже и смягченных через исторические расстояния, но кошмарных, не считаю нужным, а если честно — не терплю.
Когда-то, но это было давно, я намеревался написать о Сенкевиче как авторе «Трилогии» книгу под названием «Фокусник и обольститель»[384], взяв определение из очерка Гомбровича, однако этого не случилось, ибо, честно говоря, просто не сумел: и я не очень верю, что ценности, выходящие за пределы Дюма, какой-нибудь переводчик смог бы взять из «Трилогии» и перенести в пространство другого, будь то немецкого или английского языка. Добавлю, но не как результат исследований, а просто как на первый взгляд, что «Quo vadis?» я воспринимаю так же, как французы, как ужасный китч, но почему — об этом уже предпочту умолчать.
Сильвические размышления XXIII: Archeologia cyberspace[385]
1. В целом я придерживаюсь золотого правила, что писатель не должен вступать в дискуссию со своими критиками, но ведь правила подтверждают исключения. Хотя о моем творчестве больше писали, ограничиваясь беллетристикой, называемой в США science fiction, я повторю одно: пожалуй, чаще всего писали женщины, чем мужчины. В этом я могу ошибаться хотя бы потому, что никакой разведывательно-информационной службой я не располагаю и могу читать (о себе) то, что мне кто-нибудь пришлет, а это ведь должно быть написано на известном мне языке, здесь — английском. Чтобы еще сузить рассматриваемое поле, я, возможно, ограничусь примерами, которые когда-то появились в виде переводов в издательстве «Wydawnictwo Literackie». Две ученые дамы писали обо мне много, широко и, собственно говоря, по-научному, обе были специалистами по английской филологии, из-за чего у них встречались промахи, потому что в аналитическом азарте они забывали или не обращали внимания на то, что имеют дело с переводами, а не с оригинальной писаниной заморского автора. Зато они проявили превосходную начитанность в этой якобы философской литературе, которая достигла столь больших высот в Штатах, то есть они прикладывали мои тексты к различным лаканам, фуко, даже затронули Дерриду и последователей таких знаменитостей. Поскольку я считаю доказательства Лакана псевдонаучной болтовней, или так называемой чрезмерной компликаторикой (хотя очень модной), то и похвалы, которыми я был отмечен по-американски, показались мне мало полезными. Однако просто хорошее литературное воспитание и обычная застенчивость сделали невозможным для меня отбросить лавры, которые мне не принадлежат: ведь я не могу объяснять, что учителей этих ученых дам (кроме избранных отрывков) я никогда не читал, приняв их мудрость за дутое бесплодное мудрствование, из которого ничего (кроме славы для них) не следует, слава же — вещь мимолетная. Я же пишу не для того, чтобы придираться к неполагающимся мне почестям, а потому, что в Германии появились работы, которые дали мне возможность подумать над тем, что я, собственно говоря, делал неполные полвека. За мои работы меня включили в новый философский словарь, из чего следует, что философ, который меня туда включил, меня тоже считает философом, однако это не совсем верно. Прочитав его толстую книгу, я в конце концов пришел к убеждению, что проще всего будет сказать, будто он видит во мне личность, проектирующую нечто, что должно называться философией будущего. И не столько облаченной в костюм сюжетной science fiction: скорее, эта science fiction более science, чем fiction, составляет (Джон Кемени) область моделирования того, что в определенной, с трудом выделяющейся из моих сочинений, мере означает простор семантических десигнатов, который еще не заполнен, т. е. пространство виртуально возможно для заполнения. Таким образом, не сказать ли просто, что я проектировал предсказания, которые отчасти уже успели сбыться? Однако немецкий автор (Б. Грефрат) утверждает, что это было бы недопустимым упрощением. Так удачно сложилось, что в Германии оказались все мои труды, и даже больше книг, чем я написал, поскольку так как они быстро продавались, некоторые издатели делили их надвое, а уже эссе, которых никогда в виде компактных печатных изданий в Польше никто не печатал, появились на немецком в трех томах (это не значит, что все, поскольку я жив и пишу дальше). Таким образом, что же должна была означать эта достаточно загадочная «философия будущего»? Тождественна ли она подсказанной мною тридцать два года назад «Экспериментальной философии»? Это как раздел в «Сумме технологии». Но и это не так. К сожалению, поскольку вопрос имеет привкус дилеммы к формированию содержательного предела определения я буду приближаться медленно.
2. Сначала я позволю себе еще достаточно неопределенное наблюдение, что именно то, что я писал как дискурсивное («Философия случая», раньше в «Диалогах», потом в «Фантастике и футурологии», а также в приложениях к очередным изданиям этих книг), так и беллетристическое (отбросив произведения, возникшие раньше всего «ради хлеба», как «ad usum delphini»[386] — я здесь имею в виду в первую очередь «Астронавтов»), то, что я писал в обоих этих жанрах, не всегда предполагало какие-либо прогнозы (я был скорее принужден данным сюжетным ходом и рамками повествовательного фона к разнообразному заполнению пустой сцены объектами, каким-то образом «подходящими» ad hoc[387] к выстраиваемому «миру» — но и не только к «будущему»). Собственно говоря, то, что возникло таким способом, никогда не подвергалось рецензентами «испытаниям на выносливость», на достоверность, на какой-нибудь веризм. Проще говоря, никто в то время, когда появлялись отдельные книги, не допускал мысли, будто бы я не только просто представлял себе миры или существование в этих мирах, возможное для достижения (скажу вновь по-модному — «виртуальные» миры), но все это трактовалось как лучше или хуже выполненный развлекательно-фантасмогорический продукт, который ни с каким видом «technology assessment»[388] не породнится, а точнее: с тем, который может быть, и который может вызвать превосходные и одновременно кошмарные последствия, породниться наверняка не сумеет. Я здесь стараюсь просто объяснить, что то, что было как бы чисто поверхностной фабулой, бывало прочитано как просто фабула «типичной» или «не очень типичной» SF, а чтобы там что-то могло крыться такое, что будущее осуществит в своем развитии, и что, возможно, даже земную жизнь поставит на дыбы, повернет, перевернет подобно тому, как расщепление атома перевернуло чувство, позволяющее более или менее отличать жизнь от апокалипсиса — это никому даже не пригрезилось. Попробую еще иначе, ибо здесь собака зарыта.
Представьте себе зал Сорбонны XVIII столетия и кого-то непрошенного, взобравшегося на кафедру и говорящего о джамбо-джетах, о hardware и software[389], о виртуальном пространстве (тут уже от своей фантомологической терминологии я вынужден отказаться, потому что мир меня одолел и раздавил мое первенство). Кто из слушателей будет в состоянии понять, что это никакие не сказки, а тезисы преподавателя об измельчении онтологии как философской категории «техникой», можно ли это вообще через мгновение как-то объяснить всерьез? Скорее всего этого самозванного проповедника выкинули бы за дверь почтенного заведения, а если бы на улице он болтал по-прежнему (так же, как я продолжаю болтать), то воспитанные люди обходили бы его, замкнувшись в своем благоразумном молчании. Ведь так было. В лучшем случае я мог бы быть замечен польским философом, который достаточно мягко со мной обошелся, ибо ни к какому позорному столбу меня не ставил, только с усмешкой пренебрег и объяснил мне (вслед за Мерло-Понти), что в философии ни после каких-либо научных открытий, ни после революций ничего не может измениться ни на волос. Таким образом, благодаря упомянутому немцу, я теперь вижу, что если говорить с абсолютно любой серьезной детальностью о том, чего еще нет нигде, и о чем ни один серьезный авторитет как о бытии осуществимом нигде с уверенностью не говорит, то вся эта речь оказывается болтовней через закрытую форточку для китайского народа, болтовней, коротко называемой пустословием, и все. И только когда из бездны небытия начнут потихоньку, по частям, смутно вырисовываться первые контуры того, что, как фантазматы, было принято отрицательно, признают, что то, что вырисовывается, действительно существует, и даже наделят это (вынужденно) новыми названиями, например, «виртуальной реальностью», но о той хромой собаке не вспомнят. И опять: речь не о том, что не вспомнят, и что тот, кто залезал на кафедру, был не выслушанным прогностиком или непризнанной Кассандрой. Дело не в этом, ибо речь идет не о каких-то изобретениях вроде, например, самолета братьев Райт или телефона Эдисона.
О таких возможных объектах говорила футурология, и это либо сбывалось, либо нет. В то же время «философия будущего» как любая «обычная нормальная» философская системная школа должна иметь разделы: онтологию, эпистему, а также этику. И потому толкования должны показывать онтические, познавательные и, в конце концов, этическо-моральные последствия, как производные изменений, которые в момент их объявления нисколько не были для всех вероятны. Более того, они не могут быть даже поняты, не могут быть приняты за высказывания, которые, быть может, в другой форме, но в самом корне похожи на тождественности, и могут исполниться, причем быстрее, чем думает тот, кто их родил в своей голове и хочет ими попотчевать других. Словно все уже было сказано, но ничего не было понято, следовательно, ни за прогноз возможной фальсификации, ни за логическое доказательство определенной «невозможности реализации чего-нибудь» не могло быть принято.
3. Пригодилась бы пара примеров. Итак, сначала, сорок лет назад, в первом разделе моих «Диалогов» я представил в виде диалога доказательство невозможности «телеграфирования человека» (о чем еще наполовину шутливо, под чисто информационном углом упоминал Норберт Винер), и тем самым невозможности личностного продолжения умершего благодаря восстановлению «из атомов». Поскольку профессиональные философы уже сейчас занимаются такими проблемами в США и в Англии, мой немец привел их выводы, вспоминая о моем первенстве: теперь это уже серьезное дело, а не, как говорил польский философ, какая-то бессмысленная навязчивая идея. (Что попросту значит, что, если бы кто-то не из числа экспертов в математике сто пятьдесят лет назад сунулся куда-то с бесконечными, бесчисленными и еще сверхбесконечными множествами, то вместо лавров получил бы по шее от швейцара учебного заведения и вылетел бы за его двери с надлежащим ускорением: ведь даже о теории Кантора спорили, и спор продолжается до сих пор). Я же писал о «фантомологии», но также никто не отозвался, словно я это заявил на санскрите, и последствия, которые я провозглашал уже в форме производных слов из области этики и онтологии, а также эпистемы, тоже были обезврежены успешным молчанием «экспертов от всего». А когда я написал, что Космос может возникнуть благодаря колебаниям вакуума, это было сказано мною в шутку, пока один физик, то есть знаток дела, независимо (ибо разве он читал SF) не провозгласил то же самое как дерзкую гипотезу. И так далее, господа, а теперь дошло до того, что уже совсем не беллетристический прогноз развития биологии до 2060 года, который я написал по просьбе Польской академии наук пятнадцать лет назад, начал осуществляться. Этот прогноз река истории в Польше унесла в никуда, поскольку, едва я послал его в Варшаву, «разразилась» первая «Солидарность» и у поляков в голове были вещи поважнее, чем пара— и трансбиотехнология, а также биоэтика, все же не надо мне верить на слово. Этот прогноз появился в конце концов на немецком[390] в антологии новелл SF, то есть наихудшим из возможных образом, ибо его никто не заметил (SF — это слово, предупреждающее о большой помойке). Кто желает — но никто не захочет в рыночной стране — может убедиться и сравнить в рамках компаративистики этику традиционную и взбудораженную вторжением во все живые организмы инструментализма, манипулирующего базой наследственности (что породило комитеты «про» и «контра», демонстрации, пикеты, споры ученых и колоссальные инвестиции таких корпораций, как «Gentech», а их уже больше, чем пальцев на руках и ногах, и из области растений, различных там дрожжей и мышей они перенеслись на эмбрионы человека).
4. Я многократно писал о последствиях биотехнологии, и для ПАН, и не для ПАН, дискурсивно и беллетристически, серьезно и гротескно, чтобы кошмар, проиллюстрированный моими образами, как-то подсластить или ослабить, но наверняка и это было излишне, поскольку даже если бы я писал, разрывая одежду и вырывая у себя in publico foro[391] остатки волос, все равно ни одна собака и т. д. ни малейшего внимания на это не обратила бы. Б. Флесснер, в свою очередь, в одиннадцатом томе «Zukunftsforschung»[392] описал «Archeologie Cyberspace», библиографическими сопоставлениями демонстрируя, что едва признанный за открывателя Cyberspace панков Гибсон родился, Лем уже об этом Cyberspace писал, причем не в жанре science fiction. Но имеет ли это какое-либо значение? Философия будущего должна заниматься последствиями открытий, которые не открыли, хотя уже где-то, в какой-то основе науки, они начинают прорастать, и над ними уже стоят инвесторы большого капитала, а мои достижения, предупреждения, предостережения и привлечения гроша ломанного не могут стоить. Надо добавить — это абсолютно типичное, совершенно нормальное положение дел. Тяжелый серый металл, составленный из кусочков в единое целое, превратит города в звездное пламя, развеет на тысячи миль невидимую смерть, отравит необратимо внуков внуков? Ведь еще в первой половине XX, все еще господствующего, века легче было бы поверить в «Сезам, отворись», в волка, что съел бабушку, в Золушку, не так ли? И аналогично обстоит дело с тем, что кто-то будет на Луне ударять клюшкой для гольфа мячик для гольфа. Таким образом, вся эта все еще не признанная философия будущего должна готовить человечество к тому, что будет с его судьбой, то есть с ним самим в XXI веке и в третьем тысячелетии, но она абсолютно не подходит как поле для возделывания отшельнику, не понятому, читаемому, конечно, но так, словно он старался сигнализировать о прелестях и опасностях какими-то невыразительными способами мима, или же просто был полностью нем. Философия будущего — это предмет, не преподаваемый нигде: зато — удивительное дело — я признаю: где дрова рубят — там щепки летят: так вот щепки, в форме придурковатой и бесплодной SF летят, но дров нигде увидеть нельзя. В последнем номере «New Scientist» я читал восторги по поводу оригинальности автора, который придумал жителей звезды, прогуливающихся по ее поверхности, ибо хотя это и невозможно, но всегда ново и свежо придумано. Играйте дальше, детвора, такими игрушками воспаленного воображения — может, вас когда-нибудь, в конце концов, посетит звездный огонь на Земле.
Postscriptum. Не знаю, может ли то, что я произнес о философии будущего, дать о ней даже самое малое представление, поскольку без моделей, пригодных к осмотру, без конкретных понятий такое достояние легко размывается. В новейшей работе, направленной в сторону приближающегося столетия, под названием «Preparing for the Twenty First Century»[393] историка П. Кеннеди действительно сообщается об определенном развитии и технических инновациях. Автор, например, представляет численную популяцию индустриальных роботов и строит выводы об их прибавлении, но такие инновации он рассматривает отдельно. В то же время происходит так, что «количество переходит в качество», и таким образом можно предположить, что полное отличие «технологий человека» от «технологий жизни»[394], антиподальное зияние между биоиндустрией жизни и нашей промышленностью окажется понемногу закрыто. Как? Роботы не будут только заменять людей! Роботы уже теперь могут значительно ускорять процессы генетической инженерии, сегодня благодаря им прочтение и «составление» генов движется в десятки раз быстрее, а помчится в тысячи раз быстрее, чем это могут сделать люди в лабораторных биореакторах. Сегодня все трясутся над fertilisatio in vitro[395], а в будущем это станет таким анахронизмом, как сто пятьдесят лет назад постулат, что по железнодорожному пути перед поездом должен идти человек, машущий красным флажком, чтобы предупредить толпы, которые без этого, вероятно, умерли бы от страха. Сегодня с угрозой связана мысль об интеллекте машины (deus ex machine[396]), а мысль о подчинении экономики, в ее крупных отраслях, компьютеризированному управлению кажется нонсенсом, «ибо люди должны стоять над всем в управлении, как в политике», но сложность необходимых для комплексной координации тенденций в стабилизированной экономике с внечеловеческим ускорением вынудит к передаче власти машинам. Не знаю когда, и не знаю в каких пределах. Знаю, что возникнут как бы отдельные звенья, соединения которых вызовут возникновение социально новых выгод и коллапсов, о которых должна бы позаботиться Философия будущего, поскольку наше бытие уже не будет состоять из обособленных кубиков: здесь кухонный робот, там — музыкальный, в другом месте — производящий иголки. Как появлялся век пара и электричества, так появится век биоинформатики, и, возможно, рынки затрещат по всем современным швам, поскольку нет уверенности, сможет ли подремонтированный капитализм удержаться на волнах таких мощных преобразований: зато эта моя «Философия» совокупными сценариями могла бы распознавать очертания изменений и переломов, хоть и в тумане. Может, теперь вопрос становится все более ясным, и связи с SF понятны.
Сильвические размышления XXXII: Мой роман с футурологией[397]
1. Так называемым исследователем будущего я стал, сам того не желая, и даже бессознательно. Оглядываясь сегодня назад, я примерно вижу, как это произошло. Прежде всего, когда я начал заниматься тем, «что еще возможно», ни о какой «футурологии» я ничего не знал. Не знал этого термина, и таким образом мне не было известно, что именно такое название придумал в 1943 году О. Флехтейм. Чтобы проверить эту дату, я заглянул в словарь Мейера и узнал, что Флехтейм делил свою «футурологию» на три части: прогностику, теорию планирования и философию будущего. Мне кажется, что я понемногу пробовал силы во всех этих разновидностях одновременно. Признаюсь, удивительно заниматься довольно долго, довольно детально и довольно невежественно чем-то, о чем вообще неизвестно, что это такое. Допускаю, что когда первый прачеловек начал петь, он не отдавал себе отчета в том, что это пение. Но было именно так. Поскольку в настоящее время многое из того, что я представлял себе о будущих свершениях человечества (и будущих несчастьях) уже сбылось (абсолютно неожиданно для меня), могу также, во избежание упрека в хвастовстве, говорить о себе менее лестные вещи. Так называемая «тяга» была у меня, пожалуй, с гимназической скамьи. В книге, посвященной моему детству («Высокий замок») я описал, например, мою «изобретательскую деятельность», когда мне было около тринадцати лет. Тетради я заполнял рисунками ползающих, летающих машин и даже служащих для более легкого поедания вареной кукурузы, поскольку интересовало меня все. Тот период изобиловал и другими видами более фантастических занятий: во время скучных уроков я создавал из бумаги, вырезанной из школьных тетрадей, удостоверения для императоров, королей, оформлял вручение различных сокровищ, драгоценностей, а также разные пропуска, дающие право на вход в глубь Очень Тайных Хранилищ, у меня были их целые стопки. Быть может, таким было зарождение моего позднейшего литературного творчества — не знаю. Вообще собственной персоной я занимался очень мало: меня интересовали скорее ответы на вопросы «почему?», и такими вопросами, сколько себя помню, я мучил дядей и отца. А из школы, из класса я мысленно убегал как можно дальше — далеко в прошлое, но не в то, из учебников истории, а древнее, в котором кишели динозавры (у меня были книги о них, я был пожирателем всяких книг, даже словаря Брокгауза за 1890 год), и, кроме того, я рисовал таких чудовищ, которые никогда не существовали, но, по моему мнению, должны были существовать. Таким образом, я уносился воображением в другие времена и другие миры, и хотя понимал, что это только «игра ради игры», я оберегал эти мои секреты. Однако нельзя называть детские чудачества началом «футурологической деятельности». Все же, когда после войны я обосновался с семьей в Кракове, то, что я начал писать, изучая медицину, не было только плохой science fiction.
2. Моим вылазкам в будущее серьезную помощь оказала коммунистическая власть, поскольку (вместе со всей Польшей) я обязан ей полной изоляцией от Запада, а значит — и от литературы в мировом масштабе. Я не только не прочитал до 1956 года ни одной книги из жанра science fiction (кроме Верна и Уэллса: этих я узнал перед войной во Львове), но не имел также доступа к научным трудам — за одним исключением. А именно: психолог доктор Хойновский основал в 1946 году Науковедческий лекторий, и я каким-то образом стал в нем младшим сотрудником. Хойновский обращался в научные центры США и Канады за научной литературой для истощенной немецкой оккупацией польской науки. Эти книги приходили целыми пачками, моей обязанностью было распаковывать и рассылать их по почте в университеты по всей стране, а поэтому то, что меня заинтересовывало, я просто забирал домой, читал ночами, а на почту отправлялся на следующий день. Таким образом я познакомился с кибернетикой Норберта Винера, с теорией информации (К. Шеннона), с трудами Джона фон Неймана, которые произвели на меня огромное впечатление, с теорией игр и так далее, а поскольку английского я не знал, то был вынужден читать со словарем. Скоро, однако, чтение перестало меня удовлетворять: на его фундаменте я начал строить собственные концепции. Сначала я придумал «воскрешение человека из атомов», которое казалось мне возможным, раз уж каждый из нас состоит из атомов, после смерти их следует собрать и восстановить организм. У епископа Беркли я позаимствовал его участников дискуссии, Гиласа и Филонуса, и приказал им это восстановление исследовать. Пан Освенцимский, один из ассистентов Науковедческого лектория, которому я показал написанное, пытался опровергнуть мой конечный вывод (что построенный из атомов человек не может быть тем же, что умерший, а самое большее таким же, то есть копией, как бы близнецом). Он каждый день приходил с новым контраргументом, который я отражал, и таким образом появился неожиданный и внепланово отшлифованный первый раздел моей книги под названием «Диалоги». Я написал ее в 1953 году, когда Сталин еще был жив и об издании (поскольку я доказал множество будущих новых возможностей в кибернетике, которая официально считалась «буржуазной лженаукой») не было и речи. Впрочем, с прогнозами будущего было глухо по той довольно простой причине, что будущее уже было с наибольшей точностью предсказано в виде коммунистического рая, к которому — как евреев к Земле Обетованной вел Моисей — вела нас коммунистическая партия. Однако меня это как-то не удовлетворяло и не интересовало — я писал свое. Благодаря «оттепели» в 1956 году стало возможно опубликовать «Диалоги», но поскольку никто в издательстве не знал, о чем эта книга и что она значит, на обложке художник нарисовал сцену, а на ней лестницу и две брошенные туфли.
Параллельно я писал также SF, которая уже пользовалась некоторым успехом, но о ее роли в моей «футурологической работе» я пока умолчу. Мое мышление было удивительно раздвоенное: случается ведь, что кто-то невольно влюбляется, но чтобы невольно женился и не заметил этого — такое уже редкость. Поэтому теперь обо мне пишут, что такой футурологией, которая вспыхнула где-то в шестидесятых годах (и завоевала читательские рынки), я вообще не занимался. Сначала потому, что о будущем я начал писать раньше, чем эта мода охватила Запад, но еще более потому, что ничего о том, что происходит на Западе, я знать не мог. Несмотря на глушилки, я с трудом слушал «Свободную Европу», но в ней, однако, о будущем не было ничего. Почему в 1962 году я принялся за написание моего opus magnum[398] — «Суммы технологии», — тоже ничего не скажу, поскольку не знаю. Самое точное объяснение звучит так: мне было интересно, очень интересно, что может произойти в будущем. Я не занимался ни политическим будущим мира, ни будущими кризисами, ни демографическим взрывом, а прежде всего всеми возможными инструментальными достижениями. Бэкон ведь несколько сотен лет назад писал, что возникнут махины, способные ходить по морскому дну, летать, видимо, не зная, что философ Карл Поппер считал все предсказания будущего невозможными, но именно к таким предсказаниям я приступил. И поскольку я не имел доступа ни к одному источнику футурологии, я сам был вынужден придумать себе некий образец, некую путеводную звезду, какой-то девиз, ведущий в самое отдаленное будущее, и я сделал то, что немцы называют Aus einer Not eine Tugend machen[399]. Я не хотел, боже упаси, фантазировать, как в гимназии, желал твердой поддержки, или чего-то, что уже есть, и что люди смогут, как технологию, когда-нибудь перенять. Если подумать, это было так просто: растения существуют, животные существуют, и мы наверняка существуем; весь живой мир возник благодаря дарвиновской естественной эволюции. Если Природа сумела, то и мы — такую я выразил надежду — сможем взять ее в наставники и учителя и начнем создавать, как она и даже лучше, ибо себе на пользу. И совокупность моих усилий при написании «Суммы технологии» я направил на детализацию, как это сделать, что из этого получится и как можно «догнать и обогнать Природу». Когда я писал о некой биотехнологии, о генной инженерии, с открытием карты человеческой наследственности («Human Genome Project») было совершенно глухо. Вокруг меня господствовал марксизм-ленинизм, а у меня имелись исключительно издаваемые в Москве, то есть по-русски, труды из области точных наук — астрофизики, дарвиновской биологии (Дарвина коммунисты очень любили), и там были «краденные» книги (например, физика Фейнмана), потому что Москва переводила самое лучшее, но, естественно, никаким авторам ничего не платя. Однако о прогнозах нельзя было даже заикнуться. У меня были большие трудности с ономастикой, с терминологией, приблизительно такие, какие были бы у кого-то, живущего в 1800 году, если бы ему пришло в голову описать железную дорогу: если ее не существовало, то как называть котлы, цилиндры, поршни, аварийные тормоза и так далее? Я был вынужден все выдумывать и называть сам так же, как Робинзон Крузо был вынужден учиться лепить из глины горшки и обжигать их. Я был, словно Робинзон футурологии, и во многом благодарен этому одиночеству, этой изоляции, потому что, если бы я узнал, что когда моя «Сумма» вышла (сразу не появилось ни одной рецензии, только один известный польский философ написал, что я смешал утопию с информацией и что это все какие-то сказочки), а на Западе уже начали появляться институты, такие как «Rand Corporation», «Hudson Institute», а во Франции группа «Futuribles» и т. п., но зная о существовании этого сосредоточения мудрости, подкрепленного системами компьютеров, обладая доступом ко всей мировой литературе, свободой участия во всех конференциях и конгрессах, задавленный такой машиной, я бы ничего не отважился написать. Только подумайте: я, в одиночку, почти из деревни, (с южной окраины Кракова), должен был конкурировать в пророчествах, должен был соревноваться с такими экспертами, которые выбрасывали на читательские рынки один бестселлер за другим, здесь Герман Кан, там Элвин Тоффлер… На мое счастье, о них вообще и о том, какой славой они пользуются, я не имел никакого понятия… Таким образом, изоляция может оказаться полезной. Все же тогда появились целые когорты, отряды футурологов, а когда (уже после какого-то там очередного издания «Суммы») я наконец получил в руки книги с Запада, то мог увидеть точные схемы (ГДР, то есть Восточной Германии Г. Кан предсказал в Европе второе место после ФРГ по росту национального дохода), и когда я увидел эту статистику, эти экстраполяции, эти интерполяции, то очень хорошо понял преимущества моего одиночества… Поскольку Советы через какое-то время распались, ГДР перестала существовать, футурология исчезла с книжных выставок, то появились новые статьи и книги, но не о том, что когда-то там будет, а о том, что здесь и сейчас уже есть, уже существует, уже развивается.
3. Что? Да, принципиальный поворот к биологии, к биотехнологии, к тщательному изучению карты наследственности человека, к открытию генов, отвечающих за самые различные свойства и заболевания; начали появляться мощные консорциумы, как «Gentech» (я не могу их даже перечислить), начали патентовать и запрягать к химико-синтетическим работам разные новые бактерии — я был всем этим очень поражен. И это потому, что я писал в убеждении, равным уверенности, что не доживу ни до чего из реализации моих прогнозов, что то, о чем я пишу, появится где-то в третьем, а, возможно, в четвертом тысячелетии, а здесь на тебе: я теперь не успеваю читать о новых разделах биотехнологии, но и, разумеется, возникающая терминология совершенно другая, чем та, которую я, как Робинзон Крузо, придумал в моей «Сумме». Так, например, появилась уже моя «Фантомология» и «Фантоматика», но называется «Virtuelle Realit t», «Virtual Reality». И таких новых названий с каждой неделей все больше. Конечно, можно предвидеть генеральное направление развития, этому я имею уже доказательства, но чтобы предвидеть названия конкретных продуктов, технологий, инструментов — это было бы уже не предсказанием, а чудом. В чудеса я не верю.
Впрочем, мою несовершенную идею уже обогнал все стремительней ускоряющийся прогресс теоретического знания и его практическое внедрение. Разумеется, именно здесь изложить содержание всей «Суммы» я не сумею, но могу объяснить парой слов, каков был главный фактор, каково важнейшее правило, которое в моем понимании должно было сделать принятую из естественной эволюции жизни наследственную технологию совершенно новой, абсолютно и принципиально отличной от возникшей в течение столетий инженерной практики, конструкторского умения, а также гипотезотворческого мышления людей.
Мы всегда имеем дело со станком и тем, что обрабатывается, с инструментом и сырьем, с долотом и камнем, с изобретениями и созданными прототипами, моделями, а в пределах наивысшей абстракции — с гипотезами и с теориями, которые мы подвергаем тестам фальсификации (этот тест Поппер считал главным, стержневым фактором подлинности наших теорий: то, что вообще нельзя подвергнуть тесту фальсификации, очень сомнительно относительно научной истинности). Так мы действуем с тех пор, как первый прачеловек из кремния, обрабатываемого кремнием, начал высекать огонь, а перед этим создал каменный молот и скребок, и вплоть до космического челнока «Discovery», до спутника, до атомной электростанции — метод в корне остался таким же.
В то же время эволюция, которая сама должна была создать себя из молекулярных хаосов и клубков, не порождает никаких теоретических концепций, не знает деления на обрабатываемое и обрабатывающее, ибо в ней план — это спираль ДНК, составленная из молекул (чего не знаем мы до сих пор — как это ей удалось сделать) в течение четырех миллиардов лет развития жизни на Земле. Впрочем, она наработалась и устала изрядно, если за три миллиарда лет ничего не создала, кроме различных бактерий: многоклеточные существа, растения, животные возникли «всего лишь» 800 миллионов лет назад, а человек появился — в таком масштабе — «только что», каких-то два-три миллиона лет назад. Значит — возвращаюсь к моей футурологии — самой большой моей заботой и проблемой было, сумеют ли люди так необыкновенно ускорить развитие технологии, чтобы догнать то, что эволюция сформировала за миллиарды лет, чтобы за пару сотен лет изучить и овладеть этим искусством…
Таким образом, две вещи я действительно не предвидел. Во-первых, то, что мы сумеем выиграть в этой погоне, что конкуренцию мы начнем выигрывать уже к концу XX века, что это начнется так быстро, так стремительно, что будет осуществляться на столь многих участках биотехнологического фронта. Видимо, в этом смысле я был пессимистом. Зато оптимистом я оказался в другом смысле и в другой сфере: я рассчитывал на прометеевский дух человечества. Не думал, что самые замечательные достижения техники будут использованы для низких, ничтожных, подлых и неслыханно глупых, плоских целей. Что компьютерные сети (я писал об этих сетях в 1954 году) будут передавать порнографию. Впрочем… так ли это? Поскольку меня не занимало только прогнозирование одних технических, биотехнических достижений, то я хотел догадаться, какую пользу от того, что достигнуто, получат люди, общества, и поскольку при обдумывании этой стороны будущих достижений я натыкался на человеческую природу, которая, к сожалению, non est naturaliter christiana[400]… и при этом я пытался мрачным, прежде всего, глупым, но одновременно губительным сторонам природы человека как-то воспротивиться… то не поместил ни в «Сумме», ни в «Диалогах» разделов о «черном» будущем прекрасных технологий. Зато видя, что, если я буду вдаваться в эту «Философию будущего» (Флехтейма), я должен буду признать, что почти каждый вид очень продвинутой технологии начнет неумолимо противоречить всей нашей культурной традиции, с исторически возникшей этикой религиозных верований, нашему образу жизни, защищаемому юридическими ограничителями и социальными табу, а из этих все более стремительных фронтальных столкновений возникнут опасные явления, из-за чего цивилизация станет самоугрожающей… я не взялся за описание таких опасных изменений. Не знаю, не делал ли я это совершенно преднамеренно, н так или иначе я не предсказывал «возможного общества» так же, как предсказывал триумф технологии, перенятой из эволюции жизни. Выходом для меня стала science fiction: то, что было слишком мрачное, слишком черное, я также описал… но в гротескном и шутовском одеянии. Так появился «Футурологический конгресс» (и вышел во многих переводах в мире) — как образ мира будущего, мира, в котором во всеобщем использовании уже не простые наркотики, а такие психотропные средства, которые могут изменять характер человека, личность, которые управляют человеком как марионеткой… но я это писал со смехом и так это было принято. К сожалению, это вы тоже уже найдете на страницах ежедневных газет. Эта «психимическая цивилизация», сокращенно «псивилизация», кажется уже стоит у дверей. Ante portas[401]… Я так же скрашивал это насмешкой, шуткой, юмором во многих других книгах и всегда в сатирическо-сюрреалистической тональности, в противном случае это звучало бы как requiem[402] для технологии, как, как pompe funebre[403], как mene mene tekel upharism[404]…
4. В заключении я должен сделать следующее признание. Я нисколько не был всезнающим пророком техно-творческого взрыва, с прекрасно солнечным аверсом и черным могильным реверсом. Было вовсе не так, словно бы без малого пятьдесят лет назад, сев и подумав, я сказал себе: вот скажу человечеству, что его ждет хорошего и плохого в неминуемо приближающихся временах, но скажу это, отделив хорошее от плохого так ловко, что хорошие новости я будут оглашать важно, с полной серьезностью, в толковых книгах, называемых литературой факта, зато прогнозы плохие, фатальные приукрашу и подам в виде игры, развлечения, объявлю их, прищурив глаза, так, как рассказываются невероятные шутки. Так вовсе не было. Когда я начинал писать, никаких мыслей, сознательно направленных на такой тип писательского творчества, не было в моей голове, скажу осторожно — в моем сознании.
Это разделение, это раздвоение возникло некоторым образом само по себе и только теперь, на склоне моей писательской деятельности, я могу увидеть эту двойную, сложенную как бы из двух половинок совокупность того, что мне удалось передать на бумаге… почти что нехотя, как бы бессознательно, словно мной управляло нечто, во что вместе с тем я сам не верю. Может, это был genius temporis[405], я просто не знаю. Ни о чем больше в части источников всего, что я писал, меня не спрашивайте. Если бы я мог добавить что-нибудь еще в качестве объяснения, охотно бы это сейчас сделал, но не смогу.
Сильвические размышления XL: Мой роман с футурологией II
1. В конце концов надо это сказать. Я наделен Судьбой (теперь называемой генами) даром предвидеть будущее. Это способность, не требующая особого акта воли, напряжения или попросту желания прогнозирования. А что, было бы неплохо. Я предвижу помимо воли. Вот, написал что-то пятьдесят лет назад, и теперь это осуществляется. Я никогда не знаю, осуществится ли или это и когда, однако факт в том, что так происходит. По сути дела, всю «Сумму технологии» я посвятил одной концепции: воплощенные эволюцией жизненные процессы станут учителем и образцом, которым люди воспользуются зачастую ужасным способом. И я дожил до того, что «Artificial Life»[406] и ее производные слова сегодня модны и изучены, и она синтезирована в сотнях университетов. Ясное дело, никто при этом не заметит и не знает, что я сказал это тридцать три года назад, но и это дело нормальное и нечего злиться по столь ничтожному поводу. Вообще я не плыл по течению, особенно в технологии, и разные футурибли и каны ничего о моем подкраковском существовании не знали, и с этим неведением ушли в могилу, но чем и кому это мешает? Разумеется, я не имею в виду ничтожные достижения, какие-то там экстраполяции, как раз напротив. Впрочем, всегда было так, я обратил внимание, что если что-либо из прогнозированного мною невольно становилось реальностью, то кто-то, обычно с ничтожным авторитетом, раньше или позже замечал это и писал об этом, но так, что более влиятельные этого не замечали. Зато то, что я тоже предвидел, но что еще не осуществилось, повсюду (я имею в виду не только Польшу) воспринималось так, словно не существовало и никогда не было высказано, так что в таких случаях я не получил никакого опровержения. Это было нормой, и в последнее время произошли только такие изменения — даже с грубой приблизительностью я не сумею предвидеть, когда произойдет некая инновация, особенно крупного калибра. О сроках, о хронологии я ничего не знаю. Но если это уже произойдет, тогда несколько человек, разбросанных по всему миру, прочитают и поймут, что где-то когда-то я написал (разумеется, не всегда).
2. Однако в таком случае голословность не годится. Поскольку мое «предвидение», касающееся «виртуальной реальности», уже настолько осуществилось, что меня приглашают в Германию на различные научные симпозиумы (никуда не еду и не поеду), другие темы, пророчески затронутые мною, остаются закрытыми для всех, как плод каштана в скорлупе, пока эта скорлупа не лопнет под чьей-то научно-технической ногой. И потому, переходя к конкретике, всеобщий триумфальный крик, что сопровождал рождение сети таких каналов, как Интернет и другие Неты, я тотчас же тут и там прокомментировал уверением, что это будет большой крах, потому что откроется колоссальный простор для нового типа computer crime[407], что это будет территория обманов, воровства, подделок, притворств, перехватов, хищения информации, но естественно, хоры, что пели в честь этой Суперсети и молниеносности всех возможных соглашений, моего мышиного писка не замечали (и не замечают, ибо как я отметил в первой сильве в журнале «Odra», буду писать правду, которая ни до кого не дойдет). А теперь уже множатся статьи, такие как «New Flaws Undermine Security of Internet»[408] в «International Herald Tribune» за 17 октября этого года.
Можно сказать, что все эти кражи, плагиаты и аферы, глобальной территорией которых стал едва эмбрионально зародившийся Интернет, было столь же легко предвидеть, как то, что набитый долларами чемодан, оставленный на скамейке в парке, быстро исчезнет. Я с таким диагнозом (очевидности того, что поразило и шокировало тех, кто уже выкупил акции различных интернетных филиалов) полностью соглашаюсь, остается только вопрос, почему перед выпуском на рынок этих акций и объявлением денежных, молниеносных интересов, а также воровства e-mail (электронной почты) никто не поднял авторитетного предостерегающего голоса. Но ладно, я сказал то, что думал в первую очередь, представление же о том, что с помощью кодирования и шифрования можно защититься от всяческих злоупотреблений, казалось мне в первую минуту по детски простым, как и то, что повсеместное присутствие Интернета в небе среди ангелов не представляет опасности, ибо ангелы, как известно, не склонны к нарушению седьмой заповеди.
3. 9 сентября 1995 года в «New Scientist» (стр. 42) в статье под названием «Losing Yourself in the Net»[409] некий Джон Воузенкрофт описывает (частично рецензирует) книгу Аллюкуа Стоун «War of the Desire and Technology at the Close of the Mechanical Age»[410]. Понятно, что я не могу кратко представить статью, которая как рецензия сама является сокращенным вариантом книги, которую я не знаю, но основной тезис автор подает в кавычках и он звучит так: «Существующий образец независимой личности (sovereing subject) будет полностью подорван нашей нарастающей способностью к приспособлению (to adopt) различных индивидуальностей в виртуальных обществах». Ну а затем автор говорит, что такие тезисы бьют в читателя как шрапнель. И там есть развитие этого главного тезиса. Кто бы подумал, что эта «шрапнель» была выпущена тридцать три года назад в полудеревне краковской возвышенности и что эта честь принадлежала мне: вот цитата из первого издания «Суммы технологии» (стр. 244): «Там, где происходит трансформация личности, индивидуальная тождественность из явления для изучения становится явлением для определения». Затем идет целый раздел «Личность и информация». Шрапнель наконец долетела. Дело в том, что одним из скорее парадоксальных результатов, замеченных мною в 1963 году, должна стать потеря индивидуальной тождественности в пользу «определения», т. е. условного установления, кто где является какой-либо личностью.
Вероятно, вы догадываетесь, что проблема, приведенная как цитата из «Суммы», является одним из производных «фантоматики». Это значит, что виртуальная реальность угрожает неким своеобразным, описываемым мною способом индивидуальной тождественности после соответствующей фазы ускоренного развития технической базы.
Поскольку у меня нет намерения переработать эту пару замечаний в род хрестоматийных выдержек из несуществующего тома под названием «Достижения С. Лема», не буду также играть в производство дальнейших цитат на другие темы. Меня всегда более всего интересовали онтологические вопросы, к которым с уверенностью принадлежит индивидуальная тождественность, но, если кто-то является кем-то, то можно взяться за философствование тезисов; а когда неизвестно, кто есть кто, что может стоить выработанная «им» онтология? Это не эпистемологическая проблема, поскольку эпистема предполагает (implicite скорее, чем explicite) индивидуальное человеческое мышление (любой философ всегда является Кем-то, он не может как Одиссей быть «никем»). По этой причине меня занимали такие вопросы чисто технологического развития, которые якобы издавна атаковали неизменную сферу типично герменевтико-онтичных явлений, представляющих центр, вокруг которого вращается философская мысль. Однако так глубоко, как в «Сумме технологии», ни цитируемая книга, ни другие статьи из множества компьютерно-информационных журналов не заглядывают, и о том, что происходит потенциальный контакт и даже пересечение «по тетиве» фантоматики с доктриной, предложенной епископом Беркли, в этих внефилософски сориентированных текстах нет речи.
4. Как мне кажется, я представил крохотный пример моих частных проблем, связанных с индивидуальным даром «предвидения». Не следует считать, будто бы я заявил, что сказанное мною сразу (или через тридцать лет) материализуется, или словно бы я считал, что прогностически я безошибочен. Это совсем не так, поскольку как через отдельные точки, установленные экспериментально координатами (ординатами и абсциссами), можно провести непрерывную линию на чертеже, которая будет иметь форму некоей кривой (прямая — это особая разновидность «кривой»), так через различные мои прогнозы можно провести сориентированную во времени и пространстве «кривую», которая есть не что иное, как вектор творческих достижений, созданных по образцу биотехнологии жизни. Одновременно с мышлением, потому что всегда кто-то думает, т. е. индивидуальность уже дана и содержится в этом мыслительном молохе, асимптотически направленном к достижению эволюционно возникших умений (и в нас также реализованных).
Возможно, когда-нибудь кому-нибудь захочется извлечь из моих текстов это удивительное явление, основанное на мультипервенстве: я наверняка не буду решать эту задачу, поскольку о ней умолчали бы, как и обо всех ее отдельных, рассыпанных в моих текстах элементах. В России пару лет назад появилось малотиражное апериодическое издание «Тарантога»[411], и там было много обоснований моих прогнозов, но они были перемешаны с эффектами SF, и это следовало бы процедить. Однако сам я до сих пор этого процеживания не замышляю; отмечу только, что дар, которым наделила меня Природа, несколько раздражающий, ибо слишком часто при чтении научных журналов у меня создается впечатление, называемое «le sentiment du dejа vu»[412], которое бывает несколько нервирующим.
Сильвические размышления XLII: Читаю Сенкевича II
Я опять закончил читать «Трилогию». Как обычно, читал «Огнем и мечом», затем «Потоп» с середины и, наконец (вопреки основам), «Пана Володыевского». После чего еще раз взялся за антисенкевичевский пасквиль Гомбровича (из «Дневника») и за книгу Ставара, которая показалась мне удивительно слабой, расплывчатой и, наконец, за сборник Томаша Йоделки разных текстов от Пруса до двадцатилетия[413], в котором трилогия рассматривается с разных сторон. Неудивительно, что Крашевский ее растоптал, ибо invidia[414] — очень типичное чувство для художественного писательства. Удивительно то (ибо я и в «Легенду Молодой Польши» Бжозовского заглянул), что столько было шума об исторической, об историсофической правде, о точности или астигматичности показа князя Вишневецкого, а тем временем множество вопросов, которые больше подходят для критики, как-то оказались обойдены почти абсолютным молчанием. Замечания С. Лема о «Трилогии» в «Философии случая» вероятнее всего не считаются, так как, во-первых, он сам (т. е. Лем) представляет corpus alienum[415] в полонистике (не только от пана Заглобы), а во-вторых, это были замечания обрывочные и хаотичные, они были подобны стеклышкам в калейдоскопе. Умирающий же в настоящее время постмодернизм требует саженных трактатов о «Трилогии», и поэтому в качестве микровклада я готов кратко перечислить только названия соответствующих тем, но не существующих магистерских работ, возможно, даже обеспечивающих уровень докторской диссертации:
1) Ужасы человекоубийства, преступления против христианских ценностей, против прав человека, массово происходящие с первой до последней страницы сочинения при всей его известности, по поводу которой я питаю неизмеримое удивление. Как известно, один гитлеровский палач и лагерный начальник давал сыну ружье, чтобы ради детской утехи он мог с веранды застрелить того или другого узника. Мне это удивительно напоминает фантазию, с какой милая Бася (из Езерковских) Володыевская рубила людей (ибо это были люди) под опекой благородного супруга, а еще говорят, что была она как ангел. Как известно, фехтование — это главное занятие ангелов…
Я понимаю историческую адекватность, но пусть с ней разберется следующая работа:
2) Обилие кровавой лексики в «Трилогии», такой, как «раздавливание» врага (клопов тоже можно давить), сметание (в смысле «смести с поверхности мира, земли и жизни»), насаживание на кол (Азья) и множество другой: словарик возник бы порядочный и опровергнул бы тезис Гомбровича, что здесь кровь — лишь разновидность малинового сока. Если кто-то был в неволе, вынужденный на нашей земле пережить обе оккупации, советскую и немецкую, он, желая или не желая того, насмотрелся убийств, ему эта лексика уже стала бревном в глазу, и нельзя рассказывать при нем о приторной невинности «Трилогии» и ее автора. И поэтому к месту бы оказалась очередная третья работа,
а именно:
3) Секс и его отклонения в «Трилогии». Потому что не только Богун насиловал перевозимую морем похищенную девушку и тут же post coitum[416] (вместе с толпой пылких приятелей казаков) топил в Черном море с камнем на шее. Если вчитаться, то и пан Анджей Кмициц был не прочь, ибо вспоминал, когда защитил от похоти Себепана Замойского Анну Борзобогатую-Красенскую, что если бы не сидящая колючкой в сердце стрела амура, обращающая его мыслью к Оленьке, то «пошалил» бы, как это делал с благородными компаньонами. Таких отрывков, после которых читатель прослезится, множество. Ведь Азья не только Зосю Боскую, Эву Нововейскую похитил и по приказу продал или дал продать в каком-то Стамбуле, а, как пишет пан Генрик, около ста молодых женщин вместе с ними там же было передано на коммерческих условиях. А если некий липек не хотел перепродать удерживаемой для наслаждения пленницы, то казнил ее, будто бы от любви. И такого в «Трилогии» можно нащипать достаточно и даже составить целый сексологический словарик. При этом отмечу, что по скромности своей ограничусь здесь тем, что можно в «Трилогии» найти буквально, и поэтому не обращаюсь к Фрейду, чтобы объяснить предположениями, какое значение здесь имеет насаживание на кол Азьи, ибо это отдавало бы некоей (пусть даже и фрейдовской) произвольностью. Сейчас нет необходимости множить щекотливые моменты в современных женских романах: видно, что и у классика можно поучиться. В «Трилогии» нет буквальной генитализации, но есть множество подшитых отклонениями и похотями «аффектов» и сцен; Сенкевич должен был держать князя Богуслава как жеребца-скакуна на канате, иначе плохо бы пришлось невинности панны Биллевич. Это все я говорю, имея в виду имплицитные намерения, поскольку Сенкевич как только мог (в соответствии с духом времени должен был), эти ингредиенты подавлял и предохранительно маскировал.
И совершенно о другом была бы уже работа номер четыре:
4) Погрешности и ошибки относительно возраста действующих лиц; так, например, о матери пани Боской говорят «старуха» — значит, по тем временам она должна была приближаться по меньшей мере к пятидесяти; зато пани Эльжбете Селявской, около которой уселся Володыевский, лет сорок, и зовут ее никакой не старухой, только «панной». «Панна» — это или положение, или своеобразное определение возраста без доопределения «старая» — неясно. Послов (атаман Сухорука) князь велит Иеремии посадить на кол, а когда Карл Густав угрожает виселицей делегации, которая просит его в устье Сана и Вислы за Роха Ковальского, то Заглоба негодует на шведского короля, потому что иные входящего бокалом угощают. Но это абсолютно допустимые несоответствия. Однако же самым удивительным мне представляется признание правоты за Сенкевичем в том, будто цикл этих книг (более трех тысяч печатных страниц) возник «для утешения сердец». Но «Огнем и мечом» неутешительно закончится тем, что ненависть отравила родственную кровь, свадьба, что соединила пана Кмицица с панной Александрой, ни в коей мере не может быть принята за «исторически обоснованную», зато сюжет о Басе и Михале заканчивается только большой могилой и руинами Каменьца, «на вечные времена» отданного туркам. Я лично, пожалуй, за такое утешение благодарил бы довольно холодно. Впрочем, говоря уже очень серьезно, роман в целом развивался «сам» в том смысле, что должно было быть только «Волчье гнездо», а произведение извлекло из него панорамный сюжет. Приукрашивания, как у Дюма, также плавают в этом котле, но что с того, если персонажи второго плана (Жендзян и трое Кемличей, например) выведены отличным размахом пера и по-гомбровически придираться к целости нет оснований. Очевидные нестыковки (не знаю, как это представить в пользу Сенкевича, но Анусе Борзобогатой в «Пане Володыевском», готовая за него «махнуть», должно быть под сорок лет) «возникли», вероятно, оттуда, что роман, набрав силы, словно шел «сам» и что остановить эту силу не удавалось. Впрочем, ведь мы имеем лучший исторический роман? Будучи существом по сути примитивным, то есть никоим образом не способным нарядиться в те удивительно скроенные костюмы, которые сшил г. Парницкий, я не могу его поддержать. «Трилогия» правдива, хотя и полна очевидной неправды. Недавно в России шел спор вокруг романа Владимова «Генерал и его армия» (который уже перекочевал в переводе на Запад), поскольку те, кто лично был свидетелем и участвовал в так называемой Великой Отечественной войне Советского Союза, нашли множество неправдивых деталей в этой книге. И я писал моему переводчику в Москве, что хотя те, кто сам воевал, наверное, даже лучше Владимова знают, как там было, что могло и что не могло произойти — ведь автор, наделенный только книжным знанием, не воевал сам, потому что слишком молод, но он своим талантом возродил «дух времени» и в романе сумел призвать его к жизни. Известно, например, что вытащенные из Гулага командиры оказались между двух огней — с фронта немцы, с тыла «особисты» из Смерша и гэбисты, — и важно то, что эти двойные щипцы в романе показали свои настоящие зубы, а то, мог ли «особист» без колебания появиться на военном совете или не мог, это дело второстепенное. Ибо всегда так, что тот, кто пережил данный исторический момент как свидетель или как жертва, знает его «фактуру» с детальной скрупулезностью. Ведь только когда все такие свидетели вымрут, никто уже не будет в состоянии обвинять писателя во лжи, и событие становится археологическим ископаемым для жаждущих полемики историков. Но читателя (как я) это не волнует. Правда литературы «как-то» относится к правде жизни: но как — сложно и объяснить, и определить…
Сильвические размышления XLIII: Моделирование культуры, или Книги, которые я не напишу
1. Сейчас существует мода на моделирование. Моделируется все, что возможно, и, кроме того, что невозможно. Загрязнение окружающей среды, разрастание озоновой дыры, последствия этого, демографический взрыв — сто миллионов детей родилось в 1994 году и предполагается, что порядка тридцати процентов этих детей не достигнет зрелости (но антиконцепции применять в дальнейшем нельзя, и это для меня означает «цивилизацию смерти»). Моделируется также то, как ранее говорилось, что моделировать нельзя, и вот миссис S., senior editor[417] из «MIT PRESS» — издательства знаменитого американского университета Massachusetts Institute of Technology — обратилась ко мне с предложением, чтобы я как «Professor Lem» оценил прилагаемый проект мистера Гесслера, объясняющий, как он намерен при помощи компьютера моделировать искусственную культуру, то есть artificial culture. Я ответил, пожалуй, и невежливо, что это baloney[418], rubbish[419], что сделать это не удастся, потому что такой проект можно скорее всего реализовать только на уровне компьютерных игр «NINTENDO». Мы не знаем, как, то есть из чего и для чего появляется культура, особенно в ее нематериальной части, не понимаем, почему в безлитургическом захоронении человеческих останков виден зародыш веры в некую Трансценденцию, датируемый археологией с антропологией почти ста тысячами лет. Зато речь, праязык, из которого выросло целое древо языков, датируют едва двенадцатью тысячами лет, а еще позже возникло письмо, или скорей возникли письменности, ибо их много. И не зная этого, ни А, ни В, мы уже собираемся браться за «моделирование искусственной культуры». Мистер Гесслер, он же автор проекта, уже ранее прислал мне свою работу, а «MIT PRESS» должно было ее издать в рамках целой серии работ, посвященных моделированию искусственной культуры. Это я и написал миссис S., и что вижу в этом явлении и признание, что нам уже море по колено, и явный признак упадка обычной культуры. Пожалуй, я уязвил, а может даже обидел эту американскую ученую даму, но что же я могу сказать, кроме выявления препятствий, стоящих на этом пути.
Сегодня мир принадлежит дерзким. У нас в Польше это проявляется в получении грантов, то есть эффективном выклянчивании, если перевести на польский, а в США, видимо, в моделировании, и потому на Ширака немного обрушились за его непромоделированные бомбы на Муруроа. Ясное дело, что я могу ошибаться, что культуру можно и нужно моделировать как игру в шахматы, но я, будучи консерватором (хотя и автором SF), одно от другого отделяю и никакого смысла в этом не вижу. Фактом является некая двойственность любой культуры, и, быть может, фактом является то, что как единственную мотивацию загробного существования высмеивал Лешек Колаковский: будто не от страха перед смертью, небытием, простирающимися в загробной жизни, возникла трансценденция. С этим можно соглашаться, даже только отчасти, но вопрос связан с массой трудных для раскрытия явлений, а уже моделировать то, чего ни за что нельзя понять, и моделировать Господа Бога во всех его разнорелигиозных воплощениях — это страшно глупая преждевременность, которой следует остерегаться (по моему мнению).
2. Надо сказать, что «все сложнее, чем нам это кажется». Разве необычно то, что от соединения сперматозоида любого мужчины на Земле с яйцеклеткой любой женщины может появиться эмбрион ребенка, который станет нормальным человеком? Понимаем ли мы эти процессы, которые делают так, что произвольный мужской человеческий геном может эмбриогенетически соединиться с другим человеческим и что это же касается млекопитающих, земноводных или пресмыкающихся? Не следует впадать в задумчивость или восторг, потому что уже подготовили карту отдельных генов. Это то же, что опись иероглифов до Шампольона. Нет, мы ровным счетом ничего не понимаем: и надо так представлять положение вещей, а мы уже принимаемся за «моделирование возникновения культуры», не важно, что «искусственной». Трудности не ликвидируются распоряжением. Следует, пожалуй, сказать, если дело необыкновенно странное, с нашими институтами набекрень, что это не так, чтобы произвольная схема произвольного двигателя без всяких переработок годилась бы для движения, скажем, самолета. Здесь надо приспосабливать одно к другому, а с генами дело другое: синонимические виды часто можно скрещивать, но потомство обычно бесплодно: понимаем ли мы это? Почему эволюция не хочет двигаться этой дорогой? А тем временем битвы мирян и церквей ведутся исключительно на сексогенитальной почве, и поэтому мои предвидения, содержащиеся во многих книгах и завуалированные юмором, исполнятся в надлежащее время.
Любая человеческая культура двойственна, она содержит технологическую, а также ритуально-сакрально-трансцендентальную часть, и поскольку одно проникает в другое, словно разъясняет, подпирает, поддерживает и утверждает, целостность приобретает вид единства, которое легко лопается, когда встретятся, а то и столкнутся разные культуры. Технологию в последней инстанции диктует нам мир в своей безучастной «материальной» основе, а трансценденция обычно имеет локальное происхождение. И вместе с тем глашатаи и слуги веры это ее происхождение никогда не могут принять за действительное, ибо тогда они возьмут с собой за духовные основы трансценденцию и в каком-нибудь ужасном инцесте подвергнут смешению. С этим совсем иначе, чем с какой-то атомистикой: мистик может быть множество, атомистика для нас должна быть одна. Мир позволяет появление «просветов» между самим собой и нами, и отсюда множество культур. Может, и удастся когда-нибудь моделировать культуру в ее духовном появлении наподобие того, как знаково и символически представлял себе намеренные миры Карл Поппер. Но я думаю, что это предполагает сначала определение задач, на «парарешения» которых способны нейронные сети — как та сеть, которая в нашем мозге составляет базу его умственной активности. Больше я здесь не скажу, потому что мне бы пришлось вычерпывать ложкой океаны[420].
3. Здесь я наконец могу сказать то, что намеревался с самого начала, а именно: какие названия носят те книги, которых я наверняка не напишу.
I. «Светлое будущее, или выкрасить и выбросить». Речь идет о реализации таких проектов, которые объединенное человечество для всеобщего блага могло бы претворить в жизнь. Но так как, однако, о каком-либо объединении человечества, разделенного на нации, de facto ненавидящие другие по признакам веры, традиций, цвета кожи и т. д., нет и речи, эти проекты останутся лишь на бумаге. Как, например, проект управления климатом посредством размещенных на стационарных околоземных орбитах зеркальных листов, которые (управляемые с Земли) позволяли бы рассеивать циклонные вихри, разогревать гиперборейский холод, прояснять вечные ночи полярной зимы и т. п. То, что технически возможно, невозможно из-за разрозненности вида homo, и именно поэтому писать обо всем этом не стоит.
II. «Будущее философии и философия будущего». Тема сложная, особенно насыщенная ловушками в первой части. Писать можно, но не стоит, так как никто не станет читать.
III. «Человек — это звучит страшно». Объяснять название уже давно не нужно. Parerga a paralipomena[421] представляли бы отдельные наброски такого действительно разумного, а не самозванно названного единственным вида, который всемогущий Творец из первородной плазмы мог бы создать, если бы захотел, но не создал, так как его не было. Несуществующий труд, в кожаном переплете in quarto[422]. Там же подробное описание атрибутов «четвертого шимпанзе»[423].
IV. «Будущее, или Упадок». И так понятно, ничего больше говорить не нужно.
V. «Посткапитализм». Идея о том, что капитализм будет вечен, так как без видов на прибыль никто с места не сдвинется, в этом труде опровергнута раз и навсегда, и хотя труд никогда не будет написан, на стенах будущих пост-Содома и пост-Гоморры такая надпись будет сиять золотом (во всяком случае, должна).
VI. «Куда бежать?» Малое руководства по бегству из этого мира, потому что в нем скоро невозможно будет выдержать.
VII. «Почему не все женщины красивы?» Это эволюционистское исследование, объективное, раскрывающее таинства естественного сексуального отбора, которыми являются случайные libido[424], действия в спешке и всеобщая неразборчивость в половых связях, с учетом новейших направлений и тенденций в унижающей нас биологии.
VIII. «Параллельная последовательность». Окончательное выяснение, почему мозг должен работать параллельно, чтобы то, что с его помощью артикулируется, было (как произносимая или записываемая речь) последовательным, и почему то, что происходит при половом соединении двух геномов, — параллельно, но одновременно и последовательно. А кому этих правдивых примеров недостаточно, пусть купит себе губку для обмывания тела холодной водой.
Сильвические размышления XLIV: Зачем я пишу?
1. Пан Кшиштоф Мышковский из журнала «Kwartalnik Artystyczny»[425] обратился ко мне с личным посланием, с просьбой, чтобы я принял участие в ответе на анкету этого журнала: «Зачем я пишу?» Столь непосредственная и бесцеремонная вопросительная фраза требует, несомненно, полностью использовать возможности, которые дает нам все еще (но не уже) полученная свобода слова. Однако чтобы убедиться, что мое высказывание не будет в высшей степени вульгарным, а то, что я говорю — нагло дерзким, я обратился к двум светилам нашей художественной литературы, очень разным по характеру и писательской ориентации. От первого я услышал прямо: «Если бы я получил пожизненную пенсию, то ни одного слова по гроб жизни не написал бы». Второй джентльмен, из старшего поколения (почти как я), даже не улыбнувшись, сказал: «Как это зачем? Ради денег». Таким образом, они меня успокоили, так что я мог бы пану Мышковскому ответить так же, но лапидарное безобразие реплики как-то меня оттолкнуло от ее произнесения.
2. Я приехал в Краков с родителями в 1945 году товарным поездом Государственного репатриационного управления, и были мы, как пресловутые церковные мыши, бедны, поскольку мой отец с большой неохотой покидал Львов, и только когда советская власть приставила нам нож к горлу («или репатриация, или советское гражданство»), был принужден к этому anabasis[426]. В Кракове я вновь записался на медицинское отделение Ягеллонского университета (вновь, потому что я начинал учебу в советском Львове — «Украинский город Львов был, есть и будет советским»[427]), однако учеба не приносила денег. У отца, ровесника 1879 года, уже не было своего кабинета, и, кроме пары скальпелей, не было ничего. Таким образом, почти в семьдесят лет он был вынужден пойти на клинически-государственный хлеб. Мы не утопали в достатке, дом, заработанный отцом, советская власть во Львове забрала, одним словом, я начал крутиться, чтобы заработать денег. Я писал стишки для силезского журнала «Kocynder», совершенно ужасные, пока мне не попалась более золотая жила в катовицком журнале «Co tydzien powiesc»[428] и там за двадцать шесть тысяч старых злотых я давал волю фантазии, чтобы заработать и отчасти поддержать отца в общей послевоенной беде. Вместе с тем я опубликовал стихи и несколько новелл в еженедельнике «Tygodnik Powszechny»[429] и как кандидат в члены Союза польских писателей получил удостоверение, но долго радоваться ему не удалось, ибо книгу «Больница Преображения» цензура не пропускала, а когда пресс цензуры раздавил само издательство «Gebethner i Wolff» — именно туда я ее отнес, — остатки его поехали в Варшаву (в издательство «Czytelnik»[430]). Я случайно получил место у доктора Мечислава Хойновского, когда выбрался в его прекрасную квартиру на ул. Шопена со своей начатой еще во Львове работой «Теория функции мозга». Редко когда более длинное нагромождение подобных бредней (выдуманных мною и нашедших подтверждение у Шеррингтона) видело свет. Хойновский принял меня неплохо, хотя был озабочен, ибо (теперь уже можно говорить) я попал к нему как раз тогда, когда советский консул выкидывал его из квартиры. Но нет худа без добра, потому что Хойновский получил довольно большое помещение на аллее Словацкого, в паре шагов до ул. Силезской, где мы, репатрианты, гнездились в одной комнате. Мне было близко до него, и я стал младшим сотрудником Науковедческого лектория, который Хойновский на какое-то время основал вместе с другими ассистентами Ягеллонского университета. Однако народная власть ничего не переносила сильнее, чем «инициативу снизу», поэтому уже в 1951 году от лектория не осталось и следа, а там мы создавали тесты для оценки успехов молодежи, изучающей медицину, причем я был автором некоторых этих тестов magna pars fui[431]. Как известно, психо-техническими экспериментами народная власть пренебрегала также и благодаря моей роли — как обозревателя в ежемесячнике «Zycie Nauki»[432] (основанным Хойновским). К делу похорон «Zycie Nauki» я отчасти приложил руку, потому что с необузданностью молодости смел на страницах этого ежемесячника приклеивать ярлыки самому Трофиму Лысенко. Поскольку у меня не было изданной книги — она находилась в национализированных останках «Gebethner i Wolff», удостоверение кандидата в члены Союза польских писателей я тоже потерял. Поэтому, если бы не «Co tydzien powiesc», из которого шли деньги, было бы совсем уж худо. Но предусмотрительная народная власть частную периодику, каковым был «Co tydzien powiesc», также быстро угробила и, собственно говоря, таким был конец первой фазы моих первых шагов в литературе.
Я.Ю. Щепаньский (я уже с ним подружился) работал тогда переводчиком, чуть ли не в «Голосе Англии», я же, сам не знаю откуда и как, написал в 1947–1948 годах роман «Больница Преображения»: мне кажется, что уже не из-за желания получить деньги и славу, а как-то так. Именно пану Мышковскому я должен был написать и послать все вышесказанное, но какая разница, прочитают об этом в журнале «Odra» или в журнале «Kwartalnik Artystyczny», а, впрочем, искренность требовала бы наиболее сжатого ответа: того, что я понятия не имею, почему начал писать не только ради денег и примкнул к «Молодым» в краковском Союзе польских писателей на ул. Крупничей; отчасти, пожалуй, по товарищеским причинам. С товарищами я получил в командовании военного округа бумагу, дающую право на сбор послевоенного металлолома с поля боя, ибо нам грезился автомобиль, приводимый в движение электричеством. Мы ездили с тачками за этим металлоломом тут и там, и так я узнал полковника Плоньского из еженедельника «Zolnierz Polski»[433] (редакция располагалась в командовании военного округа), где я опубликовал пару также скверных рассказов, таких, как, например, «Человек из Хиросимы», но все это я объяснял денежно; и что-то где-то во Вроцлаве, но уже не помню. Зато я помню, что на один из первых гонораров я приобрел килограмм заурядного ранета за четыреста злотых и в связи со столь чудовищным расходом чувствовал угрызения совести. Однако о том, что не стану в оставшейся жизни врачом, я вообще не имел понятия, и так это пошло слаломным путем случаев, даже показалось, что отступления нет, раз уж опять (чуть ли не сам Путрамент) меня включили в Союз писателей. Начались нескончаемые попытки спасения романа «Больница Преображения» и мои путешествия ночными поездами в самом дешевом, а значит жестком классе, в Варшаву. Ничего из этого не вышло, пришлось ждать семь лет, прежде чем книга появилась, причем не без моего позора, ибо как «противовес» к «Больнице», прозванной «реакционной», я дописал два тома, в которые понапихал никогда в жизни не виденных ангельских коммунистов, и даже моего приятеля из гаража во Львове, Мартинова, переделал в красного. Этого я не слишком стыжусь; не потому что имел влиятельнейших друзей в управлении цензурой, но что и «коммунист Мартинов» во времена сталинизма ничем не смог мне помочь.
Еще добавлю, что я попал под облаву и из-за этого не мог сдать акушерство, а в Управлении безопасности, когда меня выпустили и я попросил бумагу, чтобы предъявить университетской власти объяснение моего непоявления на экзамене, я получил только слегка издевательскую усмешку, потому что Управление ни о каких задержаниях не информировало на бумаге с печатями. Ну и таков был, собственно говоря, мой старт. А пан Паньский из издательства «Czytelnik» в разговоре о литературе во время прогулки на Черный Пруд, когда я жаловался ему на отсутствие отечественной фантастики, спросил, а вот я сам не написал бы чего. Я сказал, что мог бы, и через какое-то время из издательства пришел договор с пустым местом для названия книги, и эту пустоту я заполнил названием «Астронавты», и книга вышла. Таким было уже несколько более профессиональное начало моей литературной карьеры, что, впрочем, вкратце я описал пану Станиславу Бересю в книге бесед с ним[434]. И это, собственно говоря, все, кратко же — ясно видно, что Случай и Необходимость правили в начале моего писательского пути, точь-в-точь так, как встретилась пристойная девушка и после осады была взята в жены, и вот уже скоро минет полвека супружества. Еще я должен перед паном Мышковским извиниться за то, что этот текст отдал журналу «Odra», а не квартальнику, но у меня на совести уже столько грехов и проступков, что одним больше, пожалуй, не считается. Тем более, что ни славой, ни почестями этим началом я не разжился, гонясь за деньгами, что должно быть вещью если не нормальной, то типичной. Теперь уже, в свободной Польше, писателя в пеленках может поддержать только чудо или богатая семья. Чудные были времена!
Сильвические размышления LXVII: Эпоха намеков[435]
Я уже столько раз читал и слышал, что по мере течения времени мое когда-то прометеевско-лучезарное творчество все глубже погружается в мрачный пессимизм, что уже почти готов был в то поверить. Но ничего не поделаешь: во-первых, хронология публикации моих текстов, так называемых завершенных произведений (книг), не полностью и не очень совпадает с хронологией их возникновения. Я был вынужден под давлением пээнэровских варшавских издателей дописать к «Больнице Преображения» в качестве так называемого противовеса, понимаемого идеологически, два последующих тома, что, впрочем, изданию появившейся таким образом трилогии не помогло. Появилась она только более чем через семь лет после того, как я представил в 1948 году издательству «Gebethner i Wolff» в Кракове оригинал «Больницы Преображения».
Во-вторых, моим настоящим, хотя и долго скрываемым от издателей дебютом был «Человек с Марса». Сложно принять эту литературно слабую вещь за лучезарно оптимистическую, если в окончании сюжета люди были вынуждены взорвать марсианское существо вместе с лабораторией после напрасных попыток установить с ним контакт. Таким образом, видно, что скептически-пессимистическое сомнение водило моим пером уже на самом старте. Так называемые утопии, добавим красные утопии — а именно «Астронавты» и «Магелланово облако» — были написаны и опубликованы во время сталинского холода и имели все черты уклонения из-под тяжелого пресса обязывающей поэтики соцреализма путем использования тактики, названной потом «увиливанием за фасад». Другими словами, это было лучезарное бегство в коммунистическое будущее, в котором не могло уже быть ни коммунистической партии, ни полиции, ни цензуры, ни какой-либо государственной администрации. Задуманная утопия должна была вывести меня из-под гнета соцреализма, и потому вся ее лучезарность была — по меньшей мере отчасти — вызвана обстоятельствами времени и места, или, короче, фальшью.
Оба названных произведения, полные вынужденной радости, ослабили систематически проигрываемую мною борьбу с цензорами-издателями в Варшаве. Когда запасы синтетической лучезарности у меня начали исчерпываться, я написал ряд рассказов, изданных под названием «Сезам». Эта книжечка не показала уже даже намерения прометеевской вспышки. Потому что была плоха.
По мере того, как приближался октябрь пятьдесят шестого года и гайки, которыми писательство было прикреплено к прокрустову ложу соцреализма, начали ослабевать, началась настоящая пора моего все менее стесненного писательства, в котором я осмеливался уже даже использовать эзопову тактику подходов к цензуре. Книг, которые таким достаточно свободным способом я написал, было больше сорока. Быть может, необходимость, переживаемая как желание говорить правду, привела к возникновению таких книг, как «Эдем». С «Эдемом» связывают меня особенно приятные воспоминания. Роман вышел в Чехословакии. Отдыхая с женой в Праге, я пытался найти место в каком-то отеле, что оказалось невозможным, пока в районе Винохрады портье, сразу же заявив, что свободных номеров нет, не посмотрел в мой паспорт, после чего сказал: «A! To wyste napsali „Eden“? Ja rozumim». Потом дал мне ключи от номера. Как видно, именно литературная деятельность иногда притносит нелитературную выгоду.
Возможно, это прозвучит несколько цинично, но закон времени был таков, что чем больше прогнивала, чем более явно разрушалась, ослабевала приказная система реального социализма, чем более истлевшими оказывались его связи, тем успешней и тем более злорадно могло писательское перо прыгать по неприятно длящейся агонии. В конце концов, эта уже распадающаяся система могла служить, как промежуточная структура, большой пружинной сеткой, благодаря которой выполняются акробатические упражнения. А когда наступил конец, все пружины с крючками в советском политбюро лопнули, и мы приземлились на твердую землю. Быть может, я еще не достаточно цинично искренен: на погибающем реальном социализме можно было еще с большим успехом попрыгать и порезвиться. Однако, когда мы оказались на твердой почве капитализма, нам осталась уже только — как художественное занятие — акробатика на ковре. Закончилась эпоха намеков, и тем самым миновало время, в котором конференции с писателями в Варшаве, известные в среде как беседы Ирода с детьми или задницы с палкой, проводили идеологические вожди пролетариата.
Началось опасное для многих время свободы, применение которой очень легко соскальзывает к злоупотреблению. Вместе с тем страстность всех сражений с цензурой поблекла в нашей памяти до такой степени, что не один из нас начал тихонько жалеть о нехватке этого противника. К счастью для писателей, появились слабенькие суррогаты новой разновидности цензуры, совершенно другие, чем прежние кандалы. Случилось так, что писать стало можно вещи довольно популярные и при этом глупые, или сильно амбициозные и при этом гарантировано малотиражные. Литература, вытолкнутая на ринг, чтобы бороться с более богатыми и прибыльными противниками, литература, могучим пинком истории выброшенная на улицу из социалистической тюрьмы, чувствует себя средне. По сути дела, ни одна игра, не только литературная, не может вестись без противника, так же, как один жестокий противник или их чрезмерно размноженное в мире количество не создает оптимальной ситуации для писательства. Немного кощунственно можно сказать, что ничто более не возбуждает и не запускает писательскую активность, чем новые захваты и разделы. Если только так называемый смалец является нашей Маммоной и маяком, неладное творится с искусством, основанном только на слове, которому не с кем бороться.
Сильвические размышления LIV–LIX: О Лесьмяне с отступлениями
I
Возможно, это прозвучит удивительно и даже (для меня) ненормально, но неожиданно захотелось писать о поэзии. Поэзия, как я ее понимаю, либо вовсе не поддается, либо поддается очень плохо переводу на язык прозы. Постараюсь объяснить свою мысль. Начать следует, пожалуй, с того, что у нас считается лучшим. Мицкевич:
- Руки, за народ сражающиеся, сам народ отрубит,
- Славные имена для народа — народ забудет.
- Все пройдет. После грохота, шума, труда
- Наследство получат тихие, серые, мелкие люди.[436]
Естественное желание — не затрагивать злобной реальности. В четверостишии вместилась ВСЯ социология. Такое короткое замыкание с крайним конфликтом, на мой взгляд, возникает достаточно редко, ибо, как правило, правда, столь выразительно точная и с таким четко выраженным ужасающим диапазоном значений (десигнативно-денотативным — однако хочется воздержаться от «ученых» терминов), для поэзии не характерна. Философия, которой пропитывают поэзию или которая переводится на язык поэзии, всегда воспринимается мною как некая разбавленная, туманная, вторичная, но именно такая годится для перевода на язык прозы, причем оказывается, что в ней не было заключено что-либо интеллектуально стоящее.
Теперь Лесьмян. К моим любимым (его) стихотворениям относятся: «Гад»[437], «Царевна Черных Островов», «Накануне своего воскрешения», «Зеленый кувшин», «Панна Анна». Конечно, их намного больше, но постараюсь ограничиться «разбором» стихотворения «Гад»[438], пытаясь перевести его на язык «обычной» действительности…
- Шла с молоком в груди в зеленый сад,
- Пока в ольховнике не застиг ее гад.
Может показаться, что это вполне обыкновенная история, но прошу задуматься. «С молоком в груди» — это означает (в конвенции реализма), что либо она только что родила, либо кормит слегка подросшего ребенка, так как если бы и была беременна и даже на большом сроке, молоко из женской груди не выделяется, только молозиво, а молозиво — это не молоко. Несмотря на то, что во всем стихотворении нет речи о родах, о ребенке, о любовнике (кроме гада) или о муже, следует признать, что «с молоком в груди» ДОСЛОВНО ничего не означает: это только введенный признак женственности, причем мне представляется (не могу это доказать), что женственности скорее «девичьей», чем «материнской».
- Обвивая кольцами, давил, прижав к земле,
- С головы до ног ласкал и травил.
- Довольно своеобразно, но возможно перевести на язык прозы.
- Учил совместным забываться сном,
- Грудь ласкать зажатым в ладони лбом,
- И от наслаждения, более долгого, чем смерть,
- Шипеть и извиваться, дрожать, как он.
- Довольно садомазохистские оргазмы, однако перевести «в прозу» можно.
- Уже мои любовные повадки знаешь,
- Освободи, и приобрету королевское лицо.
- Сокровища тебе достану с морского дна,
- Начнется явь — и прекратится сон.
Здесь вырисовывается типичная для сказки инверсия: как с той лягушкой, которая сразу же должна превратиться в царевича, если ее найдет девушка: это дает нам основание ввести этот фрагмент в «парадигму» данной сказки, в ее сюжетную схему.
Но вот следующие строки:
- Не сбрасывай чешуи, не меняй облика!
- Ничего мне не нужно, у меня все есть.
- Люблю, когда жалом ты гладишь мне бровь
- И из губ высасываешь излишек крови.
- И когда вьешься вдоль моих ног,
- Лбом ударяясь о край ложа.
- Груди к тебе наклоняю, как кувшин с молоком!
- Не нужны мне сокровища, не хочу перемен.
- Сладок мне вкус змеиной слюны —
- Останься гадом и ласкай, и трави!
То есть инверсия происходит, но на 180 градусов относительно той, которую мы ожидали. Гад должен остаться гадом, а не превратиться в прекрасного царевича. То есть кажется, что стихи переводимы «в прозу», но где там! Наполненные молоком груди настойчиво повторяются в тексте. Не буду спорить о том, что у гадов нет жала и они не родственники вампиров, чтобы высасывать кровь. Все это, если поэзию переводить на язык прозы, является ужасным извращением, но стихотворение, представляя извращение (именно благодаря ему оно и прекрасно), одновременно теряет суть при переводе на язык реалистической или сказочной прозы.
Что это?
Мне кажется, что здесь был призван «гений», дух поэзии, являющийся своего рода волшебством. Колдовством. Магией. Если же пойти дальше, то можно сказать, что слова, а в еще большей степени предикаты, напоминают мне (образно говоря) семантические кометы: у них есть ядро, то есть начальные исходные данные (имеется это и это), и есть ареол других, немного или полностью отдаленных значений, чаще вызванных контекстом, но не только и не обязательно контекстом («строфа должна быть тактом, а не удилами»), и здесь ясность вносит формула Байеса (ее упоминал русский математик Налимов в «Вероятностной модели языка»). Во время высказывания всегда возникают ожидания (предвосхищения) того, что именно должно появиться (прозвучать как продолжение фразы), на это и «настраивается» воспринимающий, благодаря чему удивление, или скорее потрясение сильнее (причем, наверное, аффективно, а не семантически), когда мы не слышим ничего такого БЛИЗКОГО и соответствующего «предикативной голове семантической кометы», а наоборот, из антиподов «хвоста кометы», или, бог знает из какой адской темноты высунувшись, звучит продолжение фразы, совершенно не то, которое мы ожидали, а то, которое начинает означать для нас что-то понятно-непонятное: именно так появляется поэзия, т. е. в потоке высказывания будто бы формируется некий кристалл (он не должен, но может быть странным сверх меры).
Подобное есть и в «Царевне черных островов», которая действительно «полна измен, полна греха» и умирает в муках, а когда ее душа после «подслащенной смерти» оказывается на небесах, то эта душа в последней строфе от первого лица уверяет, что все еще ощущает следы ангельских поцелуев «на руках и на ногах». Все уже так сильно перемешалось (ангелы, «шалеющие» на пороге вечности, избыток «измены и греха»), что снова появляется очарование. Это та поэтическая сила, которая в любом переводе на язык прозы демонстрирует свое бессилие в дословности обычного пересказывания. Ну, а панна Анна, которую ласкает инкуб, ее «любимый из дерева», это, имея в виду лаконичность, особо проявляющуюся в теории игр (максимум выигрыша из минимума «лексикографического вклада»), показывает, что МОЖНО сделать с языком и что ДЛЯ МЕНЯ не перестает быть очень интересным и очень удивительным.
Почему?
Ноам Хомски еще в начале своих размышлений над языком различал две семантические структуры значений: поверхностную и глубинную, и, к слову, одной из его первых «моделей обусловленности смыслов через модальное изменение ВОСПРИЯТИЯ» было предложение «they are flying planes», которое (по-английски) можно понимать как «это летящие самолеты», так и «они летят в самолетах». Это, очевидно, упрощенная модель неустойчивости значений, ограниченная двумя видами понимания. В поэзии же стихи вообще невозможно разделить на какие-то однозначные структуры, особенно такие стихи, как у Целана. В то время как многие стихи Рильке характеризуются великолепием оболочки (заметьте, я не говорю здесь «поверхностной» — это было бы что-то неподходящее), то стихи Целана отличаются путаницей и непереводимой неразберихой. Все это можно ясно увидеть на примерах. Когда Тувим пишет: «Стих мой из печали, как стол из дерева», ПЕЧАЛЬ здесь однозначно НАЗВАНА. Стихи же Целана не называют экзистенциальное отчаяние, но, намекая на него различными способами, тем самым лишены этого видимого на поверхности намерения, так как именно из такого проницательного переживания и «состоят». Такое на язык прозы не переводится.
В общих чертах мы имеем дело с особым типом предложений, семантика которых подверглась сжатию, подобно тому, как в геологии слои синклиналей и антисинклиналей; отдельная часть их, впрочем, МОЖЕТ быть вырвана (это часто выступает на геологических срезах и является признаком стратификационных складок, уже зафиксированных в неподвижности, и разнонаправленных давлений, которым было подвержено определенное горное формирование), и такие обрывки «сжатых» значений тоже по-своему что-то дополнительно означают. Возможно, музыковед, коим я не являюсь, привел бы здесь лучшие модели для разъяснения диверсионной по отношению к «нормальной артикуляции» тактики стихосложения. Так как язык может выдавать «исключительно поверхностные структуры» («это стол»), то без предупреждения он может выполнить виражный маневр «разворот вглубь». И вот мы стоим на краю обрыва, совсем беспомощные в отношении стихосложения, ибо в конце концов может быть и так, что кардинальное влияние группы значений-отсылок на смысловые резонансы, имитацию эха и аморальность МОЖЕТ быть неисчислимым, т. е. не удалось бы его считать просто бесконечным в смысле Канторовского «ALEF»[439]. Все «хуже», ибо это бывает трансфинальным… Имеется в виду, что такой поэт, как Целан, созидая, ничего не пересчитывает, не составляет семантические поля, дисперсия НЕ является дистрибуцией (т. е. ее не следует отождествлять с какой-либо кривой на плоскости, она не может быть представлена ни нормальной кривой (колоколообразной), ни «кластерной»). Это «само происходит у него в голове». Происходит такое сращение эмоциональных факторов с факторами семасиологическими и логико-семантическими (по определению Айдукевича), что эта конечная неоднородная смесь не раскладывается на какие-либо отдельные «элементарные частицы». Именно поэтому можно было бы вывести в виде софизма следующее правило, гласящее, что чем больше стихотворение используюет глубинные структуры ДАННОГО языка, тем ТРУДНЕЕ оно переводится (в стихотворную форму на другом языке, а не на язык прозы), так как «резонансно-эховые» глубины слов и выражений в различных языках НЕТОЖДЕСТВЕННЫ. Я не говорю здесь о такой элементарной вещи, что «cul» и «dupa»[440] только словарно заменяют друг друга: речь не о таких мелочах. У стихов, даже у белых, есть множество различных опор, но это уже вопрос традиции, моды, т. е. факторов исторического времени по отношению к появлению стихов и их прочтению. А чтобы так писать, нужно быть особо наделенным «корнем значений» языка при артикуляции, о котором известно, что нет ни количественно замкнутого пространства, ни «канонически последнего дня». В конце концов, это были замечания совершенного непрофессионала, набросанные полностью под свою ответственность. В любом случае «канон прочтения и переживания» ТАКЖЕ зависит от условий общественного окружения (элиты?) и периферии, но в данном направлении я не двигаюсь, иначе бы никогда не написал этих заметок.
Postscriptum.
Этот очерк должен быть не только отмечен ремаркой, подчеркивающей приверженность автора, но и отмечающей, что ход моих замечаний был неравномерный и я сознательно избегал огромных томов различных поэтик, и наконец, что то, что МНЕ нравится, не намеревалось быть и не является каким-либо выставлением оценок (что хорошо, а что хуже в поэзии). «Композиции значений» различных поэтических произведений, разных школ и направлений использует разные «уловки», которыми хотят привлечь читателя. Аналогия, а скорее примитивная модель, представленная в качестве «ядра кометы с развевающимся хвостом, который становится все меньше при появлении правдоподобных значений, даже подобных эху», является в действительности сильным упрощением. Каждое стихотворение — подобно некоему живому существу — можно разместить в своем виде, типе, классе, группе, как если бы существовало дерево Линнея поэтической таксономии. Кроме того, стихотворение implicite или explicite «показывает» свою «семантическую трассу», ведь что было бы, если бы читатель «Гада» воскликнул: «Ага! Чудачка предпочла содомию богатству», ведь она предпочитает интимную связь с гадом «сокровищам с морского дна» и королевскому величеству? Это было бы такое отвратительное отклонение от категориально-имплицитной трассы прочтения, что отдавало бы злостной насмешкой, несмотря на то, что in merito[441] даже такой паскуднице нельзя отказать хоть в какой-то правоте. Китайские блюда буддийских монахов во время поста отличаются от шатобриана под соусом беарнез, но еще большие различия мы наблюдаем в поэзии. Мы только не знаем, для чего это особое пространство виттгенштейновских «языковых игр», возникшее когда-то в доисторические времена, дальше действует и выдает новые направления, однако при анализе небольшого текста никакой толковой диахронической аналитикой пользоваться нельзя. Прежде всего меня интересовала глубина укоренения стихотворения в том языке, в котором оно появилось, и я считаю, что поэзия, являющаяся своего рода онтичной рефлексией (над экзистенциальной оценкой бытия), все-таки на несколько «ступеней» ниже и менее продуктивна, чем обычный философский дискурс. И вследствие этого я сто раз предпочту стихи Рильке с «короткими замыканиями» его же «Дуинезским элегиям», я также часто грешу априорностью, не обращаясь к учению «версифицированной афористической философии». Однако это не имеет ничего общего с такими произведениями, как «Моральный трактат» Милоша. И я не знаю, можно ли вообще говорить о поэзии без какого-либо эмоционального участия? Почему «Пила» Лесьмяна мне представляется «невыносимой» по сравнению с «Гадом»? Я мог бы привести здесь целый залп аргументов, но ничего in merito не скажу, если моя «личность» не будет центральной в этом дискурсе. Поэтому разумнее на этом закончить.
II
В первый день Рождества с утра до ночи я читал «Дневник» Киселевского, о котором, пожалуй, когда-нибудь напишу. А сейчас вернусь к Лесьмяну: к «Гаду». Должен. Это произведение открывает цикл баллад, а своей кажущейся простотой облегчает мое стремление выявить, «как он это сделал». К гадам, между прочим, относится класс змей, но, естественно, зоология здесь ничего не объясняет: «гад» как «змея» очень глубоко укоренился в мифологическом фольклоре, в медицине и last but NOT least[442] в Ветхом Завете: ведь это змей искусил Еву, он был инициатором первородного греха, поэтому он неслучайно как бы «невидимо» сросся с эротизмом. Лесьмяновский «змей», однако, все-таки ГАД; почему он не выступает просто как «змей»? Причин много. Прежде всего, а это видно из текста, он «давил», «обвивал кольцами», то есть подобен питону (удаву), который всем своим телом лучше, чем анонимный «змей», соответствует телу человека (женщины).
«Змей» — было бы слишком однозначно, слишком просто, прямо ведущее к Библейскому РАЮ. ГАД (и динозавры, и крокодилы — это гады-пресмыкающиеся) импонирует своими размерами. Но в стихотворении тотчас оказывается, что «ласкал и травил». Удав-душитель не ядовит, а девушка снова говорит в последних строках, что «сладок ей вкус змеиной слюны».
«Как только сладким ядом змея грудь ей обслюнявит» — это строка из «Клеопатры» Лесьмяна. Сладость и ядовитость соединились у него в незоологическую систему: змеиный яд не является сладким. Во всяком случае, происхождение ГАДА глубоко укоренено в различных культурах (питон вуду[443], с которым танцуют и ритуально «общаются», тоже сюда относится). А также «змея Эскулапа», и змеи на митрах египетских священников, и сам уже не помню, где еще они почитались. Таким образом, эти коннотации и денотации, даже доисторические и «квазисакральные», выделяют его и делают «совместимым» с женщиной. И сразу в этом кроется неоднозначность. Когда я писал «Философию случая», я предлагал «эксперименты с текстами», в том числе и с поэтическими, поэтому можно смело попробовать.
- До тех пор ходила в сад постоянно,
- Пока в ольховнике ее не застиг змей.
Можно ли было так написать? В принципе да, но «змей» все-таки слабее, чем «гад». «Гад» — это и змея, но и что-то обобщенное: кроме того, и желтопузик — змея, и гадюка, а их не поласкаешь (хотя Клеопатре Лесьмян это позволил). Впрочем, начать с «до тех пор» — это уже в какой-то степени снизить экспрессивную силу: и поэтому нет другого выхода, как убрать полные молока груди, а эти груди три раза появляются в стихотворении («Груди к тебе наклоняю, как кувшин с молоком» и «Грудь ласкать зажатым в ладони лбом»).
Что касается ГАДА, «Варшавский словарь» уже в первом незоологическом значении указывает: «подлый человек». Можно сказать «ты, гад», но «ты, змей» — это уже скорее «ты, хитрюга», здесь происходит «семантически коннотационный перенос», а уже «ты, питон» — это почти гротеск! Поэтому должен быть «гад». Зоологически «гады» — это (согласно таксономии Линнея) класс, самих же «змей» (Serpentinae, Ophidia) около двух тысяч видов. Ясное дело, воспользовавшись «эхово-смысловым» потенциалом ГАДА, разместившимся между «эротическим искушением сатаны» и его «библейской неизбежностью» (ведь без змеиного сатанинского искушения не было бы библейского «сюжета», греха и изгнания из рая) — без ГАДА ничего бы не было, — Лесьмян использовал невероятно увеличенные «наслоения», отсылки, отклонения и мифологически-фольклорные изменения названия, по сути зоологически достаточно «невинного». Обобщим: ГАД — это и ругательство («ты, гад!»), и искушение в смысле эротического греха: одним словом, уже в названии баллады («Гад») показана ее глубина как амби-, а скорее поливалентность.
ГАД как наставник, зовущий к «наслаждению, более долгому, чем смерть». Это следует из вышесказанного. «Шипеть и извиваться, дрожать, как он». Совокупляющиеся пресмыкающиеся не знают никаких «вздрагиваний», которые ассоциативно восходят к «копуляционным фрикциям», типичным исключительно для млекопитающих, но поэт может не считаться с физиологически-зоологической достоверностью. Это садистский, а вместе с тем и мазохистский оргазм.
«Сон» появляется два раза: «учил совместным забываться сном» и призыв «начнется явь — и прекратится сон», таким образом первый «акт», «гадский» и «содомский», в конце оказывается лишь СНОМ. Но здесь, на грани «пробуждения» от мерзости «телесного греха», неожиданно отзывается «партнерша» гада:
- Не сбрасывай чешуи, не меняй облик!
- Ничего мне не нужно, у меня все есть.
Дальнейшая «конкретизация» «любовных утех с гадом»: гладит жалом брови, позволяет ласкать грудь, с головы до ног ласкает и ТРАВИТ. «Лбом ударяясь о край ложа» также «из этой безбожной области», так как в следующей порции интимного оказывается: это происходит в кровати! Плеск молока (здесь — женского) также имеет и символическое значение, и несколько реалистическое (есть змеи, способные питаться молоком). И одновременно желание, чтобы «не сбрасывал чешуи», снова подчеркивает, что это все-таки гад, змея, ведь ороговевшая чешуя — это действительно (зоологически) их «кожа». «Останься гадом и ласкай, и трави» должно окончательно зафиксировать и «пригвоздить» грешное как наслаждение, поэтому он должен и дальше «ласкать и травить». Меня всегда очень удивляло, что как обычные читатели, так и критики, живущие исключительно эстетической утонченностью, не падали со своего высокого положения от такого чтения.
На скромном пространстве в двадцать две строки (только с мужскими рифмами[444]) в этой «балладе» происходит как будто бы изложение или с большей грешностью повторение первородного греха, усиленное девиациями, когда гад искушает не «яблоком» или Адамом, а просто, неожиданно, САМИМ СОБОЙ. В этом переносе — сила точности, фатальной по значению; гад поступает, разумеется, по-своему, но женщина оказывается сразу рада этому, и даже очень. Однако как женоненавистничество, так и грешность той самой «распущенности» и согласие на нее, вместе с женской активностью («груди к тебе наклоняю, как кувшин с молоком»), полностью «скрыты» под сюжетной балладностью произведения, и здесь я старался этот ядовитый корень немного и только изначально выявить. Если же обратиться к «Царевне Черных Островов» или к «Панне Анне», то можно увидеть, какая начинка может крыться в стихотворении! Впрочем, сразу признаюсь, что жанр баллады, требующий «присутствия основной сюжетной нити» или мотива, такое исследование, как мое, сильно облегчает; с такими стихотворениями, как «Пан Блыщиньский», было бы намного сложнее (сложнее — не значит, что невозможно), так как одним из принципов Лесьмяновской парадигматики является «оксюморонизированная стратегия на онтологическом уровне», которая должна быть значащим рубежом просто потому, что автор (или его представители «нигилистического себялюбия» — как Пан Блыщиньский) из небытия — также во множественном числе — выдувает-создает бытии, полубытии, четвертьбытии, с различной скоростью возвращающиеся, а скорее распадающиеся в небытие. И из этого «существования несуществующего» Лесьмян создает настоящие «необычные конструкции», населяет их в разных мерах и измерениях, пока не нарушает границы там, куда я за ним (за поэтом) следовать не хочу, так как не могу. Как я упоминал выше, я не выношу «Пилу»; не знаю, но могу догадываться, что как человек, переживший эпоху «печей» и братских могил, я чувствую себя удивленным и пораженным игрой слов, которые не могли означать для Лесьмяна такую «трупную» дословность, такой распад, такое количество рвов, наполненных человеческими останками, которыми в действительности «одарила» вторая мировая война. И как мне кажется, этот эховый отголосок, это неустранимая ассоциация с человекоубийством делает для меня — может, и для всего моего поколения? — «Пилу» невыносимым произведением. Это должно быть так, раз уж мы живем ПОСЛЕ Освенцима, ПОСЛЕ Хатыни, ПОСЛЕ Треблинки. За Лесьмяном нет вины: то, что произошло, совершено историей — MAGISTRA VITAE[445].
III
Кто-нибудь может подумать, что семантическим препарированием Лесьмяновского «Гада» я пробовал «разложить» это стихотворение, то есть вникнуть в него настолько досконально, чтобы выявить «поэтичность его внутреннего содержания». О таком намерении, конечно, не может быть и речи. Старший школьник, владеющий основами полонистики, знает, что такое символизм, и понятно, что Лесьмян так им увлекался, что сам в нем утонул. Но так как все равно вопрос остается в наивысшей степени неясным, то, возможно, будет достаточно, если я снова обращусь к «Гаду», чтобы осмыслить первую его строчку:
- Шла с молоком в груди в зеленый сад…
Ранее я уже говорил, что полная молока грудь — это скорее признак женственности и в определенном (но только в одном из множества) смысле так, наверное, и есть. Во всяком случае груди с молоком выступают в стихотворении целых три раза. Так как предположение, будто бы Лесьмян стремился представить нам концепцию выращивания гадов как существ, вскармливаемых грудным молоком, полностью ложно, не обращая внимания на «Груди к тебе наклоняю, как кувшин с молоком», будем осуществлять поиск в ином направлении. В определенном своеобразном понимании это был бы напрасный труд, так как слова-названия, выступающие в символической ауре (особенно в стихотворении) не могут иметь никаких однозначных дессигнатов (денотатов) ни в номинальной, ни в реалистической интерпретации, так как если бы можно было такой названный символ (символически звучащее название) «пригвоздить», это ТЕМ САМЫМ лишило бы его символичности. В банальном объяснении это нечто схожее с духом, формирующим собой какую-нибудь простыню в движущуюся фигуру: если мы сорвем ее, то в руках у нас окажется обычнаю простыня, а дух сразу исчезнет (здесь можно сыпать примерами из заполненной духами литературы, особенно английской). Когда символически вариативное словообразование начинает смысловое развитие, то чем «глубже» мы проникаем, тем туманнее становятся потенциальные ссылки. Возможно, это еще лучше иллюстрируется через обращение к мультиинструментальному музыкальному произведению, во «фразе» которого нельзя разобрать, басы, или флейта пикколо, или тромбон, или тарелка наиболее значительны при звучании. Таким образом, мы имеем дело с полифоничной многозвучной случайностью, одновременно идущей из различных источников, и нечто подобное происходит с «полными молока» грудями у Лесьмяна. Здесь в самом деле каждое наименьшее определение поэтом хода высказывания имеет особую точность и вместе с тем не поддается даже мелким изменениям, так как слишком деликатно взвешено предикативное целое. «С молоком в груди» в определенном однозначно задаваемом смысле обязательно находится в оппозиции к «полным молока грудям», и не только потому, что парность этих грудей направляет нас куда-то в сторону кормилиц.
Во фразе «с молоком в груди» невидимо присутствует (противоречивость — это основополагающая черта настоящей поэзии) уникальность, внеродово-внеколыбельная, то есть одновременно вполне женственная и полностью выведенная за рамки наталистической[446] физиологии. Но это только «во-первых». Подытожим: женственность присутствует и «очень», и «вовсе не». Разве «молоко» должно было быть «приготовлено» для соединения с «гадом»? И «да», и «нет». Выбор конкретных слов здесь невозможен, так как это было бы ужасно банальным и повернуло бы ход повествования в совершенно нежелательную для субъекта повествования сторону. В то же вренмя назойливость «молочности» в стихотворении вынуждает задуматься, откуда она на самом деле берется и почему атакует нас как читателей такими настойчивыми повторениями? Ни один отдельный категоричный ответ не может удовлетворить исполнителя семантического исследования. Мы имеем дело с ситуацией, в которой нам нужно постепенно перейти к полуаллегорическому представлению.
Речь идет о чем-то очень характерном для стихотворений, созданных на конкретном этническом языке: перевод, в частности, так труден, потому что слова, фразы, идиомы, метафоры, гиперболы, метонимии и т. п., и т. д. уходят в глубь языка и только ТАМ звучат эхово-аллюзионно и деллюзионно, то есть производя своеобразный комплекс ощущений, нераскладываемых на отдельные элементы, так как если приступить к «вытаскиванию» их наверх, то есть к разделению, то они станут «увядать» по очереди «на наших глазах». Только их РЕЗОНАНСНОЕ присутствие; только в ДАННОМ языке, возможно, как допустимо возникающее и появляющееся (как в симфонии лейтмотив «судьбы», например, в «Пятой» Бетховена), будет ДЕЙСТВОВАТЬ. Кто об этом не знает и просто, как столяр, делает «перевод» из сгибаемых горячим паром деревянных прутьев, получает вместо стихотворения, пересаженного на чужой языковой грунт, мертвую деревянную утварь. История переводов полна таких мертворожденных результатов. Это их настоящий «морг». Глубина укоренения стихотворений в ДАННОМ языке сильно изменяема в зависимости от того, какую индивидуальность представляет собой автор (поэт). Конгениальные переводы — как правило, редкие — появляются, когда поэты одновременно являются творцами в различных языковых (= традиционных) кругах и равного «поэтического калибра». Поэтому Пушкин смог перевести Мицкевича, а Мицкевич мог сравниться с Байроном. Конечно, то, «до какой глубины языковых отношений» нужно дойти, чтобы возник случайно-совокупный эффект оригинала, нельзя вывести из каких-либо «логико-семантических» попыток автора, а это является результатом его дара, который я могу сравнить, пожалуй, только с той блестящей интуицией, что позволяет гроссмейстеру победить оптимально запрограммированный молох-компьютер. Этому не очень-то можно научится аналитически…
Таким образом, «под» отдельными словообразованиями стихотворения скрываются «невидимые» — особенно для профана — целые оркестры эховых «подзначений» и «недозначений», notabene иногда «частично» выступающих на «поверхности стихотворения», и эти капеллы в разной степени обеспечивают целостное восприятие прочитанного. Ясное дело, что эти многозвучные аккомпанементы, эти наполовину разбуженные отголоски, свидетельствующие о «глубине» стихотворения, вряд ли возможно выловить или выделить во время обычного и в особенности беглого чтения. Мы имеем дело с процессом, примитивной противоположностью которого является процесс, который я вскоре опишу. Так вот, когда нормальному языковому «исполнителю», особенно владеющему хорошей «готовностью к изъяснению», даже в голову не приходит, как или откуда берутся у него целые ряды высказываний, гладко льющиеся из его уст к слушателям, стареющий человек, у которого (например, в результате наступающего склероза мозга) уже начинаются проблемы с вспоминанием слов (названий, часто, в первую очередь, фамилий или «специализированных» названий, таких как диссипация, дистракция, дивагация, дисперсия[447] etc.), часто переживает следующие состояния. Он не помнит слово (название), а только его значение, то есть «профилированный понятийный контур». Попытка прямого припоминания и через некоторое время оказывается напрасной. Но потом, когда он думает уже о чем-то другом, название всплывает, «выныривает», появляется в сознании, подтверждая, что механизмы «information retrieval»[448], запущенные в действие предыдущим усилием, далее работали в подсознании, пока не нашли искомое слово, чтобы «забросить» его в сферу сознания: но и это не все. Бывает так, что всплывшее в памяти название предстает сначала как незнакомое и вызывающее неуверенность в его точности, будто что-то отделило его от своего давнего значения. Только через какое-то время оно занимает «соответствующее место» в интеллектуальном словаре, давая уверенность в том, что было выявлено точно. Можно себе представить, основываясь на работах нейрофизиологов, исследующих последствия мозговых травм («Ausfallerscheinungen»), что к этому названию механизмам «information retrieval» после напрасного поиска напрямую пришлось следовать окольными путями, аксоновыми петлями, из-за того, что множественные связи названия с его типичным «окружением» оказались неустойчивыми: отсюда впечатление непривычности и неуверенности, и только после повторного «захода» название «попадает» на свое место и оказывается «правильным», «хорошо известным». Такие случаи показывают, что нейрофизиология в своем сегодняшнем младенчестве не очень-то сможет нам помочь в выборе сжатых, контаминационных, иерархических полисемантизмов, кроме как указания на «большую стратификационность» процессов, создающих человеческий язык, и a fortiori[449] особенно плотно и неслучайно («антирандомизационно») присутствующих в поэзии, отягощенной богатством «символических загадочных оркестров». Из чего следует вывод, что, столько сказав о «Гаде», мы ничего не установили…
PS. Плохим у меня получилось пояснение, почему в «Гаде» должно быть «с молоком в груди», а не «в грудях». Парность ведь указывает на женственность и материнство как на ДАННОСТЬ, которую опустить нельзя. Когда я говорю «в груди», «грудь» выступает бесполо (как будто нейтрально). Так и должно быть, ведь «парные груди» — это для нас несомненный атрибут женственности. Я не говорю, что это ЛОГИЧНО: нет, но это как-то «семантически подтверждено». Мужчина как будто бы тоже имеет «груди», раз у него есть два соска, но мы будем скорее говорить о «мужской груди» в единственном числе: такое положение закрепилось, и нечего с этим не поделаешь. В то же время «с молоком в груди» как-то возвышается над уровнем телесной буквальной дословности: касается уровня метафоры и благодаря этому «держится» в стихотворении.
Меры поэтической точности очень субъективны. Редко случается, что можно достичь наглядного соотношения. Но в случае с Шимборской это оказалось возможным: достаточно просто сопоставить последние строфы «Альбатроса» Бодлера[450], переведенного Брониславой Островской:
- Поэт как князь пространства и блеска,
- Который вызывает бури, смеется над стрелами и силками,
- Но, изгнанный на землю, среди насмешек и крика
- Не может ходить, ибо помехой ему — крылья.
С переводом Шимборской:
- Поэт подобен принцу на облаке,
- Который братается с бурей, насмехается над лучником;
- Но отправленный на землю и гонимый на каждом шагу —
- Вечно о свои огромные крылья спотыкается.
Если кто-то не видит разницы (невыразимо сильной), то пусть прекратит рассказывать, какое удовольствие доставляет ему чтение Шимборской (после получения ею Нобелевской премии). Следовало порадоваться до этого.
IV
Очень глубоко увязнув в поэзии, я не сразу буду в состоянии выбраться из нее. Сперва меня удивили размышления Рымкевича в книге «Словацкий спрашивает о времени»[451], точно показывающие, как Словацкий начал то входить в роль пророка, то выходить из нее, и тем самым роль эту истолковал и неявно подготовил что-то такое вроде пьедестала, который может превращаться в люк театральной сцены — и что это тогда за пьедестал? Ничего, в конце концов, не приходило мне в голову по поводу того, что Рымкевич написал о той печально известной октаве из «Беневского», где Словацкий рифмует «szaf»[452] с «auto da fe»[453], а следующая рифма, говорит поэт, уже должна быть на «zyraf»[454]. И тем самым будто бы открыл в себе пророка. Но через мгновение меня посетила мысль, что он сделал это намеренно, так как существует больше подходящих рифм. В то время он жил во Франции, хорошо знал французский язык, а значит слово «gafa»[455], польский вариант от «gaffa»[456], должно быть хорошо ему известно. «Parafa»[457], возможно, появилось из более поздних словообразований: я не смог установить его возраст, это жекасается и «agrafa»[458], но «rafa»[459] уже точно присутствовало тогда в лексике, его красный цвет и его «океаничность» неплохо бы подошли поэту для этой октавы. И мне кажется, что в отказе от этого многообразия рифм, довольно далеких от «жирафа», проявилось своеволие поэта, который ЗАХОТЕЛ применить диссонансную рифму, хотя мог обойтись без этого. Впрочем, есть в «Беневском» («эта строфа имеет определенную запутанность» и подобных много) еще лучшие доказательства того, как под его пером портился романтический язык.
Другая — кто знает, не более ли деликатная проблема — касается нашего отношения к Великим Духам (здесь к месту такое высокопарное определение) и к вероятной дифференциации между Прекрасным и Правдой (философ-логик скажет здесь «свойство правдоподобия», однако я не люблю это выражение, поэтому буду просто писать «ПРАВДА»). Рымкевич в своей замечательной книге указывает на то, что если Великий Дух[460] написал «Генезис из Духа» и «Короля-Духа», то не может быть так, как словацкологи первого поколения провозглашали: действительно красивые фрагменты и все это вообще прекрасно, но абсолютно несопоставимо с обычной «партерной» «правдой», — из чего следовало бы, что Великий Дух, маниакально охваченный духом, написал глупости. Если красиво, то, следовательно, должно быть и правдиво? Такая категоричность сильно меня изумила. Не все ведь, что Красиво, обязательно является и Правдивым et vice versa[461]. Можно перечислять и перечислять великолепные шедевры живописи, начиная с Иеронима Босха и, естественно, не скоро заканчивая, в которых можно восхищаться красотой (часто грозной, как, например, в искушении святого Антония — тема, ПОДОЗРИТЕЛЬНО любимая многими художниками того времени, так как она открывала им дверь, закрытую цензурой для живописи на теологические темы), но в них нет ни следа буквальной правды, которую можно высказывать как выражение сути предшествующих утверждений. Впрочем, для меня «Самуэль Зборовский» был прекрасен, прекрасным он и остался, и, в общем, те оставленные Словацким фрагменты драм, те отрывки, что были в беспорядке, каким-то образом выиграли битву с течением времени (что удается не многим произведениям), а «Генезис из Духа» был и остается незабываемым из-за мотылька, появляющегося из горохового стручка, и ничего с этим не поделаешь. Словацкий не является никаким исключением среди Великих Духов. Можно без труда вынести фривольность Мицкевича (я не имею в виду муравьев или Телимены, так как я не уверен, что Мицкевич был их автором — здесь я дилетант), однако я знаю его стишок — тот, где он соревнуется с лакеем («брось лакея, комнатная кошечка, приди вечером в мою закусочную»). И не будем говорить, о чем этот Великий Дух разглагольствовал со своей горничной. А «Цвибак»? После каждого духа, большего или малюсенького, часто остаются отрывки, фрагменты, остатки, а то, что после некоторых самых малюпасеньких не остается ничего, просто происходит оттого, что кто-то действительно, то есть всерьез, не хочет, чтобы посмертно в его делах копались, и с успехом уничтожает в пламени. Я считаю себя духом малым, и поэтому — в огонь.
Интересным явлением назову двуязычие некоторых поэтов, писавших на обоих языках, которое я смог проанализировать. Болеслав Лесьмян писал сначала скорее по-русски («Лунное похмелье»), и спасибо издателям последнего тома «Избранной поэзии» (ALGO, Торунь, 1995) за то, что среди произведений они поместили эти русские стихи, набранные кириллицей. Это позволяет заметить нечто такое, что выразительнее всего проявляется у Рильке. Рильке писал стихи по-французски, и много, но куда им до немецких. Поэт, как мне кажется, глубже связан, а значит привязан (в смысле его глубинного укоренения и разветвления) к своему родному языку, то есть французский Рильке как рифмоплет так себе, правильный, но не более. И Лесьмян по-русски так же, ведь куда ему до польского Лесьмяна. Не являясь ни многоязычным компаративистом, ни даже образованным гуманитарием, я не смею утверждать ничего более существенного в этой области. Пожалуй, есть и исключения, и есть, пожалуй, также «застывшие» и закрепившиеся с течением времени обычные недоразумения: то, что англичане принимали за экзотизмы Конрада, бывало просвечивало полонизмами через покров английского стиля… Впрочем, мне кажется, что попытки переоценки текстов становятся доминирующими тогда, когда автор начнет подниматься на все большую Высоту, ведь в этом случае красивым становится и то, что ранее могло сойти только за дефектное.
Каждый, кто имеет особое непрофессиональное отношение к поэзии (я прошу прощения у полонистов), обычно не только выделеют какого-нибудь поэта как «своего», но сверх того особо ценит определенную часть в его творчестве. В силу неизбежности так же и со мной, и при этом я отдаю себе отчет в том, что то, что в поэзии Лесьмяна (и Словацкого также, но это уже отдельный вопрос, заслуживающий упоминания не в скобках) я считаю особенно прекрасным, прежде всего характеризуется «балладностью». Возможно из-за того, что приближался и даже начинался уже закат баллады, агонию которой (notabene красивую) у Кшиштофа Бачиньского заметил Казимеж Выка. Лесьмян же, до Бачиньского, мог еще достаточно уверенно идти по этим следам, хотя и у него уже можно было заметить определенное «расшатывание» баллады, представшее как ИНВЕРСИЯ прототипа (предчувствия) в «Гаде», а также как особого рода ТУРПИЗМ[462] в цикле стихов о «калеках». Безобразность в смысловых мотивах придает выразительность, то есть происходит некое «упрощение» явления, как в истории с сапожником, который сапоги шьет по мерке стопы Божьей. И поэтому известное поэту (очевидным образом) генографическое прошлое используемой модели стихотворения вынуждает его к бессознательному отказу от обычного эпигонства и ведет к гибридным, кроссвордоподобным, чаще саркастически-насмехающимся или красочно преувеличенным манипуляциям (Господь Бог, обнимающийся с дубом), нежели к драматизирующим: но если к ним, то тогда к трагически-фарсовым. Интересно, что феномен этих «видов», если позаимствовать термин из теории естественной эволюции (т. е. эволюционной биологии), появляется, как можно догадаться, не из серьезного обдумывания и осознания, что то, что было и родилось под другим, давнишним пером, увяло, и заново возродить ранее прекрасную форму не удастся. Поэт будто бы интуитивно избегает того, что уже завяло — не в том смысле, что уже ничего не стоит (наверняка баллады Мицкевича «сами по себе» ни чуть «не устарели»!) — а в том, что из осознания невозможности развития жанра стихи двигаются в таком созидательном направлении, которого до сих пор и не существовало. Иными словами, мне, как маньяку эволюционизма кажется, что «нет возврата», а кто все-таки старается вернуться, и при этом он не является эпигоном, то должен найти НОВОЕ: и каждый из Великих Духов за это НОВОЕ должен бороться со словом, хоть он вовсе может и не знать, откуда берется это долженствование. Приблизительно так, как в естественной эволюции, которая после плавания, ходьбы и прыжков должна была изобрести ПОЛЕТ.
V
Ранее я упомянул, что было бы трудно «разобрать» «Пана Блыщиньского». Наверное, я ошибся. Эту стихотворную поэму можно счесть как демонстрацию характерной для эпохи «поэзии in statu nascendi»[463], а согласно логико-семантической манере как «образцовое направление» поэтического строительства. Это, пожалуй, старый прием, и Словацкий также не был первым логомахом, когда в «Беневском» рассказывал о своем стихосложении, один раз более серьезно и романтически до самозабвения, другой раз — иронично и даже с сарказмом. Лесьмян, как более близкий нам по времени, «просто» говорит, ЧТО пан Блыщиньский сам «блеском своих глаз» «вывел из небытия» весь сад и, сопровождая по нему Господа Бога, взглядом заставлял «кривые деревья кое-как походить на нормальные». Господь Бог куда-то отлетает, когда они натыкаются на девушку, которая ни жива ни мертва, состоит как будто из самой несубстанционной семасиологичности, и она «должна» обратиться в небытие, из которого появилась, так что напрасным оказывается любовный труд героя. Когда о таких вещах рассказывается словами, как при починке старой поношенной одежды выступают не только вся наметка, все швы, но также какая-то комичность наряда и системы в целом. Ведь явления, выведенные в действительность, даже посредством стихотворения, и через это — ближе к обыкновенности феномена, усиленные метафорой, рифмой, ритмом, в конце испускают дух.
Интересной представляется возможность такого сопоставления: «как это делал Словацкий, а как Лесьмян». Словацкий развлекался, но и гремел дигрессиями, также и самовозвратными, в песнях «Беневского», и аккомпанирующая эмоциональная гамма охватывает весь регистр: от насмешки до грома. Лесьмяновский стих лишен таких органных звучаний: эмоционально его можно было бы разместить на одной «пятилинейке». Соответственно «сюжет» прост, зато орнаментация (и «намеки») создает впечатление, что это все ни из этого, ни из того мира. Поток фраз выявляет что-то наподобие грани, то есть путешествия по критической границе между тем, что создано словом, и тем, во что в конце должны погрузиться эти образования: в Небытие. Впрочем, преобладание небытия у Лесьмяна «почти везде» легко доказуемо. (Как в стихотворении о молотах и девичьем голосе — назовем для примера). Самым удивительным мне всегда казалось то, как слабо его современники смогли оценить уровень этой поэзии. Но так уж происходит с каждой величиной, достигающей наивысшей точки в своем инновационном развитии: и поэтому только шесть физиков в целом мире заметили космический размер теории Эйнштейна, поэтому и Нобелевский комитет не отважился отдать ему награду за теорию относительности (а только за его работу о броуновском движении). До «всеобщей коронации» современникам было сложно распознать подлинность ее превосходства. Сам того не желая, этими словами я задеваю и Словацкого. Правду говоря, я воспитывался на нем будучи мальчиком, и издание в синем переплете, которое отец купил мне во Львове, я вынужден был повторно купить себе в Кракове в переиздании от 1952 года. Я ценил Мицкевича, но тянулся к Словацкому, и сейчас вам скажу, к КАКОМУ Словацкому. А именно: к пяти первым песням (так это называется?) «Беневского», а в них к ДИГРЕССИОННЫМ октавам, к фрагментам «Горштыньского» (к захватывающему разговору Сфорки с Тромбонистом) и, наконец, частично к такой драме, как «Балладина», ведь тогда я еще не знал «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Но к «Беневскому» больше всего, а в нем, наверное, сильнее всего к строфе:
- Я вижу, что Он не только червей
- Бог и того создания, что ползает,
- Он любит шумный полет огромных птиц,
- А буйных лошадей Он не усмиряет…
- Он — огненное перо гордых шлемов…
- О великом поступке я часто Его умоляю, не слезой,
- Напрасно пролитой перед костела порогом:
- Перед Ним падаю ниц — Он является Богом!
Это, возможно, отчасти потому, что в предыдущей строфе речь идет о целых пластах скелетов, зарытых глубоко в слоях Земли, а ведь это было написано за двадцать с небольшим лет до Дарвина с его эволюцией, но во время моих первых прочтений «Беневского» я параллельно зачитывался «Большой иллюстрированной природой» о мезозойских пресмыкающихся и их палеонтологическом открытии и, наверное (НАВЕРНОЕ), каким-то образом у меня наложилось одно на другое.
Итак, я уважал Мицкевича, любил, конечно же, Лозаннскую лирику, однако по своей же воле вновь возвращался к «Беневскому». Добавлю, что у меня было также полное издание Фредро в беловато-сером переплете, которого у меня уже нет, и что я очень старательно в нем шарил, но даже тогда я чувствовал, что и «Месть», и «Дамы и гусары» — это уже не то: другой калибр.
Сейчас я заново начал читать «Беневского» поочередно с книгой Рымкевича «Словацкий спрашивает о времени»: первая часть этой книги кажется мне необычайно точной, невеселая история Словацкого оказывается настолько воскрешенной, что пусть исчезнет вся киберпространственная итерационная виртуальная действительность, я даже слышать о ней не хочу, потому что она является каким-то воплощением маниакально патологических мечтаний-желаний инженеров-связистов, выдумывающих (впрочем, все более эффективно) мега-, а уже почти и терабайтовые калькуляторы, концепторы, компьютеры и «компьютерно-цифровую одежду»: то, что можно было бы натянуть на спину, чтобы фантоматически попасть в Фиктивную Реальность. Но я предпочитаю «Беневского».
Зато я ни в коей мере не соглашался с «Генезисом из Духа», превращение же стручка гороха в мотылька я принимал за чудачество, просто-напросто вызванное желанием объять словами то, что в то время было невозможно объять. А от «Короля-Духа» я отпал, как от стен стеклянной горы. Было бы, впрочем, ненормально (как мне кажется), если бы сохранилось творчество какого-либо поэта полностью. Несомненно, я уважал Словацкого за строки «Однако перед поэмой падает / какой-то огромный престол темноты» и мне было обидно (по крайней мере) за Мицкевича, чье отношение к Словацкому в названной книге Рымкевич отразил так искаженно, что аж мороз пробирает. Это все-таки Гете был, по мнению Шиллера, скажем деликатно, «совершенно другим».
А как узнать, что я не выдумываю или попросту не лгу, говоря о своем восхищении «Беневским»? По тому, что я могу цитировать то, что читал во Львове шестьдесят лет назад, по памяти. Это мне будто «врезалось» тогда в память и так уже там и осталось. (Кстати, вот вам первый тест с ходу в рамках болтовни о патриотизме: каждый кандидат должен процитировать Что-либо из нашей Великой Поэзии, ведь это на ней, а не на пустой болтовне, на ней, то есть на культуре держится польский патриотизм. Впрочем, это очевидная наивность, ведь если бы знали заранее, то каждый подготовил бы дома пару строк или строф). Другое дело, что я тогда и понятия не мог иметь об индуктивно-лексикографическом расследовании Рымкевича, при помощи которого он открыл, как и где в «Беневском» Пророк отрекался от Пророка благодаря приему, известному сегодня как самовозвратность (добавлю: иронично-скептическая) языка, который сам к себе присматривается и сам себя оспаривающе-развлекательно анализирует. Это святая правда, хоть я и не уверен, прав ли Рымкевич на сто процентов, говоря, что мы вынуждены были бы ждать аж Гомбровича, если бы Словацкий не осуществил «деромантизацию» традиционной романтической лексики. Тем более, что несколько размытые следы сомнения в необходимости романтического сленга Рымкевич обнаруживал у Красиньского и у Мицкевича даже в «Лекциях», о чем ничего здесь сказать не могу, так как никогда их не читал. Ведь я «должен был» читать и профессора Выробка, и ту «Иллюстрированную Природу», и многочисленные книги Польской Энциклопедии (о бактериях Левенгука), а сперва — Эддингтона, чей (случайно единственный) немецкий перевод книги «Der innere Aufbau der Sterne»[464] сопровождал меня все время немецкой оккупации, даже когда весь замасленный я возвращался домой из гаражных мастерских фирмы «Siegfried Kremin»: тогда я зачитывался Эддингтоном, а ведь это было время (я имею в виду время написания книги Э.), когда об атомной энергии, о цикле Бете как об энергетическом источнике звезд, а значит и Вселенной, никто не имел ни малейшего понятия, но Эддингтон своей математически выверенной интуицией вторгался в звездные недра. И никто ничего не слышал о «Черных Дырах». Но после мастерских у меня все-таки на чтение время было, поэтому я покупал немецкие газеты: «Das Reich» всегда с вступительной статьей доктора Геббельса, «Adler» и «Wehrmacht», иллюстрированные журналы и, как вспоминал в свое время Анджей Киевский о восхищении тевтонской мощью, я ею, может, и не восхищался, а скорее от всего сердца желал, чтобы она себе поломала руки, ноги и броню в России, однако не без удивления просматривал те газеты, и корреспондентов «Berichte PK» читал, и слышал на улицах Львова, как пели «Heili-Heilo» крепкие блондины, которые шли на восток, чтобы наконец удобрить своими телами украинскую и российскую земли, и такими были мои молодые годы.
Еще один вопрос — и кто знает, не самый ли важный — который я по возможности хочу затронуть. Кроме того, о чем я уже написал, есть еще такой нетронутый поток, существующий в поэтическом языке, который воздействует на чувства — но я не отважусь назвать его просто «эмоциональнотворящим». Я имею в виду то, что рифма, что ритм, что форма (сонета, триолета, секстины, октавы), что дактили, ямбы и т. д. образуют особое, но существенное течение, неотъемлемый приток, который на ВПЕЧАТЛЕНИЕ, вызываемое стихотворением, может оказывать решающее воздействие, при этом такое, к которому практически невозможно подобраться «разборами» и «анализами». Что можно было бы, впрочем, доказывать, показывая, что построенное на таком лейтмотиве стихотворение, переведенное на язык «фрагментарной прозы», ИЛИ поданное под «другими лексикографическими» приправами и соусами, может сохранить смысл, но вместе с тем полностью утратить первичную внутреннюю красоту. И может быть «наоборот», в том смысле, что стих может не иметь «никакого смысла» и одновременно вызывать впечатление, что он прекрасный. Окончание стихотворения Галчинского о путешествии в карете с пьяным возницей и кнутом шокирует нас: «А они ничего не знают, потому что они умерли». Я не знаю и никто не сможет узнать, это «умерли» ТОЛЬКО потому появилось, что «плечи обожгли» было раньше и из-за этого такая рифма ему навязалась, но «УЖАСНО НЕ ПОДХОДИТ». Так, как бормотание в «Бале у Соломона» («Мир — говорит — как кукла исчезает», ЧТО попросту ничего не значит ни непосредственно, ни метафорически: куклы не исчезают). Впрочем, в любимой строфе «Беневского», которую я ранее процитировал, «Он любит ШУМНЫЙ полет огромных птиц» также в обычном понимании «непонятное» чудачество, так как полет больших птиц может сопровождаться лишь их криками: ни крылья птиц, ни летающих ящеров не могут издавать «шумных» отзвуков. Однако это совершенно не мешает! Сейчас поэты поломали стихотворениям рифмы, лишили их ритма, сотворили — в моем понимании — много ЗЛА, так как когда я приступаю к онтичным (или только эпистемологичным) рассуждениям, предпочитаю Рейхенбаха или Виттгенштейна (но НЕ Хайдеггера, ведь он писал своим чудаковатым стихом, а Дерриду я также не выношу). Здесь, конечно, ничего не поделаешь. Я еще много мог бы говорить о поэзии, например, пробовать объяснить, почему стихотворение Лехоня на смерть Словацкого превосходно, а стихотворение Тувима — нет (в частности, Тувим «ухудшил» произведение из-за «приветствую, тесная могила» и т. д.: это получилось плохо). Однако видно, что до «сути» поэзии добраться все равно не удастся, и поэтому в этом вопросе я должен умолкнуть.
Меня преследовал заключительный фрагмент «Роз» Лесьмяна:
- А рыцарь на это: «Умерла слишком рано!
- Снова ее должен навещать во сне,
- В две могилы войду
- Я — господин, я — сон, я — дух!».
Последняя строфа напомнила мне мелодией русского поэта Державина, которого я никогда, впрочем, не читал, кроме фрагмента, известного из «Воспоминаний голубого мундира» Гомулицкого. Желая выловить из небытия этого Державина, я сейчас заглянул в соответствующий том новейшей энциклопедии Научного Издательства, впрочем, зная наперед, что попаду в пустое место, потому что еще не случалось, чтобы поиски какой-либо статьи в этой энциклопедии увенчались успехом! Notabene я уже подарил ее кому-то и скоро из моей библиотеки исчезнет этот несостоявшийся шедевр. Разумеется, что Державина в ней нет и следа, но зато в НЕМЕЦКОЙ энциклопедии 1983 года, которая у меня есть, я нашел много информации об этом поэте. Впрочем, меня поразило только то, что последний стих Лесьмяновских «Роз» будто эхо перекликается со стихом Державина. Вполне возможно, что он читал, а значит, и знал поэзию Державина, ведь это был поэт, которого изучали в русских школах — правда, сомневаюсь, что при Сталине. Этот последний страшной тенью лег на поэзию, прежде всего русскую: а ведь это был источник, плохо сказано, система гейзеров невероятной силы. В итоге марксизм-бандитизм, как я его назвал в парижской «Культуре», угробил не только миллионы людей, но и стихов. В своем «Осмотре на месте» различным марксам я устанавливал «памятники позора», окруженные мраморными плевательницами для прохожих. На самом деле бессилие становится матерью иронии и насмешек, поэтому счастлив тот, кто, как Лесьмян, не дожил до сентябрьской катастрофы тысяча девятьсот тридцать девятого года.
VI
Подозрение, что пусть и в пределах «репрезентативной выборки» я «разгрыз» поэзию Лесьмяна, является, разумеется, наивным недоразумением. Что касается «Пилы», то эти «некрофильские забавы», представленные в стихотворении, только поражают меня по причинам, которые я разъяснил. Опять же меня можно спросить, по какому праву я отвергаю «Пилу». По такому, что переживания, вызываемые стихотворением (текстом) необъяснимы: они остаются МОИМИ, а если другие читатели, другого возраста, эпохи, происхождения по-другому воспримут «Пилу», — это уже меня не касается. Как исследователь стихотворения я не ощущаю себя ничьим представителем. И хватит о «Пиле». Но у Лесьмяна можно найти и «худшие» стихи, не в смысле их поэтической ценности, а в смысле содержания, вплоть до богоборческих. Бог Лесьмяна или бездействием, или безмолвием подтверждает свое отсутствие, или чуть ли не пускается «в такие бега», как в «Пане Блыщиньском», являя полное пренебрежение к хлопотам пана Блыщиньского, можно даже сказать, что невежливое, хотя из savoir vivre[465] можно узнать о теогонии не самые приятные вещи. Кроме того, Лесьмяновским героям или героиням рассвет потустороннего мира «действительно» представляется пустотой, чем-то невиртуально наполненной. Стихотворение «Ядвига» о романе героини с «червем» с «увлажненной раскрытой пастью» заканчивается уже после «любовного» использования женщины этим «червем» (внимание: лексическая форма «увеличивает» его, так как, видимо, поэт не хотел вводить в стихотворение более «правдоподобного» по размерам паразита) строками о потустороннем мире:
- А там небытие, разложившееся от долин до самых вершин!
- И плясал, и смеялся белый скелет Ядвиги…
Здесь мы уже имеем дело с танцем скелетов («Totentanz»), правда, в сольном исполнении. А когда поэт наиболее сильно переполнен уважением к скорби, о Господе Боге может сказать только это:
- Боже, отлетающий в чужие для нас края,
- Повремени со своим отлетом —
- И прижми с плачем к груди этого вечно обижаемого,
- Верующего в Тебя недостойного!
Такое отношение к Богу стало причиной моего предыдущего цитирования октавы из «Беневского», в которой пророк «падает ниц» перед Богом Ветхого Завета. Вообще «бихевиористическая идиография» отношений наших Величайших Духов с Богом и Его помощниками выявила бы не самые приятные вещи для истинно верующих («Польша, твоя погибель в Риме»[466], да и процитированное во вступлении к этим заметкам «маленькое» стихотворение Мицкевича, а точнее говоря — его отрывок). Лесьмян жил почти на полтора века позже, но ничего не поделаешь: он ТОЖЕ водится с Божьим потусторонним миром и Божьим безразличием, не заметить которое мне не позволяет правило, которому я всегда следую: дипломатия, манеры и тому подобные уклонения, каким-либо образом расходящиеся с правдой, никогда не допускаются по отношению к литературе.
По отношению к Богу заметна непоследовательность, по крайней мере несогласованность позиции Лесьмяна. Так как он обоснованно вводит Бога в «действие» многих стихотворений, кажется, чтобы получить «Божественное сальдо», нужно использовать статистический подход (хотя я хорошо понимаю, что это звучит довольно глупо). Господь Бог часто присутствует, но использует такие уловки, будто бы не хочет брать на себя ответственность за то, что происходит. И в «Пане Блыщиньском» нинасколько не поддается мольбам героя («будь милостив к небытию, ЗНАЮ, ЧТО БУДЕШЬ») — «Но Бога уже не было» в то время, так как он удалился «воздухом, сотрясающимся воздухом». Уршуля Кохановская, как и Дон Кихот, «нуждается» в Божественном знамении или только в намеке на такой знак, чтобы его отвергнуть (Уршуля отложила бы прибытие родителей до появления Бога, а Дон Кихот отвергает его приближение несимволическим способом). Очень красивое по своей композиции и по компактности стихотворение «Накануне своего воскрешения, накануне жития» кажется здесь исключением из менее набожного правила, однако логическое и эмпирическое следствие — это последнее, что можно и следует ожидать от поэта. Кроме «Божьих уловок», заставляет задуматься не только Божья пассивность (путешествие «аллеями, аллеями» в «Пане Блыщиньском»), но даже самые несдержанные мольбы в специальном реквиеме для умершей сестры (повторю):
- Боже, отлетающий в чужие для нас края,
- Повремени со своим отлетом —
- И прижми с плачем к груди этого вечно обижаемого,
- Верующего в Тебя недостойного!
Однако эти отлеты преобладают и неким усилением как будто религиозной условности образуют другие, менее богохульные смыслы, хотя, как это следует с «птичьего полета», то есть из полного осмотра посмертных пейзажей Лесьмяна, небытие не только служит ему так, как физикам сегодня служит вакуум (как избыток чисто виртуальных, «выскакивающих» из «упорядоченного небытия» вселенных, всего лишь на мгновения, чтобы эти «выскочки» поместились в щелях НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ), но КРОМЕ ТОГО (что может быть плодотворным «источником») выявляет свою оскалившуюся «разлагаемость». Так как фактическое гниение, разложение, превращение тел в трупы, в «белый Ядвигин скелет» (у меня такое ощущение, что «в любовных сценах поэзии» это довольно чудовищное исключение) соседствует с тем, плодородным небытием, и поэтому Лесьмян — как ПОЧТИ каждый поэт высокого класса — должен не ладить с «отлаженными» и «поучающими» учреждениями веры (ср. «Магистериум римской церкви»). Не только Словацкому суровый Иегова бывал ближе, чем евангелический Бог. И не Лесьмян первый узнал сатану, который «прадавнее различие / Между собой и Богом стирает окончательно».
Из этих балансирований становится виден Бог, прежде всего БЕССИЛЬНЫЙ по отношению к созданию, который уже исходя из этого титула, лишенный всесилия, или просто нежелающий использовать силу, использует побег или ограничивается пассивным молчаливым присутствием. По причине такого статуса Божьих дел, я не в состоянии взяться за более глубокие аналитические рассуждения, которые установили бы всю правду.
В «Элиасе» Бог есть, он создал Вселенную и жизнь в ней, но говорит пророку: «Большего сотворить не могу». Это приблизительно означает, что «у Бесконечного есть границы», Элиас пересекает эти границы, за Богом и его творением, чтобы раскрыть «иную явь, чем явь Существования». В метафизическом плане Лесьмян был более ненасытным, чем следовало бы. Впрочем, что естественно в такой поэзии, в некоторых стихах Бог появляется почти мимолетно, будто бы он был одним из сценических персонажей. Трудно преувеличить, какое это имеет значение, так как Лесьмян не столько, может, усердно, сколько незаметно для себя стирает границы между Бытием и Небытием; можно было бы составить, хотя я не совсем понимаю, для чего, целый список таких переходов, которые не всегда заканчиваются падением в крайнее Небытие. Это не так, ведь этот странный жаловался на одичание обычаев в загробной жизни, и в этих жалобах не было даже малейшего намека на усмешку, которая мне по крайней мере просто должна была казаться явной. Поэзия Лесьмяна — одно из тех удивительных созидательных достижений, которые исключительно долго, несмотря на очевидную публичную привлекательность, остаются как бы незамеченными и даже топимыми в пренебрегающем безразличии так называемых знатоков, которым в моих глазах грош цена. Здесь все практически так же, как и с раскопками какой-нибудь поэтической Помпеи, когда приходится с раздраженным пожатием плеч целыми пластами откидывать замечания, напечатанные и в «литературных» журналах. Впрочем, nihil novi sub sole[467]. Как, хотя и совершенно по другим причинам, Словацкому повезло в Париже? Признание не только первоначальное, но и длительное, представляется участью подлинно Великого, однако же то, что среднее и легче воспринимается интеллектуально, легче может получить всеобщее признание. Впрочем, все поэты — что я говорю, все, пожалуй, художники, — полностью отказавшиеся от элементов китча, те, кто попросту устанавливает долговечный статус своей национальной поэзии, являются будто бы собственностью всеобщего разума, и, в сущности, могут быть питательной средой для элиты, а если и элита не в состоянии разглядеть в них выдающихся современников, наступает кончина, которая вовсе не всегда должна быть только летаргией в ожидании определенного пробуждения, а потом воскрешения в славе. Здесь нечего выступать с нареканиями, ведь таковы превратности судьбы, управляемые ходом времени, и это не только в Польше. Может, когда-нибудь кто-нибудь возьмется за исследование, где и как на различных культурных территориях были погребены выросшие на них Великие Духи — и существует ли вообще шанс на их пробуждение…
Сильвические размышления LXII: Что изменилось в литературе?
Просмотрев «Интеллектуальную автобиографию» К. Поппера («Неутомимые поиски»), я погрустнел, так как английскую версию читал более десяти лет назад и сейчас убедился, как много уже анахронизмов в творчестве Поппера. Частично они касаются логических отношений (эпистема в физике, например, претерпевает неизлечимые антиномии, «ибо таков локально-нелокальный мир»), частично его концепции «трех миров» с признанием метафизического статуса Дарвиновской эволюции. А еще от Гиббса известно, что стохастические процессы, происходящие с четко выраженной большой долей марковских процессов, плохо или вообще не подвергаются когнитивной ретрополяции. Это можно просто — образно — проиллюстрировать так: механизм действия рулетки (Монте-Карло) очевиден, но знание того, что выпало в данной игре, нельзя использовать для установления того, что выпадет в следующих! Разница только в том, что фоссилизация сохраняет в геологических стратификациях останки, в том числе позвоночных животных, и это является доказательным материалом эволюции. Зато следы предыдущих игр в рулетку не существуют вне человеческой памяти. Меня охватила грусть, ведь нас заливают волны такой инновационной информации, стирающей вчерашнюю правду, что нужно постоянно переучиваться заново. Я должен убрать из библиотеки около тридцати процентов книг периода «hard science»[468], так как они уже устарели, но как-то не поднимается у меня рука. Впрочем, сегодня это второстепенно. Меня беспокоит вопрос, может ли быть так, что только телевидение, особенно спутниковое, Интернет, средства массовой информации на службе у примитивизма и аварий, ведут к большому отдалению от художественной литературы как источника наделенного знанием о мире? Время, когда Пилсудский романтично возвышался над доставленным в Польшу гробом Словацкого, это безвозвратное прошлое. Сегодня наступила эпоха денег, рынков, надгосударственной «глобализации», террора различных мастей, так что следует осторожно, но с помощью острого скальпеля слова поставить вопрос: что изменилось в большой литературе со времен моей молодости?
Прежде всего из поля зрения исчезла Большая Проза. Возьмем ли мы «Красное и черное», или «Войну и мир», или «Человеческую комедию» Бальзака, или «Волшебную гору»[469] (Нафта contra Сеттембрини), или даже Гулливера или Робинзона Крузо, или «Дневники Пипса»[470], или «Семью Тибо»[471], или «Гаврского нотариуса»[472], или рассказы Шницлера — везде принцип значащей структуры (композиции) произведения двоякий и под давлением примитивного деления мог бы соответствовать тому явлению Келеровской психологии личности, которая называется «FIGUR-HINTERGRUNDBILDUNG» — то есть появление определенных «личностей» на каком-либо конкретизированном, как эпоха, фоне. Или, если говорить совсем просто, из такой литературной прозы можно добыть знания о времени ее возникновения — демонстрирующего свою историческую тождественность — во всем многообразии. «Облик истории» всегда является там обязательным фоном.
Итак, на авансцене или на самой сюжетной сцене идет какая-то игра, возможно, и с одним действующим персонажем (здесь и Дон Кихот, и Робинзон, и Гулливер). И есть ФОН: на нем возникает более или менее переданный, часто становящийся тайной пуповиной, мотивирующей игру актеров, GENIUS TEMPORIS[473]. То есть, проще говоря, даже из якобы вакуумного окружения Робинзона можно вычитать целую эпоху, присутствующую неявно: начиная от отношения к божественному демиургу и заканчивая ручным изготовлением дефектных, но необходимых для жизни горшков. В «более многолюдных» произведениях эта неявность постепенно становится зримой, а одним из последних доказательств может быть мир, видимый главным героем книги Сола Беллоу «Планета мистера Саммлера».
Там даже в беседах Саммлера с японцем, у которого Шула-Слава украла рукопись, мы видим окружающий мир во всем переплетении его спорных различных течений, как политических, так и гангстерских (сегодня одно часто бывает смешано с другим). Временами первый, «личный», представляемый читателям план, так «выступает и смешивается» с фоном большой исторической сцены, как у Толстого, скажем, в «Войне и мире», и даже у Достоевского в его не особо «продуманных» «Записках из Мертвого Дома»; раньше таких произведений было очень много. Разумеется, подобно тому, как под Иисуса «подложили» крест, и крест этот навсегда стал символом и знаком веры Христовой, так иногда различные авторы эпохи «Figur-Hintergrund-bildung» «подкладывали» для полноты своего рассказа и распинали какой-нибудь великий мифический проект (я не говорю «схему», так как это прозвучало бы отвратительно). Так, например, Томас Манн «подложил» под повествование в «Докторе Фаустусе» миф о продаже души дьяволу, а Гете, в свою очередь, от которого это пошло, воспользовался еще более древним соединением поступков с силами ада. Это значит, что фон не обязательно был единственным и что, кроме течений и направлений, которые историк-социолог смог бы выделить своим профессиональным методом, в сценографическом и панорамном изображении фона принимали участие как однозначно, так и разнообразно определяемые элементы. Это значит, что то, что одно тогдашним читателям казалось стратегией игры в то время, для читателей более поздней эпохи стало другим, но как бы то ни было, возникла симфония с лейтмотивом на первом плане. Так было, и благодаря этому тот, кто насладится «Признаниями авантюриста Феликса Круля» Манна, постигнет дух эпохи, а кто, смеясь, узнает от Гашека о приключениях Швейка, увидит войну Австро-венгерской империи — но уже в фазе распада — с Российской империей, только увидит это в кривом зеркале.
Я вовсе не утверждаю, что писатели стремились прежде всего к изображению широких и даже многослойных панорам, чтобы только двигались фигуры на их фоне; что Александр Гловацкий, он же Прус, задумал дать черно-белую диаграмму девяностых годов прошлого века, а Вокульский, панна Изабелла, Жецкий, Старский et tutti quanti[474] были для него просто фигурами, передвигающимися на исторической шахматной доске. Ни он, ни те, которые выдумывали «Гильгамеш»[475], хотели не этого. И хотя Прус намеренно задумал «Фараона» для себя в виде какой-то (но не знаю точно) аналогии-аллегории царизма (обстоятельство вторичное для мира, но неприятное для поляка) и как-то это «получилось», и то, что Мика Валтари в «Египтянине Синухе» подобное драматичное зрелище выполнил лучше Пруса, свидетельствует только о том, что я старательно пытаюсь донести. Notabene даже Эхнатон[476] оказался для него некоей префигурацией Иисуса, впрочем, появление образа Создателя-женщины (соответственно Человека) почти constans во многих мифах и верованиях. Однако я совершенно не собираюсь вникать ни в какое направление религиоведения, имплантированного в беллетристические легенды. Я имею в виду только то, что историк, немного знакомый с социологией, из многих произведений, созданных в период с XVIII до XX века (но не до конца XX века), вычитает и эпоху возникновения, и преобладающие в это время социальные предпочтения, и может выявить «дух времени», и распознает смыслы, которые люди тогда придавали современности, и поймет, что раз и навсегда они были как насекомые погребены в янтаре, что эта застывшая смола прадавних эпох заключила их в своем времени, но благодаря мастерству пера и чернилам осталась довольно прозрачной, чтобы мы могли их рассмотреть, понять и даже им посочувствовать. Вот то, что молниеносно, очень компактно я смог здесь набросать, что вместе почти со всем тем прошлым ушло и не оставило после себя почти ничего.
Представьте себе, странный и совсем немногочисленный Читатель, археолога, который с лопаткой, с дрожью в руках через двести лет приступит к раскопкам ветхих книг, появившихся в конце двадцатого века. Что он найдет такого в беллетристической прозе, что ему хотя бы подсказало или предоставило какой-нибудь ряд улик: какие социальные течения, мыслительно и политически главенствующие, ведущие за собой массы, какие человеческие типы, какие виды романов (притяжения полов), какие главные личностные и коллективные конфликты были отличительными и главными явлениями исторической феноменологии в раскапываемом им времени? Во-первых, искусство как придание ценности формам, выводимым из беспорядка мертвой материи, он не отличит от мусора, хотя здесь я отвлекаюсь, но не совсем, ведь мусор — это почти уже дно энтропии: тогда он узнает, что двадцатый век у своего финиша был окрашен разложением, безразличием, декомпозицией не только в так называемом пластическом, изобразительном и скульптурном искусстве, но и в сфере звука в виде лихорадочного стука, танцев, возникших из эпилепсии, послеродовой эклампсии, рычания и судорог. Во-вторых, что касается так называемых произведений прозы, то он распознает их массовое тождество во множестве их маниакальной навязчивости, из которого выделяется многообразно приспособленная, но все та же самая Задница, как святыня любви (что его удивит, ведь даже маркиз де Сад эвфемизировал[477] сперму на кадило, человеческие же детородные органы также не унижал ананкастической[478] повторяемостью в стиле таких книжечек, как «Siloe», доведенных до нечитабельности, ибо словарика непристойностей с лихвой хватит, чтоб заменить такого типа «прозу»). Напрасно будет он стараться из тысячи — плохо сказал, — из миллиона разноязычных книг, изрыгаемых на книжные рынки, узнать что-нибудь об Эпохе, о ее идеологических предпочтениях, о столкновениях и сплочении религий, разрываемых сумасшествием сект, часто суицидальных, напрасно он будет стараться восстановить Дух времени, он не узнает о нем ничего больше, кроме того, что в цене росло все, что еще хотя бы частично находилось под охраной культурно-традиционного табу; узнает затем, что каждого пятого ребенка насиловал папочка или дядечка. Одновременно процедуры, имеющие целью заполучить так называемую прибыль, или денежные знаки, определяли Западню общечеловеческой борьбы, вследствие чего небольшое разнообразие представляли только способы — как правило, «криминальные», — которыми люди боролись за крупную наличность. Кто же не хотел, кто вздрагивал перед назойливостью любителей различных дам с силиконовым бюстом, демонстрирующих свои генитальные особенности, кто хотел защититься от распространенного во всех СМИ мордобоя, тот выполнял маневры с двоякой ориентацией: или исследуя собственное воображение, то есть отдаваясь высокомерному параноидальному онанизму, или выполняя эскапистские ходы или даже прыжки в не очень далекое прошлое, и благодаря этому не сильно утомляя читателя. Если кому-нибудь захотелось бы узнать, набирали ли скорость информационные фурии и компьютерные гарпии, или невообразимые космологические фантазии и отчаянное стремление втиснуть человеческий разум в квантовый мир, туда, где ему не место, куда ничего, кроме белой трости слепца — математика, — не введешь, то он даже об этом бы не смог догадаться из чтения бестселлеров или массового чтива, или снобистской писанины наивысшей пробы, деконструктивистски разделяющей дистилляцию того, чем и как человечество, гонимое набирающими скорость молохами всепожирающей механизации (которую в погоне за деньгами само сотворило мозгами малооплачиваемых спецов, так называемых ученых), жаждало, несмотря на этот разгон, успокоиться и найти Грааль своего смысла. Так как все — а не только запрещенное Церковью умерщвление плода — было уже абортируемо, так как силой неизбежной моды то, что появилось вчера, должно было только из-за этого «вчера» стать худшим и вытесненным на помойку, а скорее выпихнутым туда Сегодняшним Продуктом.
Так как я не являюсь тем будущим археологом, я не могу поставить определенный диагноз, вызваны ли эта всепроникающая акселерация, это обмельчание искусства, опускающееся уже до клоак, эта быстрая смерть фильмов, книг, авторитетов, это возведение на пьедестал Никого — вызвано ли все это ускорением демографического взрыва человечества, от чрезмерной мощи которого (кроме вулканов и терроризма) защищает уже только презерватив. Или, возможно, эта абортивность, повсеместное влияние недоносков (а интересы их неисчислимы: от колебаний моды на одежду до моды на веру, раздробленную сектантством, вплоть до суицидального эскапизма) — это хилиастическая[479] закатная истина конца тысячелетия. Одним словом, вижу, но не понимаю. Может, этот «техноконь» из когнитивистской[480] конюшни, которого мы оседлали для переезда, понесся и вдруг превратился в чудовищно несущегося демона, так, что сердце, мозг, а значит разум, и почки, то есть все внутренности заменил джин освобожденной нами от вялости, причем экспотенциально, Природы. Не знаю. Я, впрочем, уже писал, что цивилизация, технизированная и переавтоматизированная до такой степени, что становится нашим идолом-покровителем, абсолютно всеохватывающим, который берет нас под опеку и заботится о каждом космическом и земном шаге, становится своего рода адом, в который мы, сами того не желая, превратили наши стремления к повсеместному благополучию, к общей сытости, к полному обеспечению жизни и к такой заботе о своем бытии, чтобы никто, имеющий хоть один дефектный ген, не мог иметь потомка, и чтобы никто, хоть немного сонный, не смог завести свой автомобиль, машину или вертолет, ибо неустанно бодрствующий господин его судьбы, компьютер, не позволит этого сделать. Однако подобные рассуждения критиками, живущими мыслительным балластом предыдущих ста лет, признаются страшилками, эксплуатируемыми хитрыми дураками, фальсифицировавшими Уэллсовско-Стэплдоновскую научную фантастику, и в результате они не могут отличить бредни ради денег от рассуждений ради знаний. Фальшивые сочинения хуже фальшивых банкнот, но этого уже почти никто не понимает, так как свобода распространила (главным образом) умственную безграмотность, бумагу, исписанную мудростью, заменило разнообразие ароматизированной туалетной бумаги. Сегодня сценически ритмизированная эпилепсия приносит миллионы, идиотизм же, особо выдающийся, тоже в цене. Миллиардер, публикующий статьи о гибельной тенденции синдикатной жадности (известной как «капитализм»), ошибается, особенно тогда, когда жертвует свои миллионы оплевывающим его нищим. Но, возможно, с тем экспертом, задумавшимся над раскопками из нашего времени, будет не так плохо потому что им окажется уже не какой-нибудь человек, а выращенный нашими внуками с помощью трансгенетически-киборгического клонирования Quasihomo cyborgenis.
Стремящиеся понравиться мужчинам женщины закачивают в грудь до трех килограммов силикона — и не говорите мне ничего о Homo sapiens. Слишком больших надежд я не питаю, но что делать: как есть, так есть.
Сильвические размышления LXXI: Что мне удалось предсказать[481]
1. Наверное, уже пора подвести итоги тому, что я смог сделать не в области якобы научного вымысла, а главным образом в сфере познавательно-прогностической. Точность предсказания, однако, не дает пропуска на Парнас. И в эстетически плохой упаковке может находиться твердое ядро будущей инновации, которая изменит мир. Поэтому я только скажу несколько слов о том, что мне удалось предсказать.
2. Я вел себя как одинокий путник, который, находясь на краю неизвестного континента, старается распознать будущие коммуникационные пути, возможность строительства дорог в пустыне и на бездорожье, то есть тот, кто уже проектирует главные направления стратегии освоения огромной, уходящей за горизонт, безлюдной местности. В моем случае это был горизонт понятийный. Мысль, направленная в будущее, — как взгляд, брошенный вдаль: можно заметить затуманенные, непонятные формы, неизвестно, гор, или скал, или только низких облаков. Эта несколько корявая метафора показывает, что легче распознать невыразительные контуры каких-то больших массивов, чем четко различить детали отдаленной местности. Неудачи футурологии возникли оттого, что она пыталась дать точные сценарии temporis futuri[482] излишне детально: она утверждала, что в политике может произойти то-то и то-то, что открытие чего-то не известного сегодня произойдет послезавтра, она представляла меню настолько подробное, что все происходило иначе. Только рефлекторно чувствуя, что предсказать большие или малые политические стычки не удастся, я не касался реальной политики (еще и потому, что я писал, желая при благоприятных обстоятельствах уберечься от бдительности цензоров «реального социализма»). Хотя, как видно, трудно порвать с политикой, так как можно сразу потерять читателей, жаждущих конкретики. Герман Кан, как сегодня Фукуяма или Хантингтон, — все они кропотливые исследователи и пробуют прозондировать будущее так, как будто бы должны нарисовать его на поверхности глобуса — черном, гладком шаре, который находился в географическом кабинете моей львовской гимназии. Однако чем более детален прогноз, тем легче он поддается безапелляционным фальсификациям. Ну кто сегодня читает толстые тома Кана? А ведь он установил «все» на двести лет вперед, хотя и не предусмотрел развала Советского Союза.
3. Каждый автор прогнозов — самозванец, а если его читают и цитируют с кафедр, то он становится профессионалом даже тогда, когда полностью ошибается. Я же был только любителем, туристом в будущее, предсказывал, занятый небылицами, не строил Вавилонской башни; самое высокое, на чем я расположил свои вымышленные биваки, была почва основных наук типа астрофизики. А так как я часто использовал форму и содержание гротеска, то невольно защищал мои временные постройки от самовысмеивания. Я не описывал будущие события, а только представлял различные МОДЕЛИ того, что возможно (согласно моему мнению), хотя это могло выглядеть забавно или утопически.