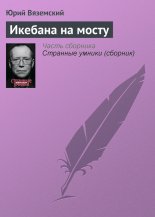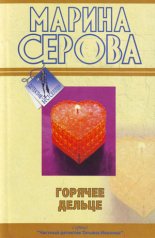Мой взгляд на литературу Лем Станислав

4. К работам политологов, экспертов по устройству мира (в основном на бумаге) я относился, как к гороскопам астрологов: я их обходил. И в то же время углублялся, исходя из возможностей, в результаты точных наук, что потом стало навыком и одновременно мучением в настоящее время. Я не экстраполировал: я всегда повторял, что молоко — никакая не «экстраполяция» коровьего пережевывания травы, хотя без травы не было бы и молока. Хотя я и сам не знаю, откуда у меня взялись эти различные помыслы и домыслы. Приведу здесь достаточно произвольно те из них, благодаря которым я получал первенство, гордо называемое пророчеством. Профессионалы же эти мои поучения не замечали (в основном в моей стране, за двумя границами же я заслужил себе имя философа будущего, ибо так меня назвали компетентные эксперты; я даже помещен в немецкой философской энциклопедии).
5. Я понимал, что в результате стремительности, которую приобрела наука, особенно во второй половине XX века, мы, как последние реликты нецивилизованной Природы, подвергнемся техновторжению. То есть возникнет биотехнология. Поэтому я закончил свою «Сумму технологии» словами, что наши языки создают ФИЛОСОФИЮ, в то время как биологический язык генов создает ФИЛОСОФОВ, и поэтому его стоит изучить, пусть он и труден. Почему-то мы начали учиться этому языку сразу как генной инженерии, которая вторглась в мир культурных растений и животных, чтобы в конце концов дойти до сферы внеполового воспроизведения в виде клонирования. В США уже заявили, что способ репродукции, ведущий к появлению людей, раз и навсегда задан их конституцией и является их личным делом, а политике вход на эту территорию запрещен. Когда я писал о клонировании, не было еще его и следа, и я гулял безнаказанно (в особенности это касается «XXI путешествия Ийона Тихого»[483]). Я думаю, что homo artefactus[484] также появится, независимо от того, нравится это или нет. Работа писателя не только в том, чтобы выбирать из головы и из мира лишь значительные и хорошие дела, и поэтому биотехнический перелом я посчитал неизбежным и эту тематику разработал как мог.
6. Случалось, что я под видом поэтической вольности публиковал мысли, которые и сам бы не принял всерьез. В «XVIII путешествии Ийона Тихого»[485] я совершил безумное по своей дерзости покушение на Вселенную. Мой герой, ученый, некий Разглыба (полонизированный Эйнштейн), заявил, что Космос — это всего лишь колебания небытия, такие, которые совершают виртуальные частицы (мезоны), но так как он очень большой, то очень большими должны быть и колебания, которые его породили. Прошло несколько десятков лет, и вот у космологов можно прочитать, что, поскольку материя и энергия Космоса при сложении друг с другом дают НУЛЬ, то, следовательно, Космос может в любую минуту исчезнуть в небытие, из которого появился. Поэтому Космос существует в КРЕДИТ и, возможно, не имеет (говоря языком топологии) никакой границы: BIG BANG, возможно, был только переходным явлением. Вселенная, возможно, является одной ужасной ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ, нелегальной ссудой без покрытия. Хотя сейчас борьба космологических гипотез идет по-прежнему, но, как это было с космогонией, эмпирическими методами, возможно, мы не сможем их проверить и истину не узнаем никогда. Только если удастся овладеть технологией космопродукции, когда другой мой герой (профессор Донда) напишет задуманный труд под названием «Inquiry into the Technology of Cosmoproduction»[486]. В рассказе[487] вследствие суперконцентрации информации возникает «космосенок». Это уже похоже на полный абсурд, но Хоукинг ввел в физику через квантовые двери термин baby universes, вселенных-малюток. В общем говоря, это означает, что возможности придумывания самых разнообразных конструкций для всех человеческих голов ограничены (и несмотря на это, существует математическая теория множеств, с ее бесконечностями и забесконечностями, к сожалению, немного поточенная парадоксами), то есть мы, независимо друг от друга, повторяемся.
7. Многое изменилось и в теории эволюции. Во-первых, изображенное в моем романе «Непобедимый»[488] явление мертвой эволюции автоматов, в которой маленькие дети побеждают род мегароботов, уже нашло свой плацдарм в реальности в виде так называемого чипа Дарвина, зернышка некроэволюции, о котором я читал в одном из последних номеров «New Scientist». Дождалась реабилитации и телепортация, которую я логически мучил в первом разделе моих «Диалогов», написанных в 1953–1954 годах и изданных во время оттепели в 1956 году. Я все время удивлялся, что в стране на эту тему никто даже не пискнул, и только сейчас, независимо от меня, пишут о парадоксах рекреации из атомов в Англии и Германии. Мой «Голем XIV»[489] назвал естественную эволюцию «блужданием ошибки», так как, если бы не появились неточности в наследственных репликациях, то на Земле ничего бы не жило, кроме каких-то амеб, а так из ошибок выросли лягушки (в последнее время повсеместно гибнущие), деревья, жирафы, слоны, обезьяны и, наконец, мы сами. Сегодня эволюция называется (это говорят ведущие американские эволюционисты, такие, как Стивен Гулд или Брайан Гудвин) танцем генов, который в принципе не является процессом все более поступательным. Об этом я опять-таки написал когда-то эссе под названием «Биология и ценности»[490], но и о нем в стране ни одна хромая собака не отозвалась.
8. Зато о том, что моя фантоматика, подробно описанная тридцать шесть лет назад в «Сумме технологии», теперь известна как виртуальная реальность, некоторые в стране уже знают, в то время как за границей об этом говорят только там, где «Сумма» была переведена (приписанный к скромному штату science fiction, я не мог рассчитывать на издание этой книги в США, ибо это была не SF, поэтому возможное восприятие этого произведения ограничилось некоторыми странами Европы). Меня удивляет, что эта книга до сегодняшнего дня живет, то есть говорит читателю о том, что есть и что может быть. Наверное, зря ее высмеял Лешек Колаковский в журнале «Tworczosc» в 1964 году.
9. Об информации, используемой как оружие, я тоже писал в «Рассказе Второго Размороженца» в «Воспитании Цифруши»[491]. Там шла «война за информацию без огнестрельного или ядерного оружия, шла бомбардировка информацией („лгаубицами“)».
10. Также под названием «рассеянного интеллекта» блеснула в муравейниках и в гнездах термитов насекомоподобная «некросфера», названная «черным облаком» в «Непобедимом».
11. Сегодня существуют два направления главного удара в точных науках: в биологии это атака на рекомбинат ДНК, на спирали нуклеотидов, то есть на «высказывания» химического молекулярного языка, штурм его созидательной силы, — которая должна рано или поздно достичь терапевтической, рекомпозиционной и, наконец, неокомпозиционной автоэволюции человека. О ее возможном использовании и злоупотреблениях ею, о хорошем плохого начала и неотвратимом конце я писал, когда еще вся эта область была исключительно колебаниями моего воображения, в «XXI путешествии Ийона Тихого». Ни на минуту не допуская, что генный, прекрасный мир откроет свои ворота еще при моей жизни и обнажит настоящие пропасти, в которые можно вводить измененные по нашему желанию жизни, я писал язвительно, свободно, издевательски, то есть так, как сегодня, в эпоху первых свершений, уже не отважился бы.
12. Второй гипотезообразующий удар физиками и космологами направлен во Вселенную. Последние годы породили взаимно противоречивые гипотезы (которые, кроме компьютерного моделирования, можно проверить не иначе как через интерпретации и реинтерпретации реальности мега— и микромира). Из этой мешанины выглядывает образ квантового Космоса, который появился из Небытия, о чем я, — но только на правах насмехающегося над притязаниями разума, — писал давно.
13. Эта самая большая из возможных вещей, каковой является Космос, начала в последнее время, по предположениям физиков, угрожать нам столкновениями с метеоритами, астероидами или кометой, апокалиптической катастрофой, жертвами которой — а не только зрителями, как в кино или по телевизору — мы можем стать вместе со всей цивилизацией. Публика, очевидно, любит смотреть на пожары, потопы, ураганные катаклизмы, которые происходят и поглощают ДРУГИХ, поэтому самые крупные кинофабрики не экономят миллионы на такие разнузданные зрелища. Но я не перестаю избегать этих ужасов, которые поглощают зачарованные зрители, наполняя при случае определенные кассы. Я не нахожу удовольствия в таких игрищах, поэтому у меня трудно найти излюбленные science fiction «страшные концы света». Может, мне не хватает воображения, но у меня нет и тяги к виду всесокрушающих катаклизмов, охватывающих сушу гривами огня и километровыми волнами вулканических прибоев, хотя я знаю, что Земля — за миллионы лет до появления человека — была подвержена бомбардировкам (уничтожающим до девяноста процентов всего живого), идущим из слепого, поблескивающего суперновыми звездами космического окружения. Эту тему, эту область уничтожения я обходил и тем самым умолчал хотя бы о части тех материальных напастей, которым всегда подвержено человечество, хотя катастрофисты, состязающиеся в размерах угроз и уничтожений, обильно занимают почетные места в научной и менее научной фантастике XX века.
14. Беллетристика принципиально ограничивает свое поле видения до личностей или относительно небольших групп людей, до их конфронтации или согласия с судьбой, заданной великой исторической минутой, в то время как большие промежутки времени событий, социальные движения и битвы становятся прежде всего фоном. Я, который познал сверхизменчивость и хрупкость последовательно исключающих друг друга социальных систем (от убогой довоенной Польши, через фазы советской, немецкой и опять советской оккупации, до ПНР и ее выхода из-под советского протектората), терзаниями собственной психологии пренебрег и старался концентрироваться скорее всего на том, как technologicus genius temporis[492] создает или овладевает человеческими судьбами. Я знаю, что вследствие этого (подсознательно принятого) решения я так отмежевался от гуманистической однородности литературы, что у меня образовались гибридные скрещивания, приносящие плоды, которые не имеют исключительного гражданства в беллетристике, так как изображенные события я отдал на муки жестокому непрестанному прогрессу. Я писал и нечто неудобоваримое, содержание которого может взорваться в будущем, как бомба с часовым механизмом. Я только могу сказать следующее: feci guod potui, faciant meliora potentes[493].
Сильвические размышления XCI: Поэзия и проза молодых[494]
Я получаю достаточно большое количество издаваемых разными тиражами произведений наших молодых поэтов и прозаиков. Я никогда не скрывал своего отношения к форме современной поэзии, но и не старался быть ее критиканом, поскольку тому, что меня как традиционалиста особенно поражает, а именно: почти окончательный разрыв с классической формой стиха, идущей в упряжке рифм и ритмов, очень редко удавалось проникнуть в мою душу и память. Однако такие стихи существуют, и не только сочинения Евы Липской появились в последние годы. В несколько метафорическом представлении, стихотворение, так, как я бы хотел его понимать, имеет семантическое содержание, преимущественно размытое и туманное, и только в редких случаях многозначность становится плотным защитным слоем, которым нельзя пренебречь. Однако не будучи даже немного знатоком поэзии, выходящей за пределы романтическо-классической, я не имею права выступать в роли авторитета. Скажу только, что, к моему сожалению, очень много поэтических текстов молодых людей кажутся сложенными из составных и запасных частей, то есть что пятно индивидуальности если и проявляется, то скорее маловыразительно. И в моих глазах это не является достоинством поэзии, но, как я сказал, ставить осуждающие оценки — не мое дело.
Зато немного иначе — а может и совершенно иначе — обстоит дело с прозой. Порой у меня складывалось впечатление, что молодой прозаик ведет себя по отношению к языку так, как каратист по отношению к противнику. В итоге его язык скорее оксиморичный, поскольку он одновременно лирический и грубый, слегка заумный и небрежный, светлый и темный. Очень часто это означает, что фабульная проза, то есть имеющая свой развивающийся сюжет, оказывается необычной своей несвязностью до такой степени, что (зная большое количество текстов, написанных шизофрениками) я уверен: любой психиатр был бы склонен приписать таким сочинениям происхождение из анормального источника. Это, пожалуй, довольно отчаянные и напрасные попытки придать оригинальность авторского отпечатка повествованию по сути своей банальному. Очень беспорядочные тексты не могут, как правило, рассчитывать на популярность, поскольку — то ли к счастью, то ли к сожалению — большинство людей, склонных к чтению беллетристики, не очень-то и любят акробатическо-диковинную стилистику. Со свойственным моей натуре милосердием обойду совершенно особенный стиль страстно увлеченного антидескриптными, необязательно фантастическими, текстами автора, каковым является Хенрик Береза. Однако таким аргументом, или скорей критерием, как хорошая усвояемость написанного, можно пренебречь, поскольку очень часто молодой автор действует не в одиночку, а в группе, которая одновременно является для него поддержкой и рассадником потенциальных антагонизмов. Одним словом, я считаю очень многие тексты нечитабельными вследствие скрытого в них авторского замысла, заключающегося именно в том, чтобы мнимой или формальной чудовищностью текстов вынудить к чтению. Дело мне представляется достаточно простым и даже тривиальным: тот, кто не имеет личного жизненного опыта, изобилующего разнообразием переживаний, и тем самым обреченный исключительно на плодовитость собственного воображения, часто скрытого за оболочкой одиночества, находится в положении, из которого очень трудно удачно стартовать. Всем известное чудовище, каковым был Сталин, на вопрос писателей «Что писать?» ответил: «Пишите правду!» Человек, имеющий огромный опыт, как, например, Рышард Капущинский, обладает массой сырья, годящегося для переработки, но здесь же надо добавить, что немногие умеют из подобной массы приготовить пригодный для читателя дистиллят. Одним словом, дело обстоит так, как писал в своем «Дневнике» Гомбрович: писатель, в том числе и тот, кто был свидетелем или несостоявшейся жертвой человекоубийства, своей личной судьбой не получает гарантий успешной литературной карьеры. Личность не обязана пережить ни слишком много, ни слишком мало, чтобы добиться писательского успеха. Язык — единственный инструмент, который должен обрабатывать и конструировать то, что не является самовозвратным, то есть из языка, обращенного в глубь себя, в общем могут выводиться лимерики или забавы людей, силящихся маскировать красноречивой акробатикой отсутствие внутреннего весомого содержания. В настоящее время в мире трудятся многие десятки тысяч, — а кто знает, возможно и сотни тысяч — кандидатов в писатели-прозаики, и для катапультирования вверх для немногих из них не последнюю роль может играть благоприятное стечение обстоятельств, а именно случай. Однако все попытки категорического отказа от смысла, направленного на внеязыковые цели, не принесли ничего большего, чем кратковременная вспышка фейерверка, и я как читатель придерживаюсь правила, что проза должна исходить из какого-то начала, идти какой-то дорогой и дойти до места, которое не будет только обрывом. Причем это может быть пешей прогулкой, бегом, полетом птицы, но всегда речь идет об игре, почти всегда, как правило, конфликтной, которая может иметь относительно теории нулевую или ненулевую ценность, но происходить между людьми. Это значит, что всегда имеет место какая-то форма микро— или макросоциологии, и тот, кто противника, то есть человека, заменяет «Природой» или «Космосом», по сути дела выходит за пределы поля боя литературных игр с полным риском, свойственным такому поступку.
Разумеется, все вышесказанное можно заключить в нескольких словах: чтобы писать, следует обладать содержанием или содержаниями, не пережеванными и не переваренными тысячи раз в истории литературы. Из многократно уже обыгранных явлений иногда также может выйти нечто неожиданное, на это подобно зерну, попавшемуся слепой курице.
Со своей стороны, у всех молодых людей, навещающих меня лично или через свои тексты, я стараюсь отбить желание от вступления на литературную стезю, которая очень ухабиста, и я также знаю, что при этом речь идет об очень интенсивно переживаемой и активизирующейся привычке, подобной всякому трудному восхождению на скалу. В литературе вообще ставкой, в отличие от альпинизма, не является жизнь, но затраты бывают огромными, и как и на вершины можно взбираться при помощи лебедок и канатных дорог, так же и популярность можно легко заработать с помощью приспособлений, рождающих бестселлеры, которые, как правило, единовременно освещают вспышками финансовый небосклон автора.
Сильвические размышления XCII: Мой писательский метод[495]
Мои читатели и критики много раз обращались ко мне с вопросами, которые в их понимании были скорее очевидными, у меня же ответы на них неоднократно вызывали затруднения. Я думаю, что причина этого заключена в фундаментальных отличиях во взглядах на текст: с позиция автора или его читателя. Я имею в виду прежде всего распространенность достаточно расхожих представлений о процессе написания беллетристики — в частности, мной. Я думаю, так как являюсь рационалистом и никогда от занимаемой позиции не отказывался, интересующимся моим писательским методом кажется тривиально очевидным, что — как рационалист — я вынужден приступать к написанию литературных текстов рационально, то есть, что сначала я составляю в голове по возможности конкретные планы, ищу в мыслях какие-то прототипы или парадигмы, способные послужить мне в качестве «воображаемой пусковой установки» или, самое меньшее, в качестве трамплина для того, чем я собираюсь исчернить бумагу. При грубом упрощении они думают, что сколько раз я садился писать, столько раз в голове у меня были по крайней мере туманные контуры моего очередного замысла, может, не полностью завершенного, может, в набросках, но все же имеющего в этом предписательском эмбриональном состоянии целостность. Мне кажется, что результатом этой цепи домыслов явилось, например, их отношение к роману «Фиаско», роману позднего периода, аналогично как к «Астронавтам», моему дебюту в фантастике. Почти повсеместно предполагаемая критиками преднамеренность, следы которой они старались найти в моих книгах, была для них, как предполагали, некоторым образом результатом моих личных переживаний: «Больница Преображения» должна была возникнуть в основном потому, что я частично как врач, а частично как пациент, накопил много знаний о внутренней жизни психиатрической больницы, хотя не обязательно во время немецкой оккупации. Тем временем я никогда не был ни психиатром, ни пациентом психиатра, и правда то, что когда-то я сказал об упомянутом романе: единственным перенесенным из действительности элементом, присутствующим в «Больнице Преображения», является деревянный крест из окрестностей Вольского леса. Всех персонажей этой книги, будь то немцы или врачи, или участники больничной катастрофы, я выдумал, не основываясь на прошлом личном опыте. Самая первая моя книга, «Человек с Марса», была написана потому, что, говоря кратко, но искренне, я хотел заработать на хлеб. Конечно же, прототипом для меня выступал не какой-то там Марс, а скорее стереотипы предвоенных криминальных рассказов, таких, которые сегодня называют suspense[496], и это, наверное, отразилось на сюжете.
Также я никогда не намеревался черпать вдохновение из картин политической реальности, хотя не могу, конечно же, противоречить тому, что параноидальный мир «Рукописи, найденной в ванне» представляет собой почти космическую элефантиазу двухполюсной эпохи холодной войны.
Я мог бы еще много сказать об отношении того, что я писал, ко всему тому, что я пережил и что познал, но не вижу в этом необходимости. Потому что, как правило, я писал так, как видит во сне каждый человек: то, что происходит во сне, или в сновидении, не следует из предварительного планирования и никоим образом не предвидится. Это не случайное сравнение, потому что бывает так, что сновидение заходит в тупик некоей безысходности, и тогда спасением оказывается просто пробуждение. Достаточно большое количество сюжетов моего писательства также приводило меня в тупик, и концом этого ошибочного пути становилась мусорная корзина.
Определенного сходства, более или менее заметного для читателей и критиков, возникающего между повторяющимися в моем основном писании мотивами, я сам, когда пишу, не вижу, потому что не бывает, что видящий сны человек для правильной регулировки хода сна вызывает в памяти более ранние события.
Вероятно, все мое творчество отмечено оксиморично уравновешенной монолитностью, потому что различные темы, сюжеты, мотивы и стили в конце концов помещал на бумагу один и тот же человек. Но я мог убедиться после пятидесяти лет писательской деятельности, что планирование, определение сюжетных перипетий или даже «наиглубочайшего семантического дна» произведений неподвластно моим возможностям. Мне неприятно об этом говорить, но мой рационализм не основан на рационализме. Он не является дистиллятом сознательных размышлений, и я сам не знаю, откуда он берется, так же, как я не знаю, что увижу во сне в ближайшую ночь.
Критики моих произведений, конечно, имеют право производить их вскрытие, компаративистское или генетическое, или аналитическое, так, как прозектор может вторгнуться острием своего скальпеля внутрь человеческого тела, но ведь ни один человек, который учился медицине, не отдает себе отчета в том, местом жительства каких органов является его собственная телесная оболочка.
Все, что я сказал, не следует трактовать как утверждение, что критики ошибаются, а лишь один автор знает правду о своих произведениях. Речь идет просто о диаметрально противоположных наблюдательных позициях, причем я считаю, что моя, авторская, совсем не обязательно обладает способностью распознавания «окончательной правды» моих текстов.
Я знаю, что многие писатели могут результативно планировать свое творчество и даже составлять графики. Потенция подобного рода была мне всегда чужда. На вопрос, является ли мое незнание о дальнейшей судьбе написанного, сопровождающее меня в течение десятилетий, чем-то предосудительным или прекрасным, я ответить не смогу. В конечном смысле, семантически богатое произведение всегда напоминает мне картинки теста Роршаха, которые вызывают различные реакции у разных людей, так что определенная типичность психологических интерпретаций текста может быть проверена только с точки зрения статистики, а не единичных впечатлений.
Все, что я здесь написал, можно просуммировать так: некоторые считают, что мы ходим «правильно», на другом же полушарии люди ходят «вверх ногами». Ответ на вопрос, кто из людей ходит «на самом деле правильно», не имеет смысла. В каждой благоразумной позиции, также и в отношении литературы, скрывается крупица истины, но все эти интерпретации не поддаются проверке и сведению к той «единственно верной и правильной».
Сильвические размышления XСIV: Перед Франкфуртской книжной ярмаркой[497]
Приближающуюся книжную ярмарку во Франкфурте следует предварить кратким размышлением. Немного стыдно, но на ум мне сначала приходит то, как некая немецкая дама, которая посетила эту ярмарку более десяти лет назад, написала, что ярмарка напоминает ей клозет, тщательно заткнутый множеством бумаг. В жесткости этого высказывания звучит, к сожалению, довольно большая доля правды. Я сам давным-давно был гостем на этой ярмарке, и мне удалось с нее довольно быстро сбежать. Массированное предложение книги, а сейчас не только книги, понимаемой как печатное издание, но и соответствующее ее электронное представление, должно быть, хотим мы или не хотим, сродни информационному потопу. Все виды паводков возникают из-за чрезмерной массы воды, и в этих разливах нельзя различить воду лучшую и худшую. Зато литературу всякого рода, многоязычное нагромождение которой ринется во Франкфурт, мы, разумеется, можем попытаться в конкретных случаях отсортировать.
С целью ознакомления с новыми книгами, выходящими на доступных мне языковых территориях, я собрал списки бестселлеров летнего периода из Германии, из Соединенных Штатов, из России и, разумеется, из Польши. Моим намерением было выбрать и привезти некоторое количество этих книг, так пользующихся спросом. После просмотра присланных каталогов я почувствовал некоторую удрученность. В беллетристике я не встретил ничего, что бы хотел почитать для приятности, а не по обязанности критика, которым я не являюсь. При этом меня поразил странный успех книг госпожи Роулинг, воспевающих волшебные умения, полученные мальчиком по имени Гарри Поттер. Это явление довольно симптоматично для нашего времени, особенно потому, что не только толпы детей старались как можно быстрее познакомиться с силой волшебства этого мальчика, но и — как я читал — эти сказки пришлись по вкусу и взрослым читателям. Таким образом это выглядит так, будто успех сочинения зависит от расстояния, которое отделяет его сюжет от реального мира, в котором мы живем и который как будто все меньше нам нравится. Короче говоря, мы называем это бегством от реальности, или эскапизмом. Эскапизм проникает, впрочем, не только в книги, он вездесущ. Американские мультимедийные концерны производят все больше продукции, предназначенной для взрослых, применяя все больше технических средств во все более жестоких стереотипных сюжетах. В последнее время нам пытаются показать, что пришельцы из звездных цивилизаций занимаются исключительно электронно совершенными формами человекоубийства. Также и земные экспедиции не могут во Вселенной столкнуться ни с кем, кроме как с вооруженными лазерными зубами чудовищами и монстрами, из суммирования же этих технически изощренных и содержательно смертоносных усилий следует все более радикальное сокращение массовой культуры до панкосмических войн, очень часто заканчивающихся обычным мордобоем. По сути дела похоже на то, что или следует от земной действительности убегать в магию, как территорию освобождения от обыденности, или следует направляться в сторону «более взрослую» — секса, часто приправленного кровью.
Кроме беллетристики, ведущие места в списках бестселлеров занимают книги, посвященные так называемой деловой литературе (Sachliteratur). Поэтому мы раздираемы между крайностями, всей площади которых, разумеется, я был не в состоянии перекопать. Возможно, мое критическое мнение следует из того, что я не ознакомился с типичными образцами современной литературы, а просто имел дело со списком названий, которые более всего нравятся широкой, но не всегда требовательной, публике. Наверное, в этом что-то есть, но я должен внести здесь отрезвляющее замечание, что недавно прочитанная мною книга, очень компетентно представляющая элементы познания в области математики, вышла тиражом двести экземпляров в Кракове и, наверное, не попала бы мне в руки, если бы мне ее не прислал автор. Поэтому вновь напрашивается мысль, что то, что требует некоего мысленного усилия, по крайней мере активности восприятия, плохо продается, в противоположность чернокнижному и криминальному чтиву. Вероятно, побочным эффектом преодоления человечеством численности населения шесть миллиардов является прогрессирующее разделение читательских вкусов в разных языковых кругах, я вижу это непосредственно в том, что как имена авторов, так и названия из списка всех американских бестселлеров немного мне говорят. Если говорить о литературном рынке в Европе, то на нем господствует количественное перепроизводство при недостатке качества, удивительным образом поддерживаемое рекламой. Я еще нигде не видел, ни на экране, ни в газете объявления, рекомендующего какую-либо новинку, которая, собственно говоря, выскочила из головы писателя как «вторая в списке наилучших в мире». Каждый продукт, в том числе и книга, является первоклассным, и все одинаково убедительно расхваливается. В такой ситуации успех книги обеспечивает искусная рекламная кампания, звучное название или просто случай.
Влияния коммерциализации не избежала даже научно-популярная литература, список которой помещает в каждом номере английский еженедельник «New Scientist». И там тоже все самое лучшее и самое совершенное.
Таким образом, потенциальный читатель превращается в барана, которому показывают не одну полностью обнаженную прекрасную девушку, а две или три дивизии оных сразу. Из-за такого избытка экспонируемых прелестей он, вероятно, выберет первую с края, и по этой причине наступит отупение его желаний, которые, перенесенные в сферу читательского голода, просто означают, что, если все предлагаемое тысячами издателей перворазрядно, выбор может быть исключительно случайным. Давление коммерциализации формирует общественное восприятие таким образом, что все недавно изданное как бы автоматически должно быть наилучшим. Не только автомобиль, не только холодильник, не только мобильный телефон или компьютер, но также и роман, изданный в 2000 году, самой силой факта, что он в этом году был опубликован, должен быть лучше, чем роман трехлетней давности…
Трудно не добавить, что это метание между безобидным волшебством, которое должно избавить нас от забот, угрожающих даже детям, и крайностями, заново возникающими из романа, чудовища, родственники внеземного происхождения, то есть звездные тетеньки и дядюшки, а также все компьютеры, океаны крови и целое собрание мотиваций, управляющих преступлениями и приводящими ко общему финансовому знаменателю (погоня за кокаином, за бриллиантами, за сокровищами Кара Мустафы и турецких индейцев), создает глобалистически расширяющуюся цивилизационную пандемию нового тысячелетия.
Быть может, многим среди тех, кто будет читать мои слова, они покажутся излишним брюзжанием, плохо обоснованным осуждением современного творчества — освобожденной от оков ритма и рифмы поэзии и лишенной старосветского благородства прозы, но мне трудно было бы описывать горизонты современной писательской активности вопреки собственному опыту. Поэтому скажу, хотя это имеет мало смысла и очень по-старосветски, что мне нравятся произведения Артура Шницлера, Германа Мелвилла, Джозефа Конрада, мне по-прежнему нравятся такие книги, как история об авантюристе Крулле, который был героем Томаса Манна, как многие мещанские саги французов последнего столетия и даже, о позор, драмы Шекспира. Если я обращаюсь к томику поэзии, это будет скорее юмор висельника Моргенштерна. Тем самым я признаюсь в своей постыдной слабости, что ожидаю чтения, которое доставит мне трогательное удовольствие. Быть может, я признаю только собственную литературную отсталость, но, как говорится, de gustibus non est disputandum[498]. Я хорошо понимаю независимые от литераторов обстоятельства, которые вынуждают их толкаться на запруженном книжном рынке, и не намерен ставить себя в пример как автора, который двенадцать лет назад сломал, как говорится, «перо», поскольку понял, что уже хватит, или satis est[499]. Это было мое личное решение, и я вовсе не намерен его кому-либо навязывать. Трудно, впрочем, представить себе, чтобы все занимающиеся писательством сговорились и принесли обет абсолютного молчания. Однако очевидным является факт, что чем больше выходит новых книг, тем больше произведений становятся жертвами всеобщего забвения. Это ущерб, который не смогут возместить никакие ярмарки. Eo modo dixi et salvavi animam meam[500].
Сильвические размышления С: Прелести постмодернизма II[501]
Один известный ученый подготовил статью, построенную из цитат авторства целого ряда известных людей, таких как Деррида, Лакан, де Ман и многих других. Эти цитаты он соединил вербальным клеем, столь же маловразумительным, как и содержимое этих выдержек. Затем он отправил этот паштет в гордящееся высоким интеллектуальным уровнем периодическое издание, где тот был опубликован. Только тогда он раскрыл намерение, которым руководствовался. Об этом случае, который не был notabene единственным, писал Михал Броньский (Войцех Скальмовский) в одном из изданий парижской «Культуры». Это был удар, нанесенный широко разливающейся невразумительной болтовне, называемой постмодернизмом.
К этому делу можно не только внимательно приглядеться, но и безжалостно перенести его на множество форм человеческого поведения, распространяющихся также вне сферы достижений мировой интеллектуальной элиты. В общем говоря, так же как Луна бывает окружена туманной каймой, так же точные научные дисциплины окружены разнообразнейшими видами бахвальства. В этом не было бы, собственно говоря, ничего особенного, если бы не факт чрезвычайно упорного удержания на всей территории человеческого поведения чепухи, имеющей своих необъяснимых и потому упорных приверженцев. Я позволю себе перечислить здесь лишь несколько таких вещей, вызывающих постоянный зуд. У нас ведь есть UFO, или неопознанные летающие объекты. У нас есть знахари, пользующиеся большим уважением, несмотря на минимальные терапевтические результаты, у нас есть огромная область явлений так называемой парапсихологии, чтение мыслей, РК (psychokinesis), или выполнение материальных преобразований исключительно мыслью, у нас есть лозоискательство, и у нас есть также менее вредные, но не менее посещаемые охотниками области, как, например, цифровые чудачества, как бы экстрагированные из размеров египетских пирамид, и если бы я в этом месте не остановился, то можно было бы продолжать такой список еще долго. Не совсем по делу будет также замечание, что производители зрелищ для страшно размноженных телевизионных программ весьма охотно строят свои странные сюжеты, оперируя ведьмами, пришельцами из будущего и прошлого, духами, привидениями и особенно чудовищами и монстрами, которые перенеслись из подземелий старых английских замков в целый космос. Поскольку я не в состоянии проводить какие-либо исследования, чтобы открыть, удается ли вообще — и какую часть — телезрителей обратить к серьезному восприятию колдовства, призраков, заклятий, таинственных сил, явлений из загробной жизни и т. п., единственное явление, на которое я могу в этом случае сослаться, это славный парнишка Гарри Поттер. Огромная популярность повествующих о нем книг вынудила к некоему умственному соединению вообще-то высоких критериев литературной критики. По моему мнению, причины, по которым всякого рода чары, магия, колдовство, предрассудки, даже примитивнейшие, как, например, отказ от прохождения под стоящей лестницей или предсказание неотвратимых недугов, которые должен принести нам перебегающий дорогу черный кот, или, в конце концов, тринадцатое число, выпадающее на пятницу — все это вместе представляет живущее глубоко в подсознании почти каждого человека нежелание найти ответ или оказать сопротивление необъяснимым и странным фактам, на которых основывается наше существование.
Эти упорно сопутствующие нам глупости весьма и весьма живучие. Сколько же труда задают себе ученые, чтобы распознать, например, крайне сложные секреты мысленной коммуникации, переводимой не только на языки. Как же легко признать, что телепатия — это что-то вроде телефона. Зачем тратить деньги и соглашаться на серьезные операции, если знахарь снимет сглаз, несмотря на то, что пациентов, им вылеченных, можно перечислить по пальцам одной руки. Зачем рассказывать о невозможности воздействия мысли на предметы, например, чтобы дом захотел сам построиться из груды кирпичей. Разве не было бы мне лучше, если бы это сделал за нас так называемый полтергейст. Огромные массы людей по-прежнему тянутся к сообщениям, предсказаниям, терапии, десятки тысяч раз полностью сфальсифицированным и абсолютно ошибочным. Толпы готовы дальше верить во всякое волшебство, прельщающее своей загадочной простотой, и поэтому древние начала подобного шаманства, идущие из Ассирии, Египта и Вавилона, облекаются сейчас в новый словесный покров, например, психотроники. Даже там, где поднимаются вершины мыслительных усилий человечества, в математике, физике, герменевтике, так же приятно рыскать самозваным необыкновенным болванам, которые очень легко обретают признание, уважение и верных апостолов. У меня складывается впечатление, что такие уж мы есть, и именно поэтому сегодня в мире господствует такой спрос на школы колдовства, в которых Гарри Поттер с детской простотой получает дипломы на обладание сверхъестественной силой, а заодно автору, которая его создала, принес в дар миллионы долларов.
Сильвические размышления CI: Прелести постмодернизма III[502]
С некоторого времени возмущение, скрытое до сих пор в душах знатоков искусства, начало проявляться целыми сериями статей, публикуемых в разных журналах, которые в сумме представляют эквивалент бортовым залпам тяжелой артиллерии. Объектом атак, обвинений и негодующего возмущения являются так называемые произведения современных пластических искусств, выставляемые также и в Польше. Разнообразные виды публично экспонируемых испражнений, сексуальные контакты с сакральными объектами, банки, содержащие законсервированные выделения артистов, называемые «merde», что соответствует польскому «gowno», как и более безобидные, хотя и полные плевков плевательницы и, в конце концов, объекты, пробуждающие страх, отвращение, неприязнь, а, возможно, и легкие судороги посетителей. Легко доступные галереи, полные такого рода произведений искусства, начали наконец получать удары в критических выступлениях, звучащих как издевательские проклятия. Удивительно, как долго общественность, жаждущая эстетических впечатлений, представленных во многих областях искусства, была готова молча прохаживаться среди экспонатов пластики, напоминающих окаменевшие прозекторские экспонаты или коллекции поточенных червем лишаев. Только человек очень наивный мог бы думать, что, кроме мочи, волос, прилепленных спермой к стеклу, как и огромного количества кала, ничего уже больше от современного пластического искусства ожидать нельзя. Не будь наивным, Дорогой Читатель. Недавно я читал о новой выставке, которая где-то, кажется в Париже, открыла свои двери. Вся ее умеренная искренняя инновация заключается в том, что, кроме пола, стен с окнами и потолка, ничего в залах увидеть нельзя, поскольку они абсолютно пусты. Творчество этого рода, как нам истолковано, сводится к тому, что жаждущий контакта с искусством посетитель оказывается полностью освобожден от осмотра того, что хочется какому-то там творцу, поскольку в светлой пустоте всех стен и потолков он может вообразить, что ему только заблагорассудится.
Однако не следует думать, погружаясь в безобидную задумчивость, что таким способом постмодернизм дошел до окончательного предела. Его преемником будет действительно пустой зал, но прикидывающийся, что он имеет какой-то пространственный дальнейший ход. По сути, щель в полу, ловко, ибо артистически, замаскированная, приведет к тому, что каждый любитель эстетики XXX столетия упадет с надлежащей высоты между спиралями или ножами огромной машины, которая является гигантски увеличенной мясорубкой. После этого долго продолжающегося развлечения, разрывающего человеческие тела, все те, кто еще в нем не участвует, смогут досыта наслаждаться видом настоящего месива кровавых останков, забавного, равномерно перемалываемого и выбрасываемого вращающимися валками. Я не могу также исключить возникновения реинкарнационного людоедства как суперпостмодернизма. Впрочем, в вопросе вполне обычного, немилосердно навязываемого нам модернизма, разверзлись пропасти произвольности, ворота, которые распахнул для нас в философии господин Деррида.
Парадокс нашего времени состоит в том, что колоссальному росту знания, объясняющего наконец, как я об этом очень давно мечтал, при помощи терпеливой миллиардолетней эволюционной технологии — виновницы всего живого, одновременно сопутствует отвратительный арсенал глупости и примитивизма, претендующих взойти на Олимп искусства. В области слова, в прозаической литературе мы также имеем модернизм и одновременно ловкий побег от трудно усваиваемой информации в виде ряда томов английского происхождения, посвященных как школам волшебства, так и их юному воспитаннику.
Воцарилась совсем неизвестная до сих пор и небывалая эпоха свободы, при которой, вероятно, на закате тысячелетия уже можно будет не только делать ближнему то, что ему неприятно, но так же съесть его запеченного или сырого при сохранении абсолютной безнаказанности, поскольку все будут есть всех только виртуально. Об этих прекрасных виртуальных виртуальностях можно много узнать из прессы, которая тоже станет виртуальной. Поскольку из старой анатомии и патологии нам известно явление, называемое проникновением, всякая виртуальная реальность сможет проникать в виртуальности следующего уровня, процесс этот будет идти все дальше и дальше, а согласно известным парадоксам теории множеств Кантора — в бесконечность и даже в несчетную бесконечность. Только счастливчики, к которым принадлежу и я, не доживут до тех крутых времен супергиперпостмодернизма, который оставит за собой отброшенных в пренебрежении всяких Вермеров, Кранахов и прочие глупости. Первым знаком, предвещающим такого рода mene mene tekel upharsin[503], является уже показанная нам и всем известная колоссальная скальная дыра, в которой стояла тысячепятисотлетняя статуя Будды, сокрушенная взрывчатыми веществами поклоняющимися постмодернизму талибами. История свидетельствует о том, что время движется вперед и что его нельзя повернуть вспять. Что же касается меня, из постмодернистского поезда я высадился на станции Иеронима Босха, и никакая сила меня с этого места не сдвинет.
Сильвические размышления CIII: Прелести постмодернизма IV[504]
Немецкий литературный критик по фамилии Кайзер сказал в интервью, опубликованном в еженедельнике «Der Spiegel», несколько простых слов, которые меня поразили. Он не так известен, как Райх-Раницкий, но это разумный человек. Повторяю его замечания по памяти: он утверждает, что приближается упадок так называемой высокой культуры (Hochkultur) и что происходит это в мировом масштабе. Это высказывание кажется одновременно и банальным, и, по-моему, метким. Он перечисляет различные факторы, входящие в состав процесса так называемой глобализации, которые сообща способствуют сплющиванию духовного мира, охватывающего как творцов, так и потребителей культуры, что приводит к тому, что уровень любых произведений и прежде всего литературных и пластических, снижается с течением времени.
Большую и хорошо известную роль играет в этих явлениях иконическая составляющая, или иллюстративно-визуальная, усиливающая умственную пассивность, или леность потребителей, напихиваемых главным образом зрительно, с помощью экранов телевизоров. Эту проблему можно представить, используя элементы теории информации, поскольку количество ее, которое мы получаем с экрана телевизора, может быть в любой момент увеличено и донесено быстрей, чем при чтении произвольного текста. Но такого теоретического толкования наверняка недостаточно в первую очередь потому, что экран кормит нас картинками, но почти совсем не может передавать зарядов мысленной сублимации, которой живет хорошая литература, то есть такая, которая, как правило, семантически многослойна и благодаря этому не может ограничиваться чисто линейным, как бы плоским сообщением. Поэтому картинки не могут, как правило, оживлять и углублять мысленно сформированное восприятие. Кроме того, общее ускорение — хотелось бы сказать «всего» — в нашей действительности приводит к тому, что или трансляция, или восприятие любого содержания должно убыстряться. Это само по себе понятно: не потому ли из беллетристического обращения исчезли семейные саги типа Будденброков или Тибальдов, что медленный, усеянный семантическими отступлениями повествовательный стержень перестал быть модным.
Сегодня творец вынужден выражаться со скоростью пулемета. Это вроде бы началось на территории большого экономическо-технического ускорения, то есть в США, и потому именно там проза Томаса Манна считается напыщенной и тяжеловесной (pompous and ponderous). Просто экспрессное ускорение вытесняет из традиционно пространного (многословного) повествования его разнообразные эховые звучания и обертоны. Образно говоря, выходит почти так, будто бы мы имеем дело с задачей, основанной на дескрипции бушующего пожара, пожирающего человеческое имущество и богатства природы, а следовательно, феномена-катаклизма, согласно которому трудно себе позволить какое-либо задумчивое, склонное к размышлениям многогранное живописное изображение. Следует, пожалуй, крикнуть «горит!», а все остальное предоставить догадливости потребителя. Однако как названные, так и неназванные составляющие, оказывающие такое давление на крупное культурное производство в мире, вызывая ускорение предложения и спроса, одновременно разоряют повествование, сужая его информационную многомерность и глубину.
Такого рода мысли сопровождали меня, когда я листал мартовско-апрельский номер краковского журнала «Dekada Literacka», посвященный главным образом презентации современной французской литературы, по необходимости представленной нам только во фрагментах и отрывках, взятых из десятков книг современных авторов. Я столь загружен чтением текущей литературы из области точных наук, что доскональное изучение содержания этого номера журнала не мог себе позволить и, повторюсь, мог его только листать, просматривая. Мои впечатления были настолько смутные и спутанные, что передаст их только образное сравнение: я чувствовал себя, как человек, столующийся на бедной кухне, которому случай дал возможность засунуть нос в приоткрытую дверь какого-то великосветского, прекрасного ресторана. Почувствовал аромат и поднимающееся клубами тепло чрезвычайно разнообразно и аппетитно готовящихся деликатесов и кушаний. Дверь захлопнулась, прежде чем я действительно успел попробовать что-то, и потому могу поделиться с читателями только впечатлением от чужой сытости. Трудно передать словами то чувство, которое охватывает заглядывающего на кухню французов. Кажется, что современные авторы именно потому находятся там в нелегкой ситуации, поскольку их подавляет одновременно вездесущий и невиданно огромный массив художественного литературного прошлого, довлеющего своими традициями, хотя творцы его принадлежат уже к ушедшим поколениям. Я прошу извинить мое примитивное ощущение, что в Польше господствует такое разжижение интеллектуальной атмосферы, будто мы прежде не имели глубин в собственном культурном строительстве, будто оно не существует для молодых. И эта общенародная исторически-литературная амнезия ведет к тому, что в действительности рождаются новые писательские поколения, но они кажутся размером скорее как грибочки, чем как тянущиеся в небо сосны.
Мы получаем не только малопитательные и не обогащенные переливанием крови, циркулирующей в прежних веках, произведения, но и то, что претендующих на писание в полный голос очень мало по отношению к почти сорокамиллионному населению страны. Просто убожество видно в том, что фамилии успешных публицистов, литераторов, критиков так постоянно повторяются в разных периодических изданиях, что едва мы откроем какой-то новый журнал, наталкиваемся на известных уже из других источников авторов. Мы — интеллектуальные бездомные. Наверняка можно представить целые списки аргументов, оправдывающих такое положение вещей, и прежде всего, наверное, обе страшные оккупации, немецкую и советскую, которые отдали нас на съедение, ликвидировав создающую общественное мнение национальную элиту. Это был потоп, а мы — уцелевшие, но по исторической необходимости представляем горстку жертв крушения. Кто-то может, естественно, возразить, говоря, что если нас, пишущих на достойном уровне, и мало, зато стало свободно, увеличилось необходимое для представления пространство, и потому не надо нам этой толкотни подобно типично французской исторической традиции. Может, это отчасти и правда, но ощущение отечественного убожества в сопоставлении с небольшой трансфузией, выполненной журналом «Dekada Literacka», осталось.
В конце можно заметить, что при скромном предложении и спрос у нас небольшой, о чем лучше всего знают издатели, говоря о мелкости читательского рынка. Я также сомневаюсь, чтобы французы, пишущие для интеллектуальных гурманов, могли в наши времена глобализации рассчитывать на многотиражные издания. Это тривиально и даже пошло, но после нас останется не «железный лом», как писал Боровский, а в основном мусор.
Сильвические размышления CIX: Межвоенное двадцатилетие[505]
Особым образом я воспринял книгу Анджея Завады о литературном межвоенном двадцатилетии. Она очень содержательна, прекрасно издана, полна фотографий и гравюр, и ее даже венчает небольшая серия цитат, взятых из произведений того времени. Но прежде всего я должен сказать, что эта книга стала мне столь близкой потому, что она словно представляет цветной оттиск моей молодости. Потому что я родился через два года после сражений с украинцами за польский Львов, а через два года после экзамена на аттестат зрелости та Польша моих юношеских лет распалась под немецко-советским ударом.
Из фельетонов Антония Слонимского, публиковавшихся в то время в журнале «Wiadomosci Literackie», с двухтомным переизданием которого я смог ознакомиться сейчас, та Польша выглядывает как страна бедная, достаточно мрачная, представляющая отдаленную периферию Европы. Зато столь буйный, даже удивительный триумф творческих свершений, который вспыхивал после многих лет рабства, кажется приукрашенной картиной тех времен. Однако противоречие это только кажущееся. Понятно, что будучи ребенком, учеником начальной школы, гимназистом я даже пассивно не мог участвовать в разожженном свободой и разогнавшемся, не только в танцевальном, но словно в торопливом темпе, развитии польского искусства.
Просматривая книгу Завады, я получил сильное впечатление от того, что сжатый до двадцати лет взрыв талантов отличался такой спешкой, как если бы скрытый суфлер истории — дух времени — втайне подгонял пишущих, рисующих, наконец, играющих не столько потому, чтобы эта молодая Польша могла напиться свободы, сколько будто в безмолвном предчувствии ужасов, которые на нее обрушились в сентябре 1939 года.
С большим трудом, а может и напрасно, в настоящее время мы пытаемся раскрыть причины, которые дали великолепные результаты, в значительной мере уже забытые и превращенные в пепел вместе с огромным большинством их создателей. Автору этой книги удалось из прошлого, шестьдесят лет забитого гробовыми досками, вызвать духов, пышущих такой плодотворностью, что это даже мне, в то время щенку, передалось. Перечислить всех людей, представляющих коллективный облик того межвоенного периода, разумеется, невозможно, хотя сама книга кажется очень уж сокращенным изложением, если в ней выделяется столь много различных тонов, звучащих для меня гармонично.
Правду говоря, мне всегда меньше всего нравился авангард, с его неуравновешенностью и ломанием хребта многому польскому. Однако все, что оказалась столь хрупким под бронированными молотами, бьющими нас с Запада и с Востока, именно потому кажется мне ценным, что являлось отражением глубокого фона моей молодости. Даже и не важно, когда звучат эти слова, что на меня, подростка, особенно подействовало в то время, ведь от всей сцены значительных событий я был отделен школьной партой. Вместе с тем над книгой Завады поднимается черная вуаль памяти, поскольку нельзя не осознать, в каких ужасных обстоятельствах погибли польские творцы, и каким ужасным был финал столь многих судеб. Ведь это был чрезвычайного плодотворный период, не столько завершенный, сколько разбитый с Запада и Востока, и только сейчас можно присмотреться к этому прошлому, столь недавнему и столь окончательно сокрушенному. История двадцатого века все отчетливей набирала все более ужасное ускорение.
Если с помощью памяти извлекать, словно отдельные нити из ткани, отдельные судьбы людей, которым я благодарен за все великолепие искусства, усвоенного в юношестве, то, правду сказать, делается страшно. Урожай жизни был прекрасен, а урожай смерти поглотил слишком многих, чтобы мог полностью возродиться утраченный дух народа. Литература погасла надолго, заткнутая кляпом немцами, замученная в пытках Советами. И это не похоже на судьбу, наиболее трагичную в планетарном масштабе. Именно таковы обычные события в истории.
Сильвические размышления CX: Поэзия и проза молодых II[506]
Меня засыпают большим количеством томиков стихов, чтение которых из-за их чрезмерного наплыва для меня проблематично и даже просто невозможно. Удивительно же то, что временами у меня создается впечатление, будто грань, которая разделяет традиционно характерными признаками страну поэзии от прозы, оказалась попросту повсеместно выбита с места, словно водозадерживающая плотина во время паводка. Лично я считаю, что ничего лучшего этой грани в писательском деле не существует, причем до такой степени, что хотелось бы, чтобы Гомбрович был прав, утерждая, что определенный нажим сверху, критический или общественный, является толчком для созидания.
В настоящее время возникла необычайная легкость производства языковой продукции, претендующей называться поэзией. По моему убеждению, написание белых стихов, таких, из которых излучается очевидность соприкосновения с поэзией, парадоксально вещь более трудная, чем достаточно традиционно искусная столярка, которой так обтесываются стихи, чтобы они оказались в упряжи размера и рифмы. Поэтому я не считаю, что множество форм поэтического высказывания, берущее начало еще из Греции и из Древнего Рима (например, гекзаметр, которым пользовался еще Мицкевич), заслужило — вместе с ювелирной точностью составляемых октав, сонетов и секстин — того, чтобы быть навсегда выброшенным из связной речи на свалку.
Разумеется, ригоризм[507] наверняка не является достаточным условием, после его принятия, для высекания блеска стиха. Однако поразительно, что стихи остаются в памяти и закрепляются в ней в большой степени благодаря их форме. Поэтому лучше всего из томика «Это» Милоша я помню последнее стихотворение. Поэтому через десятки лет я могу свободно извлекать из памяти зачастую эквилибристическую поэзию Лесьмана. Разумеется, речь идет только о микроскопическом следе, который поэзия оставляет в сознании. Это также относится и к переводам. Некоторые стихи Федерико Гарсиа Лорки я помню благодаря переводам Лисовского. Ему удалось перенести в польский язык шелестящую красоту испанского языка. Сознаюсь даже в том, что особенно в молодости я ценил полные рифмы выше, чем ассонансы. Кроме того, я всегда завидовал, например, русским в том, что в их языке ударение не постоянно, что, без сомнения, обогащает их поэзию по сравнению с нами, окончательно приговоренными на определенную скудость мужской рифмы[508].
Все вместе это накапливается в фонде моих личных огорчений, а также угрызений совести, поскольку для меня представляет загадку ответ на вопрос, насколько еще велик в Польше круг читателей, любящих поэзию. Дерзко язвительный Гомбрович ведь когда-то написал провокационное эссе, утверждающее, что к чтению произведений указанного жанра принуждает школа, и поэтому также неслучайно в «Фердидурке» ведется перепалка между учителем и учеником по вопросу «восхищает или не восхищает». По сути дела, в настоящее время мы имеем ужасное предложение стихов, которое должно создавать искаженное мнение, будто бы доступ на захваченный коммерцией рынок был трудным.
Давно известно, что хорошее стихотворение — такое, которое не теряет экспрессии, даже если его записать непрерывно, словно обычную прозу. Я не думаю, что это универсальный тест, поскольку должно существовать различие между афоризмами, «непричесанными мыслями», шуточками и настоящей поэзией, дух которой не исчезает даже после представления в прозаическом виде.
Написав все это, я хорошо понимаю, что выступаю с утраченных позиций, и потому потоп слов и предложений, претендующих на взлет над прозой, будет продолжаться. Однако я признаюсь, что меня порадовали бы попытки возвращения к строгим формам, поскольку их кристальность, как более трудная для достижения, стоит усилий. Мне ничего не известно о том, как много есть людей, обращающихся к молодой лирике. Если судить по тиражам, то почти горстка. Не столь уж давно минули те времена, когда не только молодежь зачитывалась Галчинским и декламировала его. В завершение скажу, что я могу в этой материи ошибаться, но только течение такой молодой поэзии, которая бы меня порадовала, минует все то, что почта приносит мне домой.
Сильвические размышления CXIX: Критикую критиков[509]
Пшемыслав Чаплиньский в своей работе «Микрологи со смертью» занялся среди прочего моим «Насморком»[510] 1. Считаю, что он очень точно выделил из этой книги то, что существенно. Однако же признание критика не должно подталкивать автора к выражению благодарности. Я хочу лишь проанализировать одно небольшое замечание Чаплиньского, в котором он заявил, что «Насморк» — это выдуманный текст. Нечто очень близкое писал также Ежи Яжембский в своем послесловии[511]. Обоим моим критикам довольно подозрительным показалось то, что хаос, управляющий и устанавливающий загадку смерти туристов в Италии, в финале книги также через хаотичность судьбы героя был раскрыт, и тем самым загадка была разрешена. Я понимаю, что такая «точность» случайных событий, которая сначала загадку создает, а затем ее таким же слепым способом ликвидирует, на первый взгляд может казаться чрезмерно удачной. Ибо ведь я представил не настоящие случаи и совпадения, а должен был их выдумать. Кроме того, я допускаю, что способ, которым я осуществил как возникновение, так и исчезновение тайны, окружающей ряд смертей, можно защитить именно во внелитературной области. Иначе говоря, сюжетная композиция, в некоторых случаях даже как будто крайне невероятная, может осуществиться в действительности.
Недавно я читал сборник военных воспоминаний немецких солдат времен Второй мировой войны. Они добросовестно описывают свои переживания, гекатомбы, из которых им удалось выйти живыми. В другой области, а именно в трудах об уничтожении евреев, также можно встретить автобиографические воспоминания тех, кому удалось избежать гибели. Разъяснение вопроса, каким образом из этих морей смерти смогли возникнуть свои ораторы, столь тривиально и столь банально, что, собственно говоря, неловко о нем говорить. Число павших немцев, как и уничтоженных евреев, было огромно. Пожалуй, немногим удалось уцелеть. Но ведь рассказов об этой гибели масс людей мы можем ожидать только от свидетелей, которые выжили.
В приближении к этому механизму человеческих судеб, отданных на истребление, можно также защитить мой «Насморк». Ведь если бы действие, предпринятое героем, целью которого было разрешение загадки, не увенчалось ее разрешением, возможным из-за абсолютно отличного от конструкции загадки механизма, а скорее переплетения позднейших событий, или если бы этот выполняющий роль детектива астронавт под влиянием наркотической смеси выскочил в окно и погиб, то рассказ, ведущийся от первого лица, прервался бы, и мы бы ничего не узнали о новом виде возникающих угроз цивилизации. Если доходит до массовых катастроф и смертей, кто-то должен уцелеть, чтобы просто рассказать нам о том, что произошло. Поэтому в этой тривиальной действительности необходим какой-то свидетель гибели, и именно эту роль я доверил герою «Насморка». В категориях литературной конструкции это одна искусная уловка автора, но нельзя ведь считать, что некая рука судьбы вела тех немцев и тех евреев, которые пережили военную эпоху. Хотя спасение случается редко, оно представляет, как правило, интегральную часть массовой гибели, и тем, что так действительно и происходило в реальном мире, я оправдал бы перед собой финал «Насморка». Именно спасение во Второй мировой войне бывало скорее редко, но ведь случалось. И этот естественный ход событий, сегодня уже исторических, дает право на мой подход в сфере литературного вымысла. Потому что я считал, что не выдуманность, а просто серия случаев смогла защитить единицы от смерти, а то, что так случалось, подтверждает правильность моего писательского подхода.
Сильвические размышления CXX: Читаю Сенкевича III[512]
Мне кажется, что жизнь книг, по большому счету, не намного длиннее жизни их авторов. Массово читаемые в течение нескольких лет, идущие нарасхват модные писатели перестают существовать сразу, едва над ними закроется крышка гроба. Несомненно, читательские возможности ограничены, и поэтому книги новых авторов, даже занимающихся не своим делом, отправляют в некрополь литературы сочинения предшественников. Очень немногие произведения обретают жизнеспособность, выходящую за пределы жизни писателя. Порой реальная бестселлерная популярность в мировом масштабе абсолютно не сулит и не гарантирует прочности успеха в будущем и, что интересно, хотя на жизнь книг имеют несомненное влияние процессы, происходящие в обществе, благодаря которым Конрад, например, во время оккупации пользовался повышенным интересом, нет какого-то правила, которое бы решительным образом связывало популярность книги с общественными настроениями. История, если сравнить ее с ситом, которое одним названиями дает возможность дойти до будущих поколений, а другие задерживает, является, однако, решетом такого особого рода, что нельзя раскрыть явных закономерностей книжного отсева.
Просмотр изданной стотысячным тиражом двухтомной энциклопедии польской литературы доказывает, что авторы действительно представляют кладбище. Это на самом деле странно, поскольку также нельзя утверждать, будто бы несравненная, лихорадочная, восторженная популярность обеспечивает верное читательское постоянство. Это касается не только рядовых писателей, ибо всеобщая смертность сочинений относится также и к лауреатам Нобелевской премии. Однако немногочисленные произведения обретают жизнеспособность, то есть пользуются спросом и остаются в издательском, книжном и потребительском обращении, но, насколько мне известно, никто нигде не пытался подготовить хотя бы статистические сводки, из которых можно бы извлечь общие черты долгоживущих произведений. Каждый языковой, национальный круг имеет своих классиков, зато очень немногие среди них получают мировое признание. Продолжительность индивидуальной карьеры вообще не закладывается в момент рождения книги.
Не знаю, правда ли это, но до меня доходят слухи о всеобщем снижении интереса к «Трилогии» Сенкевича. Поэтому я взялся за эксперимент, основанный на каком-то там очередном прочтении этих книг, написанных, как выразился в послесловии автор, «для утешения сердец». Что касается меня, «Трилогия» сдала экзамен прежде всего благодаря тому, что в ней раскрывается, как выразился ее противник Гомбрович, «великолепие повествования». «Трилогия» ценна прежде всего языком, который вовсе не устарел, поскольку не принадлежит к конкретной эпохе. Сенкевич выполнил, собственно говоря, фракционированную дистилляцию и выделил из полной макаронических оборотов стилизации, которая являлась его «татарским игом», устойчивые элементы, выросшие из коренного польского языка и только изредка бережно проткнутые латиницей. Фабула этих книг местами так себе, но то, что они должны сказать, выражено с несравненной меткостью, преодолевающей временные барьеры. Современные критики Сенкевича раскололись на два противоположных лагеря — апологетов и противников. Время примирило эти крайности. К «Трилогии» можно возвращаться так, как возвращаешься к родному дому. Правда, я не повторил бы за Сенкевичем, что чтение на самом деле служит утешению сердец. Есть там в глубине нечто подгнившее, как предзнаменование негативных оценок, и что напоминает, к сожалению, какую-то фальшивую ноту, свойственную нынешним временам. Таковы парадоксы литературы.
Сильвические размышления CXXI: Читаю Сенкевича IV[513]
Вынужденный обстоятельствами, не зависящими от меня, к длительному пребыванию дома, с особым вниманием я приступил к новому чтению «Трилогии». Написано о ней очень много, но я располагал только томом критики, собранной в свое время Йоделкой. Обстоятельность моего чтения не пошла, пожалуй, на пользу «Трилогии», поскольку в противоположность различным критикам, ищущим исторические переиначивания, выполненные Сенкевичем, противоречия между сочинением и историей, то есть как бы внешние недостатки произведения, я занялся прежде всего видимыми несоответствиями в тексте. Я заметил, например, что если Зося Боская была наполовину расцветшей девушкой, то есть ей было около шестнадцати лет, то ее мать, называемая автором «солидной матроной», не могло быть больше, чем неполные сорок, а вероятней от тридцати шести до тридцати семи лет. Несмотря на это, один из персонажей романа называет ее старухой. В свою очередь, Анна Борзобогатая-Красенская, с которой мечтал связать себя узами брака пан Володыёвский, оказалась по расчетам, основанным на данных текста, поистине «солидной матроной», поскольку в 1647 году была панной приживалкой княжны Вишневецкой, зато к моменту, когда она должна была выйти замуж за пана Михала, прошло двадцать лет. И потому возрастом она равнялась тогда матери Зоси Боской. Не имею понятия, обратил ли кто-нибудь внимание на эти особенности, но считаю, что таких наблюдений должно уже было быть по меньше мере несколько. Они не мешают беглому чтению, но являются композиционными недостатками, скрежещущими, словно песчинки во вкусном блюде.
Подобных несоответствий, причем значительно большего калибра, в «Трилогии» много. Обращали уже внимание на то, что пан Заглоба, введенный в первом томе «Огнем и мечом» в роман, — неприятный лгун, пьяница и прихлебатель, живущий у любого из милости. В остальных томах этого замечательного романа происходит полное патриотически-ангельское изменение этого персонажа. Он вырвался из-под власти автора и по отношению к нему произошел тот самый процесс постепенного облагораживания и патриотического усовершенствования, которому подлежат все существа, положительные по авторскому предположению. Однако, несмотря на все эти промахи, вызванные вероятнее всего самой методикой, с помощью которой Сенкевич создавал это великое сочинение, оно остается великим не только благодаря размерам. Хотя самый строгий из критиков, Гомбрович, обвиняя, скорее справедливо, «Трилогию» в поверхностной красоте, одновременно вынужден был признать «великолепие повествования» этих книг. Сенкевич был уже в свое время обвинен в педофилии, существенные следы которой носит сочинение. У Баси Володыёвской не лицо, а личико, не ноги, а ножки, не глаза, а глазки. Чем большим очарованием по воле Сенкевича должен был блистать какой-нибудь женский персонаж, тем выразительней он впадал в детство. Однако все эти слабые моменты не уменьшают силы очарования, которое может вызывать чтение произведения. Споры об исторической достоверности или скорее превосходной сказочности этих книг, собственно говоря, уже мертвы. Похоже, современная молодежь не заглядывает в «Трилогию» так, как это бывало в минувшем столетии. Если так, то эта молодежь многое теряет в силу обстоятельств, лежащих вне сюжетного течения произведения. Я имею в виду язык, который во времена Сенкевича не был современным и который одновременно отражает польский язык XVII века. Великолепие повествования воспринимается по сегодняшний день, что означает, что оно сопротивляется течению времени, пытающемуся разорвать каждую фразу. В этом языковом наследии я вижу наибольший триумф Сенкевича, поскольку ничего более не делает для нас трудночитаемыми старые книжные тексты, как агония языкового великолепия.
Сильвические размышления CXXIII: Поэзия и проза молодых III, или Прелести постмодернизма V[514]
С определенного времени я получаю значительное количество литературных произведений, главным образом поэзии, созданных молодыми. Вероятно, из-за того, что являюсь так называемым старцем, в основном я не нахожу удовольствия от этой продукции, поскольку в целом она имеет в высшей степени постмодернистский характер. Господствующая в настоящее время в логике концепция моделирования позволяет наглядно показать смысл, заключающийся в понятии «постмодернизм». Чтобы наглядно продемонстрировать этот смысл, следует взять кукурузу самого вкусного белого сорта, среди тех, которые находятся в коллекции Пулавской, затем следует сварить ее и съесть зерна. После тщательного обгладывания кукурузы остается уже только кочерыжка, взъерошенная пустой шелухой. Именно эта кочерыжка и является точной моделью постмодернизма. Ее можно различными способами разрезать на кусочки, разгрызать или даже съесть. Сказанное не относится, разумеется, ко всему, что представляет в настоящее время продукцию молодой поэзии, поскольку каждое типичное правило имеет свои исключения. Однако же главный принцип сомнительной доступности, достаточно шокирующей уродливости, аморфности, равно как полного отсутствия рифмы, ритма, а также стилистической организации мне по меньшей мере усиленно напоминает обгрызенный кукурузный початок, что является, ясное дело, моим чисто субъективным впечатлением, в наименьшей степени не предъявляющим претензии на принципиальную оценку всего, что могут создать молодые поэты. Как я заметил, попадаются, разумеется, исключения. Не будучи критиком, а тем самым будучи обреченным на свое чисто субъективное ощущение, я отказываю себе в праве селекции ценностей, неподвластных моей модели постмодернизма.
Пожалуй, в наибольшей степени постмодернизм проявляется в пластических искусствах, в которых со времен Фидия до Малевича не было недостатка в произведениях, дающих наслаждение глазу. В настоящее время различные виды выделений, уродств, разложений и особенно смешанных с экскрементами генитальных элементов представляют ядро пластического творчества. Поскольку за нами уже остались такие искусства, как упаковка в бумагу церквей, ратуш и музеев, как обеспечение прочности человеческих трупов благодаря так называемой пластификации, все более трудная задача стоит сегодня перед адептами пластики, к которым я имею счастье не принадлежать.
Сильвические размышления CXXIV: Критикую критиков II[515]
Согласно неписаному правилу, автор не должен высказываться против своих критиков. Однако есть такие удивительные ситуации, которые просто вынуждают взять слово. Недавно вышел толстый том различных рефератов, прочитанных на «лемологических сессиях» в Польше и Германии. Я вовсе не намерен гнуть спину под натиском научных толкований того, что написал, и только очень кратко отмечу, что тексты Пшемыслава Чаплиньского и Ежи Яжембского меня порадовали, поскольку из них я узнал кое-что разумное о моем творчестве. Однако в этом толстом томе, названном «Станислав Лем — писатель, мыслитель, человек»[516], присутствует одна работа, которая своей странностью вступает в область ненамеренной юмористики. Дама по имени Малгожата написала статью под названием «Femina astralis»[517], в которой мой роман «Непобедимый», населенный исключительно мужскими персонажами, рассматривается как одна большая аллегория женского пола. Наподобие чудака, у которого все нарисованное — от колеса до башни — ассоциировалось исключительно с сексом, эта дама приняла как планету Регис, так и все формы ее поверхностного рельефа за маски гениталий, то есть изображение поверхности планеты наполнила выдумками, концентрирующимися вокруг половых органов женщины[518]. Однако удивительная вещь произошла с этой дамой: она не заметила, что ракета, название которой носит роман, имеет — как типичный баллистический снаряд — форму, по необходимости представляющую копию фаллоса. Впрочем, я считаю, что критика не была бы столь неудачна, если бы обратила свое острие на абсолютно другой мой роман, а именно — «Эдем». Странные жители названной планеты, с двойными туловищами, названные земными астронавтами «двутелами», на самом деле напоминают наружные женские половые органы, ибо состоят из большого, будто бы двугубого туловища и спрятанной в нем между выпуклыми губами малой фигурки размером с ребенка. Все это вместе удивительно четко, причем придуманное неумышленно, представляет в значительном увеличении pudendum muliebre[519]. Действительно жаль, что автор, с нетерпеливым рвением ищущая в моих произведениях генитальные образы, не обратилась непосредственно ко мне с просьбой о подсказках, поскольку я смог бы несравненно легче дать ей более подходящие цели, чем роман «Непобедимый». На произвольность установления скрытого сексуального смысла для самых разнообразных объектов, предметов и атмосферных явлений уже очень давно указал Зигмунд Фрейд, ибо на самом деле вообще нет такого предмета, такой мысли или идеи, которую не удалось бы изложить, обращаясь к генитальной терминологии. В высшей степени скептически можно добавить, что не столько мы все мысленно заякорены на том, что сексуально, сколько попросту произвольность таких или каких-либо других сравнений следует из воображаемой человеческой свободы. Однако менее тривиально то, что в такого рода семантических исследованиях надо знать меру, поскольку не все, что существует, своим происхождением обязано исключительно сексуальному влечению. Я не встречал еще инженера, который бы считал, что типичная форма больших холодильников атомных энергетических станций появилась из-за несдержанной похоти конструкторов. Поэтому хотя и все можно вывести из всего, скептицизм здесь всегда лучший советчик, чем вера в универсальность подсознательных тенденций фрейдизма. Он уже действительно изрядно для нас устарел.
Сильвические размышления CXXVIII: Поэзия и проза молодых IV[520]
Праздники — это период активного вручения подарков, среди которых я, и не я один, считаю особенно ценными — книги. Просматривая приложения к журналам, представляющие круг доступных на рынке названий, я очень часто должен не только себе, но и самым близким отказывать в хорошей литературе. На самом деле книг выходит довольно много, но какая-то современная чахотка заразила традиционную сюжетную беллетристику. Когда в семейном кругу вспоминается литература из молодости, а также и зрелого возраста, в памяти всплывает обилие названий, которых читатели не могут забыть. На самом деле и сейчас нет недостатка в новых произведениях, но это либо результат усиленного рифмоплетства, либо засилие лексики или же родственных произведений, не радующих страстного любителя фабул. Казалось бы, этих новых книг много, однако пользы от них мало, особенно если человек желает обогатить переживаниями долгие зимние вечера. Правду говоря, между приключенческо-детективными книгами и такими, которые претендуют на современный постмодернизм, попросту возникла дыра. Плодится в общем-то кокетливо расплясавшаяся фантастика, особенно с элементами магии, но, говоря абсолютно примитивно и прямо, — читать нечего. Я всегда считал, что книг, достойных постоянного пребывания на домашних полках, в мире появилось так много, что есть уже жанры и непревзойденные, и забытые. Сваливание вины на выходящий за пределы галактики Гуттенберга визуальный натиск телевидения не является достаточным объяснением беллетристической пустоты. Похоже на то, что авторы, искусные в эксплуатации воображения, или стыдятся этого творчества, якобы второсортного, или считают, что время расцвета их способностей уже миновало.
Особенно сильно дает о себе знать этот недостаток, о котором я пишу, в предпраздничные дни. Вроде бы мы имеем в удобном распоряжении книжные интернет-магазины, и даже удается иногда обнаружить книги, к которым появляется интерес. Но что же: зачастую они оказываются почти недостижимы, поскольку столь ничтожны их тиражи. Действительно, пользующиеся успехом названия в незапамятные времена бродили стадами, и каждый, кто перешагнул порог пятидесятилетия, с легкостью назовет произведения и произведеньица, которые запали в память. Однако что-то такое произошло в наше время с писателями, а может, и с издателями, что они осмеливаются вести нас через изощренную скуку, претендующую на оригинальность, а новых певцов поразительного богатства мира не встречается. Не знаю, касается ли это также литературы, адресованной детям и молодежи, но боюсь, что за магией маленького Поттера возникла неимоверно скупо заселенная окраина, в напрасном поиске переживаний выглядящая подобно некоему пепелищу. Мы все еще ждем творцов, которые просто смогут занимательно и волнующе рассказать. Или они уже покинули этот мир?
Сильвические размышления CXXX: Пора представиться[521]
Хотя это будет выглядеть, словно если бы я сказал что-то неуместное, однако считаю, что уже пришло время представиться мне в журнале «Odra». Я хорошо знаю, что в нашей стране считаюсь автором нескольких книг из области научной фантастики. Но как-то странно получилось, что за пределами Польши я известен не как литератор, а как философ. Например, как аналитический философ я фигурирую на странице 362 в «Новейшем философском словаре», изданном в России[522] 1, и единственное неудобство мне там доставляет сосед, потому что затем в словаре рассматриваются философские труды хорошо известной личности, каковым был Ленин. Представители польской философии, например, такие как Котарбиньский, там также подробно охарактеризованы — он как создатель реизма заслужил большую статью. А в свою очередь в немецком учебнике-хрестоматии по аналитической философии, составленном тремя сотрудниками философского факультета университета в Байройте (Дагмар Борхерс, Олаф Бриль, Уве Чарнера), первую работу открывают рассуждения, а скорее дискуссия с уже, к сожалению, покойным, считающимся одним из величайших логиков и философов американцем Куином Виллардом ван Орманом. Он особенно известен благодаря своей оригинальной работе о двух догматах эмпиризма, в которой доказал, что между аналитическими и синтетическими суждениями существует стертая, неустойчивая граница. После дискуссий с немецкими, австрийскими, английскими философами и одним финном появляется диалог со Станиславом Лемом. О фантастике в нем нет ни слова. В большом философском словаре, изданном в 1999 году в Штутгарте, профессор Берндт Грефрат поместил статью, посвященную мне. Уже много лет назад в Москве выходило, как неофициальное апериодическое издание, в достаточно специфическом виде обсуждение моих чудачеств из области когнитивистики, названное «Тарантога»[523]. Однако, имея неприятную привычку терять по рассеянности большинство посвященных мне как критических, так и некритических материалов, я потерял достаточно объемную подшивку этого печатного издания.
Все вместе это очень забавно, ибо у нас часто мне приходится слышать от людей, которые хотят мне сделать комплимент, что мои книги читают их дети. Видимо, эти дети исключительным образом развиты именно в области философии. В польской же литературе до сих пор я заметил только один след, ведущий в направлении философии Лема. В сборнике «Edukacja filozoficzna», изданном Варшавским университетом, доктор Павел Околовский на странице 103 поместил работу, посвященную, как он говорит, моей дискурсивной, а значит не беллетристической, прозе. На последней странице Околовский называет меня рационалистическим натуралистом с метафизическими продолжениями. Разные хорошие вещи написал этот автор и по вопросу моего положения на небосводе современной философии. Однако мне кажется, что с таким высоким местом он немного перебрал.
Сильвические размышления CXXXI: Мой роман с футурологией III
Меня продолжают удивлять сюрпризы, связанные со взглядом на будущее. Некоторые из моих предположений, высказанные, например, в книге шестидесятых годов под названием «Сумма технологии», сбылись. Зато основным недостатком обращенных в будущее прогнозов оказалось именно полное пренебрежение и невнимание к двум факторам, а именно: влиянию финансовых вложений на развитие технической цивилизации, то есть экономических стимулов, и умалчиванию политических влияний. Правда, второе простительно, ибо даже если бы я сумел подготовить хронологию мировых изменений во главе с падением Советов, цензура бы это ни за что не пропустила. Зато последствия, источником которых является экономика и ее глобальные противоречия, по меньшей мере в какой-то степени возможно было предсказать еще в прошлом веке. Здесь я потерпел неудачу.
Насколько странным, настолько и парадоксальным является то, что несколько моих совершенно несерьезных беллетристических текстов, которые я сам никогда, наверное, не признавал не за что иное, кроме как за гротескные и шуточные идеи, течение времени — к моему удивлению — наполнило действительностью. В предназначенном для телевидения «Путешествии профессора Тарантоги» для вымышленной планеты я выдумал акроним WYKLK от «Wytwornie Klsk i Katastrof»[524], с которым в том тексте соседствует NAJLK от «Najwyzsza Izba Lkarska»[525]. Однако с течением времени когда-то благородное и спокойное телевидение начало в мировом масштабе преобразовываться в фабрику бедствий и катастроф, ужасных страшилок, общей задачей которых в бесчисленных телевизионных программах явно является удовлетворение спроса на катастрофы, бедствия, несчастья, обильное насыщение кошмарными образами трупов, развалин, полей сражений. Вероятнее всего, зрители любят картины убийств и разрушений, наслаждаются сильными землетрясениями, пожарами, наводнениями, смертоносными лавинами и извержениями вулканов, а если их недостаточно, то почти все приключенческие сериалы показывают нам убийство как явление типичное и обыденное. Немецкое телевидение, которое еле-еле сводит концы с концами из-за отсутствия средств, в настоящее время импортирует довольно дешевые, вероятнее всего, американские фильмы пятидесятилетней давности. Это черно-белые фильмы преимущественно со схематичной интригой, но меня занимает не их сюжетная сторона, а только симпатичные обстоятельства, легко распознаваемые: все мужчины, будь то детективы, или жертвы, или преступники, представляются в безупречных двубортных или однобортных пиджаках, все носят рубашки и галстуки, и ни у одного нет ни косы, ни нечесанных косм на голове, а также всем вместе не хватает винтиков, вкрученных в уши, ноздри, губы и другие части тела. Что касается их партнерш, если изредка и показывают тела, одетые в купальники, то они не напоминают скелетоподобных моделей сегодняшнего дня, которые все вместе могли бы сейчас с большой вероятностью играть узников, только что освобожденных из трудового лагеря. Я понимаю, что меняющиеся времена изменяют и традиции в области одежды и преступного поведения, но я не могу воздержаться от таких замечаний, как вышеприведенные, которым поразительным для меня образом современность придала совершенно серьезный смысл в условиях как потребления страшилок, так и производства бедствий и катастроф.
Однако еще больше меня удивило то, что мою абсурдную идею, воплощенную в изложении вымышленной книги вымышленного автора Гулливера, названной «Эрунтика», а именно — историю о том, как один бактериолог научил бактерии разговаривать, я вычитал в журнале «Scientific American» в номере за февраль этого года в статье под английский названием «Talking bacteria»[526]. Ибо как показали исследования, различные разновидности бактерий общаются, чтобы начать определенную деятельность, например, светить, если эти бактерии на это способны, или создавать общим усилием токсины, атакующие организм, в котором они разместились. Бактерии на самом деле не общаются по-английски, для этого они используют определенные виды молекул, но если они не создадут quorum[527], не дойдет до их совместного действия.
Сильвические размышления CXXXIII: Поэзия и проза молодых V
Настолько же неожиданным, насколько и приятным сюрпризом для меня было получение трех первых номеров журнала «Lampa»[528], издаваемого Павлом Дунином-Вонсовичем. Сначала перелистывая, а потом читая, я оказался в до сих пор неизвестной мне атмосфере молодого поколения прозаиков, поэтов и критиков. Не все читатели могут быть восхищены тем, что, если не львиную часть журнала «Lampa», то значительную его площадь занимают тексты самого издателя. Однако мне это не мешало, потому что в свои тексты он вводил критический интеллект, юмор, не лишенный язвительности, и привлек в свой журнал много молодых сил. Разумеется, это не значит, что я соглашаюсь со всем, что представлено в первых трех номерах ежемесячника. Например, положительно и с уважением обсуждаемой книге Стефана Хвина («Страницы из дневника»), обширному сборнику его воспоминаний, переживаний и замечаний, я не пожалел бы критического замечания, адресованного к не слишком вежливой манере автора определять второстепенный ранг писателей, в том числе умерших, с чем, впрочем, мог бы согласиться, если бы сам Хвин согласился признать принадлежность к этой категории.
Особенно порадовало меня обилие критических обсуждений книг почти совершенно не известных мне авторов младшего поколения. Вероятно, человеку, не только именующемуся в журнале старцем, каковым я и являюсь, может не понравиться столь явное объединение явлений высокой и низкой культуры, в результате чего в журнале «Lampa» соседствуют друг с другом довольно плохо нарисованные комиксы и серьезнейшие разговоры с творцами, которые, впрочем, к некоему моему удивлению, уже действительно не принадлежат к молодым. Я имею в виду хотя бы Стасюка и Токарчук, ибо все еще молодая Масловская ничего оригинально нового в будущем не сулит. Впрочем, все пишущие в этом симпатичном мне ежемесячнике замечают сами, как быстро проходит молодость и как из-за столь банального явления единственным способом продолжительного творчества является жизнь, наполненная упорным трудом, ибо от преклонного возраста может избавить только скорая смерть. Это вещь тривиальная, замеченная давно и хорошо выраженная в заглавии старого романа Анны Зегерс «Мертвые остаются молодыми».
Я намерен подписаться на журнал «Lampa», и всех заинтересованных в инновациях нашего писательства горячо к этому призываю. Notabene я узнал из колонок этого периодического издания, что на территории Польши появилось несколько сотен периодических и апериодических журналов, издаваемых группами молодых людей, и только хромающее распространение, а также ничтожность тиражей привели к тому, что, за немногими исключениями, ни с одним из этих отрадных феноменов я еще не встретился.
Сильвические размышления CXXXVI: Поэзия и проза молодых VI
Глупая и вредная атака на овременную польскую литературу появилась в еженедельнике «Wprost»[529], написанная неизвестной мне Мартой Савицкой. То, что мы считаем в настоящее время самым лучшим, как произведения Стасюка, Токарчук или Тулли, было смолото, и тем самым им отказано в общественной ценности, поскольку книги таких авторов отходят от фабулы. Зато особа, выдающая себя за автора этого пасквиля, пытается рекомендовать присвоение премии вроде «Ники» Сапковскому потому, что в стране он достигает тиражей порядка полутора миллиона. Очень мучительно и скучно постоянное повторение старого и ничем не дезавуированного правила, которое гласит, что между объемом тиражей популярного автора и литературной ценностью его произведений нет непосредственной связи. Если бы такой тип связи существовал, то, разумеется, единственным кандидатом на Нобелевскую премию в настоящее время была бы Джоан Роулинг за своего «Гарри Поттера». Ведь тиражи ее книг достигли сотен миллионов экземпляров во всем мире.
Произнося эти слова, я чувствую одновременно их полное бессилие, поскольку они должны были бы прозвучать в центральном отечественном издании, которого у нас нет. Зато у нас есть клики и группировки, популяризирующие тексты посредственных или верных. Эта ситуация становится понемногу тайной полишинеля. Хотя я не могу закричать громким голосом в защиту талантливых писателей и писательниц, однако я могу согласиться на роль нейтрального наблюдателя. Моя позиция остается такой же независимой, какой она была во времена ПНР. В то время тиражи книг зависели от политической воли правителей, милость которых была очень изменчива. Освободило меня от зависимости от колебаний этой милости множество переводов и зарубежных изданий. Ведь не является тайной, что меня перевели более чем на сорок языков. Хотя это выглядит как парадокс, в настоящее время от группировок и козней меня освобождает многоязычный мир, поскольку я был и до сих пор являюсь везде издаваем и переиздаваем. Я произнес эти слова не как спесивый хвастун, а потому, что благодаря пятидесятилетнему труду полученное уже мировое положение дает мне право на противопоставление себя нигилистическим попыткам поспешного уничтожения несомненных писательских талантов. Я отдаю себе отчет в том, что страницы журнала «Odra» — неподобающее место для такого выступления хотя бы потому, что издание является ежемесячником с малым тиражом. Однако что же делать, если нельзя добиться большего, кроме как выступить в заранее проигранном деле. Возможно, это выступление не будет учитываться в реальных противостояниях, но и не будет полностью забыто.
Впрочем, фронтальная атака на нашу молодую литературу — это не обособленное явление, поскольку наиболее отчетливо «Wprost» уходит вправо и как может старается затруднить деятельность правительства Белки, которое хотя и хромает, но усилия направляет на спасение этой несчастной страны, как говорил в «Кукле» князь. В Польше растет количество магнатов, она тоже ведь богатеет. Пульс этого растущего достатка неровный, но из истории известно, что всегда легче уничтожить, чем создать и поддержать.
Сильвические размышления CXXXVIII: Поэзия и проза молодых VII[530]
В прошлом году при посредничестве моего немецкого агента я выписал себе большое количество каталогов различных издательств. И не нашел в них ничего, что меня бы заинтересовало, однако я допускаю возможность, что это был исключительно бедный год. В настоящее время, однако, я вижу, что на горизонте галактики Гуттенберга появился призрак, который вкратце можно назвать смертью фабульной беллетристики. Это касается прежде всего Европы, а в ней известных мне языков, и тому же недугу подвержена и Польша. В книжных магазинах вообще нет переизданий когда-то очень хорошо известных книг Честертона, а среди новых почти нет популярной или наполовину популярной беллетристики, создателями которой были О’Генри, Лондон, Кервуд и целое множество других, отнюдь не последних авторов.
В то же время мы наблюдаем сильное обмельчание авторских амбиций и читательских вкусов. Это значит, что книги, которые перед войной издавал, например, Марчинский, то есть литературу самую бульварную, критика оценивает сегодня довольно высоко, так чтобы и «Гарри Поттер» мог претендовать на пальму первенства. Отлично известные ранее французские авторы вроде Монтерлана также исчезли с полок книжных магазинов и не имеют преемников. Особенно явно вырисовывается эта картина на примере литературы, предложенной общественности перед Рождеством. В списках бестселлеров, помещаемых в газетах «Rzeczpospolita» или «Gazeta Wyborcza», нет, собственно говоря, ничего достойного внимания. Не скажу, что книги вообще не предлагаются, но только дело дошло до массового изъятия авторов жанра беллетристики с блестяще разработанным сюжетом. Разумеется, попадаются исключения, которые, к сожалению, подтверждают наблюдаемое мною правило. Я считаю этот процесс, нарастающий также в Германии и Франции, очень неблагоприятным и понимаю, что он, в числе прочего, является результатом конкуренции Интернета и телевидения с фабульной галактикой Гуттенберга.
Нелишне будет добавить, что я получил из Японии предложение о передаче фрагмента моих советских воспоминаний как материала для сюжета крупному производителю компьютерных игр. В первую минуту я хотел просто отбросить это предложение, но мне объяснили, что если я живу среди ворон, то должен каркать, как они. И поэтому с японцами упомянутое предложение я реализовал. Так называемая science fiction вместе с fantasy до некоторой степени заполняет большие пробелы, открывшиеся на поле развлекательной и легкодоступной литературы. Если бы я должен был обсуждаемое явление выразить в нескольких словах, я сказал бы, что, кроме большого обмельчания критериев, дошло до, возможно, даже более вредного гильотинирования литературных вершин. Уже нет Томаса Манна, Гессе, Джойса и целой плеяды несколько меньших калибром авторов, таких как Киплинг. Поэтому я задумываюсь, необратимый ли это процесс и будем ли мы обречены на книги с живым сюжетом, для которых высоким образцом является «Необыкновенная карьера Никодима Дызмы» Доленги-Мостовича. Рынок тривиальных произведений продолжает наполнять творчество, посвященное сексу, крови, преступлениям, однако я не могу отказаться от мнения, что если бы пересмотреть книги, возникшие в прежние времена в рамках именно этой тематики, то легко можно было бы найти произведения, не лишенные своеобразной привлекательности, находчивости, которые, однако, не переиздаются, поскольку достаточно велик прилив свежайших текстов, часто будто бы написанных левой ногой. По моему убеждению, я являюсь совершенно обычным читателем и испытываю сожаление, что ни в списках польских, ни немецких бестселлеров я не вижу книг, за которыми хотел бы протянуть руку. Модные в настоящее время акции по изданию коллекций избранных произведений, которые организует, например, «Gazeta Wyborcza», не могут мне, к сожалению, заменить поиск легко усваиваемых произведений и дающих материал для размышления, просто потому, что все эти книги, эксгумированные из прошлого, я знаю очень хорошо. Застой не касается исключительно таких языков, как польский или немецкий, поскольку ничего нового я не вижу также во Франции и в Чехии, где возникла пропасть после незабываемого Карела Чапека. Не очень утешительная ситуация сложилась в визуальных искусствах во главе с кино, однако это вопрос для рассмотрения в отдельной статье.
Сильвические размышления CXXXIX: Книга о Гомбровиче
Вышла из печати новая книга Ежи Яжембского[531], посвященная Гомбровичу. Издана очень старательно, содержит очень богатый иллюстрационный материал, однако не это свидетельствует о ценности работы. Яжембский не в первый раз занялся биографией автора «Фердидурке», рассматриваемой на фоне истории его семьи, которая notabene является типичной иллюстрацией той роли, которую сыграла Народная Польша в уничтожении помещичьего сословия. Уничтожение помещичьего класса считается, как это освещается в прессе, незначительным инцидентом времен ПНР, потому что слово берут те, кому тогда жилось не худшим образом. О самом Гомбровиче, о его литературном начале, о сломленном войной старте новая книга Яжембского предоставляет довольно много важных и не всегда известных сведений. Полной неожиданностью для меня была информация о воспоминании Мрожека после смерти Гомбровича, озаглавленном «Мой кошмар». Я как-то никогда не считал, что Гомбрович был кем-то вроде сиамского близнеца Мрожека.
Этот новый гомбровичелогический том исключительно основательно подготовлен и сконструирован. Схема биографии Гомбровича нам хорошо известна. Состоит она из трех частей: в нее вошли довоенная Польша, поездка в Южную Америку и выкарабкивание писателя из колодца, в который его втолкнула война. Впрочем, пересказать вкратце труд, выполненный Яжембским, нелегко. Гомбрович оказался мастером автосозидания, потому что хотел и сумел перековать многочисленные огорчающие его слабости в силу своей литературы. Герой этой книги проявляется постепенно, потому что не желал открывать этих своих самых обыкновенных и вместе с тем самых порядочных сторон своего личного характера, который смог публично предстать лишь после издания его семейной корреспонденции. Этот человек был очень особенный, сложный духовно, противоречивый, который для истории польской литературы оказался одновременно превосходным и трудноусваиваемым.
По моему мнению, Яжембский справился со своим планом: его последняя работа является наилучшей, хотя о Гомбровиче уже много написали и в Польше, и в мире. Однако Яжембский в большой мере переубедил меня даже в оценке более поздней, очень мрачной части наследия Гомбровича, а в особенности в отношении к «Космосу» и «Порнографии». Я не могу сказать, что он высек из меня восторг относительно этих двух заглавий, но раскрыл, насколько мастерски эти работы выполнены писателем. В своей работе он отдал должное Гомбровичу, и трудно допустить, что существуют еще какие-нибудь биографические секреты автора «Фердидурке», которые наш эксперт его творчества еще не открыл. Столь порядочная, старательная, уважительная и разумная работа, отдающая должное этому взбунтовавшемуся гению, заслуживает внимание тем более, что мы живем во времена дешевки и литературной упрощенности. Яжембский также обратил внимание на волнообразность мнений — что, впрочем, является типичным для истории литературы, — которые очень легко авторов высокого класса принижают и закапывают в никем не посещаемых некрополях.
У Гомбровича нет большого всемирного круга поклонников, но нельзя обойти его достижения. И хотя у меня нет никаких прав для награждения или выделения литературно-критических работ, я считаю, что к этому труду следует подойти с соответствующим признанием в надежде, что его жизнь не ограничится университетскими библиотеками. В журнале «Odra» я когда-то писал о том, что назвал «смертью фабулы», и хотя могу быть в своем мнении одиноким, считаю, что в этом мнении есть некая доля истины, случай же Гомбровича доказывает, что нет ничего, что могло бы заменить писательское мастерство. Гомбрович вступил в ряды классиков, а Яжембский задокументировал это редкое достижение. Обычно бывает так, что, если нет настоящих величин, появляются их слабые подражания.
Сильвические размышления CXLVIII: Поэзия и проза молодых VIII[532]
Похоже, что в издании «Tygodnik Powszechny» будет последовательно появляться ряд статей, посвященных состоянию дел в нашей художественной литературе. До сих пор мне на глаза попали две статьи: Анны Насиловской под названием «Литературка» и значительно более длинная Юлиана Корнхаузера. Анна Насиловская оценила нынешнее состояние нашей литературы довольно пренебрежительно. Трудно с ней не согласиться относительно значительного ослабления критики, а также, что, возможно, не менее печально, забвения творчества, начинающегося со смертью авторов. В свою очередь, Корнхаузер перечислил многих писателей, о которых читательский мир забыл, если за основу для подобного вывода принять наличие книг в книжных магазинах. Сложно объяснить рациональным способом, откуда взялась эта смертность литературных произведений.
Одновременно, как можно судить, на Польшу снизошло вдохновение. Молодых поэтов у нас столько, что если бы кто-нибудь захотел познакомиться с произведениями всех, пожалуй ничего другого, кроме чтения, не занимало бы его целыми днями, а может и ночами. Два дополнительных обстоятельства привели к почти чудесному размножению стихов, поскольку как размер, так и рифма трактуются с пренебрежением и, собственно говоря, кроме таких поэтов, как Ярослав Марек Рымкевич, никто ими и не пользуется. Действительно, в довоенной Польше мы имели немало таких поэтов, например, Чеховича, который сторонился ритмической рубки, но его творчество характеризовалось такой мелодичностью, что его нельзя тотчас же не распознать после прочтения одного стихотворения. Кроме того, поэзия стала столь прозаичной, что часто отличается от поэтической прозы лишь незначительно, и меня это особенно не восторгает. Не скажу, что прозаизация и отбрасывание за борт размера — это просто облегчение для молодого творчества, ибо можно утверждать, что как раз наоборот. Что стихотворение без рифмы и ритмически хромое может быть качественным, если оно четкое, то есть рождено под пером талантливого поэта.
Правда, последние слова предшествующего предложения опасно приблизили меня к таинственной проблеме так называемой талантливости. Горячие споры об определении того, чем, собственно говоря, является талант, велись перед войной, легко попадая в так называемый circulus in explicando[533]: что будто бы талант познается только по качеству стихотворения, проверкой же этого качества является именно талант. В последнем номере журнала «Lampa» Дунина-Вонсовича появилась дискуссия о творчестве Броневского, но она тоже, собственно говоря, касалась прославляемого им мировоззрения, которое молодые особенно ставили ему в упрек. Хотя проблема таланта по определению задевает неясности, предположу, что распоряжается им автор, стихотворение которого обращается ко мне. Как известно профессионалам, существуют разные подходы к тому, что такое поэзия. Есть много ее различных видов, может, не столько, сколько видов в живой природе, но наверняка много. Лингвистическая разновидность в особенности меня не убеждает. Потому что касается своеобразной стихотворной строгости, видимой в рифмотворческой специфичности — или великолепной, как у Лесьмана, или же близкой к эквилибристике, как, например, в «Слове о Якубе Шеле» хорошо известного автора[534]. Возможно, это все и правда, но, однако, речь идет не о корнях дилеммы, почему поэзия живет, а проза, пожалуй, оказывается неудачной.
Я бы на скорую руку предложил такой диагноз: проза требует, как правило, широкого взгляда, то есть схватывания непреходящих ценностей и явлений человеческой жизни. Можно проиллюстрировать это утверждение, ссылаясь на классику, будь то Манн или Джойс. Зато молодая проза вообще близорука и очень редко, а также не слишком уверенно, выходит за пределы Польши. Появились также группы, кланы, системы, знакомства, а также неприязни, которые notabene в писательской среде всегда роились. По такой же причине можно выявить необычайно редкое присутствие, а точнее отсутствие, критической полемики и компетентных дискуссий с высокого качества используемой аргументацией, а также эрудицией. Собственно говоря, мы имеем один молодой талант в лице Дороты Масловской, но я немного обеспокоен ее будущими свершениями, поскольку обе ее книги, при всей незаурядности, свидетельствующей об особенно привлекательном языковом интеллекте, не предсказывают явно дальнейшую судьбу ее творчества. Зато относительно поэзии я могу сказать, что ничего не известно. Условия ПНР во времена так называемой оттепели благоприятствовали творчеству, а в более строгих обстоятельствах вынуждали его к молчанию или к уходу во внецензурный оборот. Цензуру, и я в этом глубоко убежден, применять никогда нельзя, поскольку она является ужасным ограничением относительно свободы высказывания. На вопрос Кшиштофа Мышковского, что я думаю о творчестве Милоша через год после его смерти, я ответил, что оно плохо и даже фатально соответствует современности, ибо переполнено всепольскостью. Мышковский в очередном номере журнала «Kwartalnik Artystyczny» моего краткого ответа не поместил, то есть полностью подверг его цензуре.
И я считаю это ошибкой. Посвятив «Kwartalnik» в милошевском выпуске высказываниям поклонников нашего Нобелевского лауреата, он обратился тихим голосом к немногочисленным читателям этого периодического издания, выходящего тиражом 600 экземпляров. Эти слова dixi et salvavi animam meam[535].
Часть 3
Разное
Книги детства[536]
I
В чтении меня никто специально не «направлял». То есть никто мне не говорил: «Это читай, а этого не читай». Я имел свободный доступ ко всей домашней библиотеке и, вероятно, многие книги я читал преждевременно. Однако начало было довольно безобидным и, пожалуй, типичным.
Хронологически мои первые книжки — это стихи Янины Поразиньской. «Одна ворона без хвоста», затем «Взбираясь на конек» и «О комарике, который с дуба упал и сломал кость в пояснице». Помню, что я очень переживал из-за происшествия с этим комаром. Это было еще время, а мне было тогда каких-то четыре года, когда мне читали.
Если говорить о первом самостоятельном чтении, то общее правило таково, что дети, а также люди, которые имеют мало дел с книгами, помнят скорее названия, имена героев, чем авторов, ибо авторы им безразличны. Из этого самого раннего периода я помню такие голубые и красные книжечки. Красные были скорее для младших детей, а голубые для старших. Эти отдельные книжечки выходили в форме тетрадей, которые, когда их собиралось уже несколько, можно было переплести, а обложку предоставлял издатель. Это может показаться смешным, но я помню только одну сцену из такой книжечки. Я думаю, что мне было тогда примерно семь лет. А именно, я помню, что мальчик плыл в бочке и отталкивался от дна какого-то разлива реки, а бочка все больше наклонялась и наклонялась, и тогда мне это казалось на самом деле ужасным.
Когда я теперь думаю о тех первых книгах, то вижу, что очень часто они были полны различных ужасов. Например, «Дух пущи». Не имею, понятия кто это написал[537]. Позже я узнал, что эта книга настойчиво не рекомендовалась психологами из-за влияния на психику ребенка ужасных сцен, содержащихся в ней. Там ножом вырезаются какие-то знаки на груди трупов. Помню свои ощущения от такой сцены: кто-то схваченный и связанный сидел на коне с петлей на шее, а веревка была привязана к ветке. Это было очень неприятно. Припоминаю другую книгу под невинным названием «Солнышко». Тоже достаточно ужасную, где в конце случается какой-то страшный пожар на крыше. Похоже на то, что моими первыми книгами были самые ужасные. Вероятно, из этого следует вывод, что именно такие образы лучше запоминаются.
Я очень любил рассматривать анатомические атласы из библиотеки отца. Это рассматривание породило одну игру. Для нее были необходимы разноцветные кусочки пластилина, из которого я делал пластилиновую куклу, после чего вскрывал ей живот, куда вкладывал разноцветные пластилиновые внутренние органы. А потом меня забавляло то, что ее можно было порезать на пласты или сделать из нее разноцветный шар. Я предпочитаю даже не думать, что из этого сделал бы какой-нибудь фрейдист.
Не знаю, откуда это взялось, но уже тогда меня очень интересовали космические путешествия. Это были первые прочитанные мною книги жанра, который сегодня мы могли бы определить как science fiction. Меня очень поразила «Из пушки на Луну» Жюля Верна, а самую большую претензию к книге я имел за то, что на этой Луне вовсе не высаживаются. А это было бы так интересно. Я читал «Путешествие на полюс на воздушном шаре» Владислава Уминьского. Когда мне было десять-одиннадцать лет, мне в руки попала трилогия Жулавского. «На серебряной планете» и «Победитель». «Старая Земля» мне сразу не понравилась, и это так уже и осталось. Хорошо помню «Сердце» Эдмонде де Амичиса. Очень душераздирающая история, полная патриотической стрельбы и множества трупов, которые по высшим причинам довольно часто падают на землю. Такая была эпоха.
Я читал и то, что сегодня мне кажется смертельно скучным: «Двадцать тысяч лье под водой». Все эти рыбы — это ведь почти учебник ихтиологии. Но тогда это казалось довольно интересным. Затем «Таинственный остров» и все остальное. Вместе с тем меня начало затягивать в королевство приключений Карла Мая — с одной стороны Кара бен Немси, или приключения на территории сегодняшней Югославии, с другой стороны, разумеется, Виннету — краснокожий джентльмен. Очень обильно лились слезы по поводу его смерти. Позже в силу обстоятельств я должен был читать Олд Шаттерхенда. Все там происходит на высоком нравственном уровне. Все там так красиво, благородно и замечательно. Виннету со своим ружьем с серебряными гвоздями. Олд Шаттерхенд со своим штуцером от Генри. Все это так благородно и для добрых душ в определенном смысле даже довольно поучительно. Теперь, пожалуй, если вообще пишут в этой традиции, то все намного более кроваво и ужасно. Сегодня Олд Шаттерхенд, наверное, записался бы в Христианско-национальный союз, ибо он очень усердно сохранял христианские ценности. Колотил серьезно кулаками, но старался не убивать, если в этом не было необходимости. В этих книгах не происходит ничего, кроме того, что сначала коварно нападают и связывают, затем кто-то приходит с ножом или с зубами (иногда с ножом в зубах) и разрезает эти путы. Затем связывают тех, кто нападал. Привязывают их к столбу или к камню для пыток. Бросают в них ножами или немного их поджаривают. Очень интересно, что эта ужасная скукотища, как я сегодня ее воспринимаю, постоянно будит заинтересованность у новых поколений читателей. У меня есть подлинная биография Карла Мая, из которой следует, что он никуда не ездил и почти ничего не видел. Обложенный путеводителями, словарями и картами, он писал свои дорожно-приключенческие романы, не покидая четырех стен. Иногда, впрочем, он и не мог их покинуть, и благодаря этому у него было много времени. Ибо где лучше пишется, если не в тюрьме? Это никакое не сравнение, но Адам Михник тоже сидел и тоже немного написал в тех местах. Но, разумеется, Адам Михник — никакой не Карл Май. Я хотел бы быть как можно дальше от такого рода инсинуаций. Карл Май создал некий собственный мир, который имеет очень тесные связи с миром реальным. Это, пожалуй, часть тайны неослабевающего успеха этих книг.
Затем меня поглотил Дюма-отец. «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя» и т. д. Я был очень активно читающим ребенком, но при этом и абсолютно неразборчивым. Когда мне было двенадцать лет, я получил от родителей полное собрание Фредро и прочитал все эти комедии. Мне очень понравился Словацкий, зато Мицкевич тогда мне нравился меньше. Теперь совершенно наоборот.
Должен сказать, что в том возрасте я был очень благодарным читателем. Мне тогда нравились очень многие вещи, которые потом абсолютно перестали нравиться. Когда издательство «Wydawnictwo Literackie» попыталось издать «ретро-серию», то я вспомнил «Остров мудрецов» Марии Буйно-Арцтовой. Тогда эта книга казалась мне удивительно интересной, полной некой таинственной опасности. Мы дали объявление в прессе, и какой-то доброжелатель прислал эту книгу. Когда я начал ее читать через столько лет, то очень удивился. Это уже не было таким прекрасным. Я убедился, что автор страшно все напутала и потом сама не смогла выбраться из этого. Там есть какие-то демоны, герой с обуглившейся рукой, подводная лодка. Одним словом, ужас.
Характерно, что авторы, пожалуй, вообще не отдают себе отчета в том, как они пугают детей такими невинными с виду идеями. Детское воображение столь незапятнанно, свежо, что все, что пишется, каким-то образом там глубоко отпечатывается. Раньше я думал, но это уже прошло, что книги плохие, слабые, например, Карл Май, со временем умирают. Зато ценные книги выживают благодаря читательской поддержке. Ничего подобного, Карл Май не только живет, но чувствует себя прекрасно. Когда после возрождения независимой Речи Посполитой я увидел в витрине магазина Питигрилли, то разволновался. Потому что во времена моего детства это было строго запрещенное чтение. Если бы ксендз увидел, что я это читаю, уши бы мне оторвал. Хотя это ведь достаточно безобидное произведение.
Я очень любил читать Лондона, «Рассказы южных морей», обе «Книги джунглей» Киплинга, сказки. Зато «Кима» совершенно не мог читать. В числе книг, которые я впервые читал в детстве и которые до сих пор очень люблю, рассказы о Шерлоке Холмсе. Есть в них очаровательная викторианская тонкая оболочка, благодаря которой они по-прежнему очень приятно читаются. Тем более что сюжет я уже немного позабыл и поэтому могу их читать вновь, смакуя архаичную безобидность детектива. Должен сказать, что этот grand guignol[538] образца девятнадцатого века очень симпатичен. Затем, когда я был старше, читал Честертона, но это уже было не то. Здесь никогда неизвестно, что является «виной» писателя, а что заслугой читателя. Поскольку наивный детский читатель очень легко может «обмануться» и соблазниться, а более опытный — нет. Могу только сказать, что в первом раннем детском периоде мне все вообще казалось прекрасным. Зато то, что во втором, гимназическом, периоде показалось мне скучным, уже и сегодня меня не переубеждает.
Сам я эту музу писательства для детей реанимировать не пытался. Никогда не писал ничего специально для детей, хотя знаю, что многие дети любят «Сказки роботов». (Много раз мне задавали вопрос, как я представляю своего читателя? Кому адресовано то, что я пишу? Не было никакого адресата и ничего себе на эту тему я не представлял. У меня просто не было свободного места в голове, я писал то, что хотел, что должен был написать. А для кого? Мне казалось странным, что кто-то это так формулирует. Повар в солидном высококлассном ресторане, когда готовит обед, вовсе не задумывается, кто это будет есть. Он знает, что должен сделать жаркое, приготовить соответствующие соусы, но для кого? Кто захочет, тот закажет. Это не представляет для него проблемы. Я думаю, что такого рода вопросы попахивают даже определенного рода неосознанным цинизмом. Это значит, что спрашивающий позволяет себе допустить, что между работой писателя и работой портного имеется четкая параллель, что писатель принимает заказы.)
В доме родителей во Львове в кабинете отца у меня был библиотечный шкаф, полный «моих» книг. Была там, разумеется, вся национальная классика. Словацкий, Мицкевич, Фредро, а также Крашевский, но его книги с детства казались мне страшно скучными. В этом шкафу имелся также и Сенкевич. У меня была старшая кузина Марыся, которую позже убили немцы. Мы называли ее Мися. Она была старше меня на два года, но казалось, что она старше на двадцать лет. Когда мне было одиннадцать лет, Мися сказала, что я не могу еще читать «Трилогию», поскольку она содержит много латинских терминов, которые в этом возрасте я понять не смогу. Поэтому я с большим страхом принимался за чтение «Трилогии». Оказалось, что пошло очень хорошо, и с того времени я читал ее многократно с большим удовольствием.
Наверное, где-то во втором классе гимназии меня очень увлекла «Земля обетованная» Реймонта. Я хорошо понимаю, почему Вайда сделал из этого фильм. Но в этом я оказался одинок. Среди знакомых, друзей — таких, как Ян Юзеф Щепаньский, моя жена — никто особенно не любил «Земли обетованной». Зато мне казалось, что эта картина Лодзи, которая уже не существует, является очень интересной частью истории.
Немного позже я открыл Стефана Грабинского. У меня даже был знакомый, который дружил с его дочерьми. От него я узнал, что в их доме книги отца из-за определенной своей фалличности и других элементов, опасных для молодых девушек, были закрыты в шкафу под замком, чтобы дочери, Боже упаси, не подверглись какому-нибудь искушению. Много лет спустя, когда у меня был случай посодействовать «экспорту» польской литературы за границу, я очень рекомендовал моему немецкому издателю этого писателя, и никакого разочарования не последовало. Произошла даже определенная необычная вещь. Отличный переводчик д-р Штаммлер этот младопольский, немного слишком буйный польский язык несколько урезал в переводе на немецкий, и оказалось, что это даже пошло Грабинскому на пользу. Это был писатель действительно высокого класса.
Очень редко случается, чтобы перевод был лучше, чем оригинал. Я знаю еще один такой случай. «Кубусь Пухатек» Ирэны Тувим — гениальная книга. Зато ту даму, которая сделала из Пухатека какую-то Фредзи Фи Фи, я бы убил тупым ножом за то, что она сотворила из этой книги. А тех, кто ее за это хвалил… не буду говорить, что надо с ними сделать. Этот полный необычного обаяния текст был попросту кастрирован. Зато Ирэне Тувим удалось то, что получается очень редко. Она выполнила гениальную трансформацию в польский язык. Придумала очаровательное имя Пухатек. Эта книга имеет то удивительное свойство, что абсолютно не стареет. Она выдерживает самое трудное из всех испытаний — испытание временем. Есть книги, которые с нами растут, которые «переносятся» во взрослое время и затем открываются заново.
Будучи ребенком, я читал «Приключения Алисы в стране чудес» Кэрролла, но ничего из нее не понял. До этой книги надо дорасти. Это книга не для детей. Я читал также, разумеется, Макушиньского и должен признать с некоторым смущением, что мне он даже понравился. Теперь его книги кажутся мне какими-то такими дутыми, как украшения из фальшивого золота, такими аффектированными, такими переслащенными.
Я хорошо помню, как отец купил мне огромный том в переплете: «Чудеса природы» профессора Выробка. Это было потрясающее переживание, потому что перед войной за восемьдесят злотых можно было купить костюм, а отец купил мне эту замечательную книгу. Это не было не что иное, как de omnis rebus et quibusdam aliis[539]. Там было все. Когда я писал «Высокий замок», я признался, что стянул из этой книги для какого-то школьного сочинения фрагмент на тему человека с Марса. Так в более поздней жизни мстят грехи детства.
Должен признать, что сейчас в нашу страшную капиталистическую эпоху книги издаются несравнимо более красочными, чем во времена моего детства. В наши дни стоит быть ребенком… богатых родителей.
II. Дух пущи
Я не буду говорить ни о «В Войтовой избе», ни о комаре, который упал с дуба и сломал себе кость в пояснице, о нем писал даже Милош. Когда ты очень молод, как я восемьдесят лет назад, то запоминаешь то, что читаешь, но на фамилии авторов не обращаешь ни малейшего внимания.
Не знаю, кто написал книгу «Джибенносай, дух пущи», но помню, что я ужасно боялся, когда ее читал. Однако моя душа формировалась в соприкосновении с Жюль Верном и Владиславом Уминьским. Разумеется, был Карл Май, который оказался вроде болота или трясины, затягивающей невероятно глубоко, далее Дюма — «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя», этому не было конца. И еще Киплинг, прежде всего обе «Книги джунглей» и сказки. «Книга джунглей» очень мне нравилась, я только пропускал песни, которыми разделялись отдельные рассказы. Потом уже Стефан Грабинский, начиная с «Демона движения».
Немного раньше я прочел «Остров мудрецов» Марии Буйно-Артцовой. Этот роман произвел на меня столь колоссальное впечатление, и я был настолько уверен в его качестве, что через много лет, уже на закате ПНР, предложил его переиздать. Однако, когда удалось получить экземпляр и я прочел его заново, оказалось, что он не имеет ни рук, ни ног, он слаб как интеллектуально, так и сюжетно, автор сама запуталась в своих идеях. Когда тебе десять лет, трудно критиковать. В очень раннем возрасте человек подобен еще не настроенной системе резонаторов и сильно реагирует на то, что читает, позже впечатление становится избирательным. Тогда было легко дать себя обмануть.
Отдельный вопрос — это наша классика, узнавать ее я начал рано. Сначала был Прус — «Кукла» и «Фараон», а также Сенкевич, прежде всего «Трилогия», которую я прочитал в одиннадцать лет. Моя кузина, старше меня на три года — она уже давно умерла — объясняла мне тогда, что я ничего из этого не пойму, потому что это такая трудная книга, столько латыни… Однако я как-то отважился и возвращаюсь к «Трилогии» до сих пор. Даже столь суровый критик, как Гомбрович, признавал «великолепие повествования» Сенкевича.
Мне было уже двенадцать лет и я ходил в первый гимназический класс старого типа, когда отец купил мне собрание сочинений Словацкого. Я погрузился в него с увлечением, однако у меня возникли большие проблемы, потому что я не мог понять «Короля-Духа». Только недавно меня успокоил Рымкевич, характеризуя Словацкого в своей энциклопедии, что никто не может понять «Короля-Духа», потому что это произведение не является когерентно закрытым; при случае он обругал Павликовского и Клейнера, которые хотели эту поэму представить рациональной. Я всегда больше любил Словацкого, чем Мицкевича; не смогу этого объяснить, просто было так.
Затем началось более серьезное чтение. Здесь, разумеется, появился особенный, достаточно существенный поток — научно-популярный: все книги польской «Mathesis», произведения профессора Выробка. Мне было тогда двенадцать — четырнадцать лет, и у меня появилась склонность к науке — это не подлежит сомнению, зато я не знал романов science fiction, за исключением Уминьского и Верна, если их отнести к этому жанру, ну и Ежи Жулавского.
Я любил «На серебряной планете» Жулавского, но его манера в стиле «Молодой Польши» очень ему вредит. Эти разнообразные звательные формы, восклицания вроде «Земля, о Земля утраченная»… Уже покойный мой ровесник, который переводил Жулавского на немецкий, вырезал все его стилистические проявления с большой пользой для романа. Но мы знаем, что — за редким исключением — нельзя нарушать целостность текста.
Среди книг, на которых я воспитывался, преобладает большая неразбериха. В молодости я читал даже Питигрилли, который тогда считался неприличным автором, но я его неприличности вообще не осознавал. Был Вилье де Лиль-Адан и его «Жестокие рассказы». Из ранних советских времен попал в мои руки роман Неверова под названием «Ташкент — город хлебный». Это была потрясающая правда о послереволюционной действительности, потом в Советах о нем долго запрещалось вспоминать.
Главное мое впечатление таково, что книги карабкаются вверх по кривой, приобретают определенную известность, а затем умирают. Книги смертны: это общее правило, из которого, разумеется, бывают исключения. У меня также создалось впечатление смерти сюжета. Он сохранился в популярной литературе, однако, когда речь идет о том, что я — старый конь — читаю, с ним тяжело.
С большим трудом мне удалось через букинистический магазин получить две книги Честертона об отце Брауне. Я давно их полюбил и был очень удивлен, что в интернетовском книжном магазине «Merlin» Честертона вообще нет. Сегодня это мертвый писатель, к нему никто не обращается. Я раздобыл также экземпляр «Человека, который был Четвергом»; мне было больше десяти лет, когда я прочел этот роман впервые, и я по-прежнему считаю, что он прекрасен. Однако, возвращаясь к нему сегодня, я заметил, что некая неторопливость и даже растянутость повествования была когда-то чем-то обычным. Это были времена дотелевизионные, доинтернетовские, никто не спешил так, как мы вынуждены спешить сегодня.
Не знаю, как сегодня осуществляется представление книг. Один из неглупых авторов, которые печатают статьи в журнале «Lampa», написал: раньше мы имели литературу, а теперь книжный рынок. Я думаю, что, к сожалению, в этом довольно много истины. Определителем качества становится число проданных экземпляров. И с этим ничего не поделаешь.
Может, следовало бы, не придавая этому серьезного значения, провести исследования, что действительно читают современные восемнадцати— и двадцатилетние. Те научные книги, которые я привез еще из Львова и которые уже рассыпаются, почти полностью сохранили свою ценность. Хорошо, что живут произведения Жюля Верна, с Уминьским уже хуже. Это превосходная литература, но ужасно устаревшая. Удивительно, как время все меняет, до какой степени некоторые произведения ветшают, увядают, слабеют и теряют очарование. «Джибенносай, дух пущи», кажется, вообще перестал появляться. Зато Грабинский читаем, хотя и нет уже паровозов, даже Дунин-Вонсович возобновил в библиотеке «Lampa i Iskra Boza» «Демона движения», при случае восхваляя меня, что я не дал Грабинскому исчезнуть.
А следует ли сегодня читать Словацкого? Я считаю, что обязательно следует, несмотря на то, согласен или не согласен кто-то с Рымкевичем. Я не понимаю, почему никто не хочет издавать «Отца Брауна». А непонятная для меня смерть сюжета, надеюсь, не касается литературы для самых маленьких, потому что без сюжета нет повествования, а без повествования нет вообще ничего.
Unitas oppositorum: проза Х.Л. Борхеса[540]
Это будут исключительно субъективные замечания о прозе Борхеса. Если вы меня спросите, почему я подчеркиваю субъективизм моей критики, то я не найду никакого определенного ответа. Может, потому что сам уже много лет — хотя и отличным от аргентинца путем — пытаюсь найти источник, из которого возникли его лучшие произведения. Поэтому его творчество близко мне, но одновременно и чуждо, ибо по собственному опыту знаю опасности, которым иногда подвергалось его писательство, и одобряю не все без исключения используемые им средства.
Нет ничего проще перечисления самых великолепных произведений Борхеса. Это «Тлён, Укбар, Orbis Tertius», «Пьер Менар, автор „Дон Кихота“», «Лотерея в Вавилоне» и «Три версии предательства Иуды». Сейчас я обосную свой выбор. Все перечисленные рассказы имеют двойную, извращенную, но логически совершенную структуру. На первый взгляд, они являются беллетризированными парадоксами вроде греческих (например, Зенона Элейского, с той разницей, что парадоксы Зенона сопоставляют обычные интерпретации физических процессов с противоречивыми последствиями их чисто логического толкования, в то время, когда парадоксы Борхеса относятся к области культуры). Итак, «Тлён» основывается на идее диаметральной замены мест, занимаемых соответственно «словом» и «бытием». («Бытие» должно быть заново преобразовано «словом»; потому это предложение повторения creatio mundi[541] через некое «тайное общество».) «Лотерея» демонстрирует, как противоположные категории интерпретации Вселенной, (статистический) Хаос и (абсолютный) Детерминизм, хотя и считаются несовместимыми (ибо взаимно исключаются), однако согласуются при ненарушенной логике аргументации. Зато «Менар» — это доведенная до логической крайности сатира на разовость творческого акта (потому что пародийно трактует закон кажущейся необходимости, т. е. уникальности каждого большого произведения искусства, и на примере «Дон Кихота» сводит его ad absurdum[542]). «Иуда», наконец, постольку это логически неодолимая ересь[543], поскольку этот рассказ представляет попытку создания фиктивной гетеродоксии христианской догматики, переживающей в своем «радикализме» все исторические типы ереси. Каждый раз мы открываем аналогичную методику: тесно связанная часть культурной систематики подлежит преобразованию при помощи средств, которые традиционно принадлежат именно к этой же сфере. В вере, в онтологии, в теории литературы etc «развивается дальше» то, что человечество «только начало» делать. Этот прием всегда преобразует то, что окружено почитанием в культуре, в нечто комично-абсурдное. Только prima facie[544] речь, однако, идет о достижении чисто «комично-логическом» (= приводящем к абсурду).
Каждый из этих рассказов имеет еще один, скрытый смысл, который надо воспринимать совершенно серьезно. Основа этой странной фантастики, как я утверждаю, часто реалистична. Задумавшись, мы сначала замечаем, что такого рода гетеродоксия, которую содержат «Три версии предательства Иуды», была бы, собственно говоря, возможна, т. е. такое коварное толкование мифа спасения, даже если исторически не очень убедительное, по меньшей мере, однако, можно представить. Это замечание касается также «Лотереи в Вавилоне»; описанный там способ интерпретации Хаоса и Гармонии также, с некоторыми ограничениями, представляется исторически убедительным. Оба рассказа, хотя и могут казаться отличающимися друг от друга, являются онтологическими гипотезами на тему окончательной структуры и характеристики бытия. Поскольку речь идет о граничных ситуациях, в любом случае стоящих на краю соответствующей реальной парадигматики, скорее невероятным было определение их всерьез в прошлом. Кроме того, с логической точки зрения они «абсолютно в порядке». Поэтому писатель набрался мужества, чтобы тем же способом, что и человечество, поступать с его наиболее дорогими ценностями, настолько, что свел эти комбинаторные операции к крайности. Если речь идет о формальных свойствах, самые лучшие рассказы Борхеса построены также ригористически, как и математическое доказательство. Поэтому он никоим образом не даст их — хоть и не знаю, насколько нелепо это звучит, — сбить с логического пути. Борхес поступает здесь необычайно деликатно, потому что в целом не ставит под сомнение фактические имплицитные исходные позиции всякий раз подвергаемой трансформации парадигматики. И так, например, он изображает, что верит (как делают это некоторые гуманисты), что гениальное произведение искусства не несет в себе ни следа случайности, и потому фактически является плодом чистой (высшей) необходимости. Если принять это утверждение как общепринятое, то можно уже, не греша против логики, утверждать, что настоящий шедевр можно создать слово в слово во второй раз, абсолютно независимо от его первоначального рождения. (Как это фактически имеет место в случае математических доказательств.) Абсурдность этого становится явной только тогда, когда мы допустим атаку на его предпосылки; однако этого Борхес, разумеется, никогда не делает. Он никогда не создает новой, свободно придуманной парадигматики. Он тесно придерживается исходной аксиоматики, записанной в истории культуры. Он — язвительный еретик культуры, никогда не грешащий против ее правил. Он только осуществляет такие синтаксические, т. е. комбинаторные, операции, которые с логической точки зрения полностью «в порядке», т. е. формально допустимы. По внелогическим причинам в историческом процессе дело никогда не дошло до их «испытания» всерьез — но это уже, разумеется, совершенно другой вопрос.
Борхес по сути делает исключительно то, что сам говорит о вымышленных философах своего Тлёна (что в философии ищут не истины, а удивление). Он не занимается фантастической философией, потому что средства ее представления являются не средствами чисто дискурсивными, а одноразовыми объектами, которыми пользуется, в их предметности, «нормальная» литература. Чтобы завершить этот вывод: названная здесь мною группа рассказов Борхеса вызывает вопрос, что, собственно говоря, отличает онтологию фиктивную (т. е. такую, которая никогда не берется всерьез) от онтологии действительной («исторически проверенной»). Ответ на этот вопрос довольно шокирующий, ибо он звучит так: по сути дела, между ними нетвообще никакого принципиального различия. Это означает, что вопросы эти считаются абсолютно тривиальными: это те философско-онтологические идеи отдельных мыслителей, которые человечество накопило позже в своих сокровищницах исторической мысли, и в которых потому признается (как в серьезных попытках интерпретации и понятия мира заодно), таким образом, эти идеи являются нашей религией и нашей философией[545]. Те же идеи, которые не имеют такого происхождения, не имеют доказательства такой ассимиляции в действительном историческом процессе событий в прошлом, являются «фиктивной» структурой, созданной по собственной инициативе, «лично придуманной» и только потому не принимаются никогда всерьез (даже если значительны, разумны) как толкование мира и бытия. С учетом сказанного эти рассказы нельзя опровергнуть, даже подходя к ним абсолютно серьезно. Потому что, чтобы их опровергнуть, недостаточно показать их абсурдные выводы. Чтобы их опровергнуть, следовало бы, собственно говоря, подвергнуть сомнению всю составляющую процесса человеческого мышления в ее всеобъемлющем логическом измерении. Творчество Борхеса подчеркивает таким образом единственно то, что когда мы приходим к убеждению, что не существует никаких культурных необходимостей, мы зачастую принимаем то, что возникло случайно, за необходимое, а проходящее — за существующее вечно.
Я не уверен, согласился ли бы Борхес с моей интерпретацией своего творчества. Я даже опасаюсь, что свои лучшие истории он не писал с такой большой серьезностью (разумеется, в семантической глубине, не на комично-парадоксально-абсурдной поверхности!), как я его в этом подозреваю. Другими словами, я допускаю, что «лично» Борхес остался вне беллетристической аргументации. Мое подозрение основано на знакомстве со всеми его рассказами. Начиная о них говорить, я перехожу теперь ко второй, проблематичной стороне его творчества. Оно мне полностью представляется как универсум литературных фактов, где то, что второстепенно и повторяется просто через свое присутствие, свое соседство, ослабляет и дезавуирует, разоблачая структурно, то, что главное. В самых лучших рассказах Борхеса собраны интеллектуальные озарения, которые не теряют своей силы даже после неизвестно какого по счету прочтения. Если в целом, то впечатление от них ослабевает только тогда, когда все рассказы читаются на одном дыхании. Только тогда открываются механизмы их возникновения, которые там действуют, и такого рода разоблачение всегда небезопасно, иногда даже фатально для создателя — когда мы можем уловить инвариантную, окончательную структуру, алгоритм его творческой силы. Добрый Бог для нас является абсолютной тайной, прежде всего по той причине, что в принципе для нас невозможно, и останется таким навсегда, понимание (это значит однозначное воспроизведение) структуры его акта создания. С формальной точки зрения, творческий метод Х.Л. Борхеса прост. Его можно бы назвать unitas oppositorum[546], единством исключающихся противоположностей. Вещи, якобы разделенные навечно, не поддающиеся соединению, сливаются на наших глазах в единое целое; причем это не создает хаоса для логики. Процесс такого элегантного и точно осуществленного объединения создает структурную матрицу почти всех новелл Борхеса. Ортодокс и еретик (в «Богословах»), Иуда и Христос (в «Трех версиях предательства Иуды»), преданный и предатель (в «Теме предателя и героя»), хаос и гармония (в «Лотерее в Вавилоне»), деталь и Вселенная (в «Алефе»), благородная личность и чудовище (в «Доме Астериона»), добро и зло (в «Deutsches Requiem»), то, что одноразовое, и то, что возможно повторить (в «Пьере Менаре, авторе „Дон Кихота“») и т. д. являются Единым.
Ведущаяся литературно игра с этими граничными условиями всегда начинается там, где противоположности отталкиваются со свойственной им полной силой, а заканчивается тогда, когда начинается процесс их объединения. В том, однако, что речь постоянно идет об одном и том же синтаксическом процессе (механизме), т. е. о конверсии (или теснейшим образом связанной с ней инверсией), кроется тривиальная слабость всего сочинения. Всемогущий был достаточно мудрым, чтобы никогда не повторяться таким образом. Нам, литераторам, его преемникам, его теням и ученикам, тоже нельзя этого делать. Извлеченная здесь из прозаических произведений Борхеса скелетная, парадигматическая структура использованных им трансформаций приносит порой — но тоже очень редко! — необыкновенные результаты, как я пытался это доказать. Однако она постоянно присутствует в одной и той же форме, и ее нетрудно отыскать, однажды ее соответствующе оценив и распознав. Это повторение, несущее в себе элемент чего-то абсолютно неумышленно комичного, является самой скрытой и самой общей слабостью всего прозаического творчества Борхеса. Ибо как сказал уже старый Густав Ле Бон в своем сочинении о юморе, все механическое мы объясняем заранее, что приводит к тому, что из событий уходит вся необыкновенность и непредвиденность. Поэтому нетрудно предсказать будущее чисто механического феномена. В своей наибольшей глубине структурная топология произведения Борхеса признается из-за этого родственной всем механистически-детерминистическим жанрами, а значит и детективному роману, потому что он всегда определенным способом воплощает формулу детерминизма Лапласа.
Причину «механической» болезни этого творчества я объяснил бы следующим образом. С начала своей писательской деятельности Борхес испытывал недостаток в свободном и богатом воображении[547]. Сначала он был библиотекарем и остался им до конца, хотя и в его наиболее гениальном воплощении. И это потому, что в библиотеках он должен был искать источники вдохновения; при этом он ограничивался исключительно культурно-мифологическими источниками. Речь идет о глубоких, разнообразных, богатых источниках, которые являются целыми мифологическими идейными сокровищницами в истории человечества. Но эти источники исчезают в нашу эпоху, если речь идет о их силе для объяснения и интерпретации развивающегося далее мира. Борхес со своей парадигматикой и даже со своими высочайшими достижениями находится в конце нисходящей кривой, высшая точка которой — в давно минувшем периоде. Поэтому он вынужден играть тем, что у наших предков принадлежало к сакральной сфере, вызывало уважение, принималось за возвышенное и таинственное. Поэтому только в единичных исключительных случаях ему удается всерьез продолжить эту игру. Только иногда удается ему выбраться из своего обусловленного парадигматически-культурного заключения, каким в крайнем противоречии к задуманной свободе созидания является его ограничение. Он один из великих, однако одновременно он эпигон. Он, быть может в последний раз, сделал так, что на короткое время вспыхнули, воскресли сокровища, пожертвованные нам прошлым. Однако ему не удалось оживить их надолго. Не потому, что он не смог этого сделать, попросту такого рода заутреня по прошлому в нашем веке, как я считаю, немыслима. Его творчество в своей полноте, независимо от того, насколько оно достойно восхищения, находится на противоположном полюсе нашей судьбы. Судьбу эту не сумеет связать с творчеством Борхеса в «операции соединения» даже великий мастер логически безупречного парадокса. Он открыл нам такой рай и такой ад, которые навеки останутся закрыты для человека. Поэтому мы строим себе новые, более богатые и более ужасные — об этих, однако, ничего не знают книги Борхеса.
Мой Милош
Перевод Язневича В.И.
I
Долголетие[548] не является личной заслугой; это вопрос наследственности, генов. Заслугой может быть только то, что совершается в отведенном нам времени. Постоянство напряжения поэтической души Милоша изумительно, и это отличает его, например, от Мицкевича. Мицкевич имел несколько поэтических извержений, а позже замолчал, как потухший вулкан. Творчество Милоша все время открыто, он остается в расцвете духовных сил.
Когда-то мне казалось, что «Три зимы» и «Спасение», а затем американский период с «Видениями на берегах залива Сан-Франциско» — это уже пик его писательских возможностей[549]. Но нет — ведь «Это»[550] является настоящим событием. Прежде я не смел обращаться к Милошу, но после прочтения «Это» не мог удержаться, чтобы не написать ему письмо. Я недавно подумал, что как и орден «Virtuti Militari», так и Нобелевская премия должна иметь три класса. Милош для меня Нобелевский лауреат первого класса[551].
Достижения и фигуру Милоша я охотно рассмотрел бы на историческом фоне. В нашей части Европы было большим несчастьем быть талантливым поэтом. Чем более кто-то был наделенным талантом, тем трудней ему было жить. Талант, как злорадно говорится, это то, что мучает человека, некая похожая на компас или магнит ведущая сила, которая приказывает говорить и писать то, что исходит из глубины души, а не слушать различных распорядителей.
В Польше поэты редко попадали в тюрьму, в то время как в России или в Украине это было правилом, а в 1930 — 1940-е годы за поэзию гибли; недаром украинцы патетично говорят о «расстрелянном возрождении»[552]. В последнее время я много читал об ужасной жизни Ахматовой. Ее ученик Бродский, поэт doctus[553], попал в ссылку, хотя времена были уже не такие строгие. В общем можно сказать, что в Советском Союзе не было не только выдающегося поэта, но и биолога или конструктора ракет, который бы не прошел через горнило страшных страданий и мук. Столь страшного давления у нас не было: вероятно потому, что мы были только вассалами, протекторатом империи.
До войны из-за моего младого возраста я не знал стихотворений Милоша, впрочем, период его наибольшего расцвета в значительной мере совпал с периодом немецкой оккупации. После войны Милош остался в стране — тогда еще это не была ПНР, — что наверняка было связано с фактом, что он всегда был резко настроен против правой, народно-демократической формации. Когда он оказался за границей в качестве дипломата Народной Польши, а позже выбрал эмиграцию, началась борьба, его атаковали и справа, и слева. Единственным местом, где он мог преклонить голову, был дом «Культуры»[554] в Мезон-Лаффит, позже многие годы он мог публиковаться только у Гедройца, который стал настоящей спасительной гаванью для очень большого числа достойных людей.
Милош имел тогда два ложных, но сильно и мучительно укоренившихся убеждения: во-первых, он поверил в гранитную, несокрушимую мощь советского Востока, во-вторых же считал, что, покидая Польшу и разрывая контакт с живым языком, он сам убивает свою поэзию. К счастью, и первое, и второе оказалось неверным. Считая, что молох советской стальной мощи никоим образом нельзя разрушить, он не хотел, однако, стать ни его пленником, ни приверженцем. Первым его публичным выступлением после выбора эмиграции была статья «Нет» в журнале «Kultura», что свидетельствовало о твердой отчаянной непреклонности. Некоторые его вещи, написанные в прозе, иногда — словно на скорую руку, как «Принятие власти», также непосредственно касались политики, особенно «Порабощенный разум». Он написал также несколько стихотворений, назовем их итоговыми, таких как «Поэт помнит», но не они определяют его главную поэтическую направленность[555]. В этом Милош не похож на наше правое крыло, которое как омела паразитически черпает силы в минувших сорокалетних коммунистических муках; если бы нельзя было пинать давно умершего коммунистического дракона, немного бы ему осталось.
Ведь поэт переживал минуты обыкновенной человеческой слабости и отчаяния, казалось, терял веру и надежду. Об эпохе упреков эмиграцией во время своего пребывания в Париже он, однако, мало высказывался, в то время как Солженицын в последних номерах «Нового мира» широко пишет об обвале подлости, которая его сопровождала не только в Советской России, но и потом, когда он жил уже в Вермонте. С одной стороны к нему тянулись советские щупальца, с другой — эмиграция ставила ему в вину то и это, и все пытались пить из него кровь.
В литературной среде укоренился взгляд, что талант — это одно дело, а высокая мораль и порядочность — другое. Важно фигуру Милоша, ясную, чистую и великую, видеть на фоне различных ужасов, которые происходили со всеми теми, кто имел смелость таланта или талант смелости. Вспомним выдающегося поэта, каким был Галчинский; однако он пошел на службу. А Милош не хотел. Такого рода поступок трудно записать на счет поэтических заслуг в прямом смысле этого слова; речь идет о более глубоких этических вещах.
Я сам, находясь в стране, не так сильно чувствовал давление ПНР, поскольку был по уши погружен в творчество. Это была разновидность автотерапии, и я подозреваю, что творчество у Милоша тоже выполняло такую функцию, что, упаси Боже, не определяет калибр дарования. Когда он писал, он выполнял задачу, поставленную себе самому. Между Сциллой капитализма и ужасной Харибдой коммунизма ему удалось найти собственный курс. В тех условиях и в той ситуации лучше сделать, пожалуй, было нельзя.
II. Связующее звено
Уход[556] Чеслава Милоша был в определенном смысле ожидаемым, ведь он уже стоял на пороге девяносто четвертого года жизни, но это невосполнимая потеря. Вместе с ним уходит не только прекрасный поэт, Нобелевский лауреат, но и, пожалуй, последний писатель, который помнил и возникновение II Речи Посполитой, и довоенную Польшу. Никто так глубоко не мог постигнуть прошлое, чтобы связать его с сегодняшним днем.
Почти до последних дней в еженедельнике «Tygodnik powszechny» он помещал очень ценные тексты. Читая одну из последних «Литературных кладовых»[557], в которой он возвращался в Вильно, я чувствовал уже, что это прощание, а когда рубрика Милоша перестала появляться в «Tygodnik», я воспринял это как его духовную смерть. Однако любому можно пожелать, чтобы к смерти он подходил с таким ясным и полноценным разумом[558].
Иногда Милош был мишенью не слишком благоразумных замечаний, ибо своей долговечностью он также подвергал испытанию не одного из так называемых прекрасных двадцатилетних. Молодым, что понятно, кажется, что старшие должны уходить, чтобы не занимать напрасно места. Но место, которое занимал Милош, действительно нельзя занять. В одном из последних текстов он написал о стихотворении Лехоня, которое, к моему удивлению, читая когда-то Лехоня, я просмотрел: «Нагим поднялся в своем сне…» Для меня это было поразительное открытие, которое раскрыло мне глаза и на Лехоня, и на открывателя, а значит — на Милоша.
Теперь, когда дело Милоша уже закрыто, появятся специалисты лучше, чем я, чтобы подвести итоги и баланс его долгой жизни. Только через немалый промежуток времени можно будет оценить весь объем его духовной работы. Это подобно высоким горам, которые нельзя полностью объять взглядом, когда стоишь у их подножия; только с расстояния на фоне неба ясно рисуется очертание горного массива.
Обращение к отдельным этапам его поэтического творчества — это уже дело индивидуальное. Милош черпал из многих источников, менял стили и регистры, в таких стихотворениях, как «Поэт помнит», он доходил даже до грани поэтической публицистики. «Что делаешь на развалинах собора / Святого Иоанна, поэт?» — спрашивал он сам себя. «Я клялся, что никогда ты не будешь / Скорбной плакальщицей» — но стихи из «Спасения» были сильно связаны с опытом войны. Его судьба была судьбой очень незаурядного, но, однако, польского писателя и поэта. И Милош должен был пройти через эпохи рушащихся и крушащихся демоном истории государственных устройств и границ.
Он рассказывал, ничего не скрывая, о самом трудном периоде своей жизни, когда стал эмигрантом из Польши и когда его затронули различные подозрения и оскорбления, и он сам, испытывая справедливый гнев, создавал множество неприятностей Гедройцу как хозяину в Мезон-Лаффит. Однако он выбрался на поверхность, как отличный пловец, и донес до нас, до наших дней эстафетную палочку, уходя как раз в момент, когда начались Олимпийские игры.
Станция «Солярис»
Перевод Язневича В.И.
I
Насколько я помню, еще никогда не случалось, чтобы на страницах еженедельника «Tygodnik powszechny» я что-либо говорил о собственной беллетристике. Однако делаю исключение в связи с фильмом Стивена Содерберга по моему роману «Солярис».
После премьеры этого фильма, являющегося так называемым римейком, то есть повторением, ибо первым «Солярис» экранизировал Тарковский[559], я смог уже ознакомиться со значительным количеством критических статей, появившихся в американской прессе. Разброс мнений и интерпретаций огромен. Американцы имеют детскую привычку выставлять оценки, как в свидетельствах — А, В, С и так далее, — поэтому некоторые дают «А», большинство «В», есть и «С».
В некоторых рецензиях, как, например, в «New York Times», утверждается, что этот фильм — love story, любовь в Космосе. О самом фильме, который я не смотрел и со сценарием которого я не знаком, не могу сказать что-либо, кроме того, что отражается в рецензиях, подобно тому, как лицо, смотрящее на воду, отражается на ее поверхности, хотя и не очень точно. Однако, по моему знанию и убеждению, книга не посвящена эротическим проблемам людей в космическом пространстве…
Мне трудно сказать что-либо рассудительное о возникновении этой книги — как-то она вытекла из меня, без предварительного плана, и у меня даже были трудности с ее окончанием. Но поскольку я написал ее более сорока лет назад, у меня уже сложилось объективное и хладнокровное мнение. Я также могу найти аналогию ее судьбы в иных, высоких сферах мировой литературы. Я думаю, например, о романе Мелвилла «Моби Дик», который, на первый взгляд, описывает жизнь на китобойном судне и роковую охоту капитана Ахава за белым китом. Вначале критики полностью разгромили роман как бессмысленный и неудачный, вопрошая, кому какое дело до этого кита, которого капитан вероятнее всего желал переработать на котлеты и бочки жира? Только после огромных аналитических усилий критики выявили, что в «Моби Дике» речь идет не о жире и даже не о гарпунах, а о глубоко скрытых символических слоях, и произведение Мелвилла в библиотеках с полок «Приключения в океане» было перенесено в совершенно иное место.
Если бы роман «Солярис» касался любовных чувств между мужчиной и женщиной — не важно где, на Земле или в Космосе, — у него было бы иное название! Американский литературовед венгерского происхождения Иштван Цисари-Роней так назвал свой анализ романа: «Книга есть Чужое»[560]. И действительно, в «Солярисе» я попытался представить проблему встречи в Космосе с иным существом или сущностью, каким-то бытием, которое не является ни человеческим, ни человекоподобным.
Научная фантастика почти всегда предполагает, что даже если Иной, с которым мы встречаемся, ведет какую-то игру, ее правила мы раньше или позже поймем; как правило, преимущественно речь шла о законах войны. Однако я хотел убрать все пути понимания, ведущие к персонификации Существа, каковым является солярийский океан, чтобы оказалось, что контакт с ним не удается установить понятным человеку способом, но при этом, однако, каким-то удивительным способом этот контакт устанавливается. В романе я это продемонстрировал в виде проявления интереса к людям, которые более сотни лет изучали планету Солярис, со стороны покрывающего ее поверхность океана.
О нем нельзя сказать, является он мыслящим или нет, но наверняка он является активным созданием, которое имеет какие-то цели, совершает какие-то воленаправленные действия, способен делать что-то, что не имеет ничего общего с целым рядом человеческих поступков. Когда наконец он обратил внимание на маленьких муравьев, мечущихся на его поверхности, то сделал это радикальным способом. Он проник через явные, облеченные в манеры и соглашения методы языкового общения, и вторгся каким-то образом, ему свойственным, в умы людей со Станции «Солярис», чтобы в каждом найти то, что глубже всего; было ли это чувство вины, или особо трагическое и переживаемое событие из прошлого, или тайное и постыдное желание. В некоторых случаях неизвестно, что он выявил, но мы знаем, что в каждом случае он сумел осуществить инкарнацию и воплощение в существо, с которым была связана эта тайна. Действия океана довели одного из ученых до эмоционального срыва и самоубийства, остальные самоизолируются, а когда мой герой, Крис Кельвин, прибывает на Станцию, он не может понять, что там в сущности происходит. Все попрятались, а в коридоре он встречает один из фантомов — крупную негритянку, в юбке из тростника, с которой был не в ладах — не знаем в чем конкретно — самоубийца Гибарян.
Сам Кельвин своим легкомыслием и опрометчивым поведением в прошлом не предотвратил самоубийства своей любимой женщины по имени Хари. Он похоронил ее на Земле и неким образом извлек ее из своей памяти — но именно сейчас она является ему благодаря солярийскому океану. Океан по-своему упрям: от созданий, которые стали своего рода воплощением угрызений совести жителей Станции, невозможно избавиться — даже если их отправить в космос, они возвращаются… Кельвин также делает попытку уничтожить Хари; потом он смиряется с ее присутствием и пытается играть роль, которой навсегда лишился на Земле — роль любящего мужчины.
Содерберг, как режиссер и сценарист, оставил это сюжетное обрамление, но, похоже, вырезал из книги все то, что касается изображения планеты Солярис, всего того, что для меня очень существенно. Почему? Солярийский шар — это не просто сфера, окруженная каким-то желе: он имеет некое собственное существование и свою собственную активность, хотя и не подобные человеческим. Он не строит и не созидает что-либо, что можно перевести на наш язык и тем самым объяснить. Поэтому описание здесь вынуждено было заменить анализ — принципиально невозможный! — функционирования внутреннего «я» океана. Отсюда симметриады, асимметриады, мимоиды, странные создания и построения, которых люди не в состоянии понять, а могут только описать с математической точностью, и именно для этого предназначена целая библиотека, размещенная внутри Станции, плод столетних усилий, чтобы то, что нечеловеческое или сверхчеловеческое и не подлежит языковому очеловечиванию, каким-то образом все-таки вкючить в фолианты человеческого знания.
Один из рецензентов написал, что предпочел бы еще раз посмотреть «Солярис» Тарковского. Другие обращают внимание, что больших денег продюсер наверняка не заработает, и у касс не будет толчеи, но фильм принадлежит к жанру очень смелого направления science fiction, поскольку там никого не убивают, нет ни звездных войн, ни космических оборотней, ни Шварценеггеров в роли Терминатора. В США любое кинематографическое произведение существует в атмосфере конкретизированных и уже устоявшихся ожиданий. Поэтому меня удивило, что хотя моя книга и стара — около полувека сейчас это слишком много, — но, однако, нашелся кто-то, кто захотел рискнуть, хотя сюжет упомянутых ожиданий не оправдывает. Потом, возможно, немного испугался — но это уже только догадки.
Книга заканчивается на романтическо-трагической ноте; женщина решает сама себя уничтожить, не желая быть инструментом, с помощью которого тот, кого она действительно любит, исследуется какой-то неизвестной силой; ее аннигиляция осуществляется без ведома Кельвина с помощью одного из обитателей Станции. Фильм, похоже, имеет какой-то иной, оптимистический конец, и в финале океан радостно светлеет. Если это так в действительности, значит была сделана уступка американским стереотипам во взглядах на science fiction. Это глубоко вырытая и забетонированная колея, выскочить из нее невозможно, и история должна иметь или happy end, или завершаться космической катастрофой. Отсюда, возможно, легкая тень разочарования у некоторых критиков, которые надеялись, что созданная океаном женщина превратится в фурию, колдунью или ведьму и поглотит героя, и что из нее будут выползать черви и прочая гадость.
Фильм «Солярис» заявлен на Берлинский кинофестиваль в следующем году и поэтому будет демонстрироваться только после его окончания. Польские дистрибьюторы уже приобрели копии, однако я не стремлюсь его посмотреть. Сообщение, что Содерберг экранизирует мой роман (хотя никто еще не знал, каким будет этот фильм), вызвало огромный рост интереса со стороны издателей во многих странах: в Германии «Солярисом» заинтересовалось издательство Бертельсманна, объявились датчане, норвежцы, и даже корейцы и какой-то арабский издательский дом, кажется в Сирии. Некоторые пошли дальше и обратились к другим моим книгам; однако это — побочный эффект, не имеющий отношения к самой книге.
Мне как автору — повторю — было важно создать картину встречи людей с чем-то, что существует, причем основательно, но при этом не может быть приведено к каким-либо человеческим понятиям или представлениям. Именно поэтому книга называется «Солярис», а не «Любовь в космическом пространстве».
II. Под поверхностью океана
(После американской премьеры «Соляриса»)
Скажу еще несколько слов о «Солярисе». Стивен Содерберг в «Newsweek» высказал надежду, что Лем не получит инфаркт, когда увидит фильм. Польские дистрибьюторы должны прислать мне кассету с копией, а Содерберг хочет потом приехать в Краков. Однако я сейчас нахожусь в таком физическом состоянии, что подобный визит невозможен, но постараюсь поправиться.
Абстрагируясь от того, ценна ли работа Содерберга или нет, скажу, что она была брошена в грязный океан, но не солярийский — в океан критики, которая не очень-то знает, что перед ней: шляпа, ваза для цветов, или, может быть, ночной горшок. Это напоминает мне ситуацию многолетней давности, когда вышел немецкий перевод «Соляриса»: появились глубинные фрейдистские эгзегезы, которые показались мне абсолютно бессмысленными. Когда пишешь такой многозначный текст, сложно найти соответствующего пользователя.
Однако я считаю, что не стоит браться за сочинения, лишенные какого-либо проблемного послания. Действительно, «Солярис» — это одна большая выдумка, но проблематика, которая прячется под поверхностью сюжета и солярийского океана, не выдумана. Моя книга — естественно, косвенно — представляет ответ на довольно распространенное убеждение, что или в Космосе существуют другие, технологически высоко развитые цивилизации, которые установят с нами контакт, или нет вообще никого. Это почти так же, как если на Земле замечать только людей и шимпанзе, не учитывая гнезда термитов, муравейники, всяких других социально организованных насекомых или хотя бы достаточно разумных дельфинов. Я представил существо, которое не является коллективно сливающимся в одно организмом и которое имеет свою собственную проблематику. В чем она заключается? Нечеловеческая! Были даже попытки теологического эксперимента, и люди совершают их постоянно, но океан не отзывается. И в этом суть.
Я считаюсь рационалистом, поэтому на вопрос: почему что-то в моей книге такое, а не другое, могу ответить: не без причины. Например, неуничтожимость фантомов имеет свою причину: проблема не в том, чтобы создавать обычные человеческие копии, ибо тогда это не вписалось бы в порядок повествования. Мы не знаем, действует ли океан недоброжелательно, или же просто разыскивает то, что прочнее и крепче всего зафиксировано в подсознании или памяти четырех героев, находящихся на Станции. А мы знаем, что травмирующие воспоминания бывают одновременно прочны и сильно приглушены.
Как в действительности происходят явления, терзающие моих героев? Я не смогу ответить ничего сверх того, что оказалось в книге, ибо ничего больше не знаю! Сарториус, тип ужасно официальный и упрямый, имеет вероятнее всего какого-то ребенка. Или он к этому ребенку приставал, или его с ним объединяют другие грустные воспоминания — неизвестно, но в любом случае он очень стыдится появления этого существа. И подобный стыд переживают другие, а Гибарян совершает даже по этой причине самоубийство; впрочем, толстую негритянку, фигура которой вызвала у Гибаряна такую бурную реакцию, американцы по причине political correctness[561] из фильма убрали. Кто же терзает Снаута — понятия не имею! Есть в романе сцена, в которой он держит за руку кого-то спрятанного в шкафу — и только.