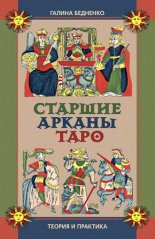Рука, что впервые держала мою О`Фаррелл Мэгги
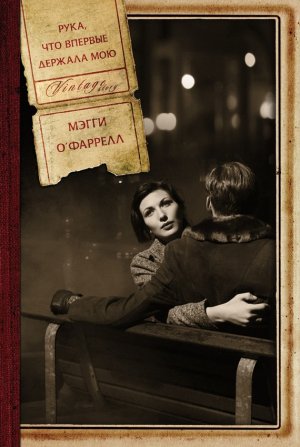
Затылок упирался в край стола, практикантка звала на помощь, и Элина опять чуть не впала в забытье — будто ее качнуло в поезде, в голове все подернулось пеленой. Это же так просто, уснуть. Хотелось расслабиться, отдаться той тяжести, что навалилась на нее. Нет, нельзя. И она крепко зажмурилась и снова открыла глаза, больно ущипнула себя за палец. «Помогите, — сказала она анестезиологу, что стоял ближе всех, — прошу, помогите». Но голос прозвучал еле слышно, а анестезиолог разговаривал с человеком, который склонился над ней, а в руках у него — мешочки с чем-то красным.
Элина отворачивается от зеркала. Снизу снова доносится: «ааанг! ааанг!» Элина спускается, держась за перила, минует прихожую, где крик уже перерос в «уааа! уааа!» — и выходит на крыльцо.
Здесь, на крыльце, ее охватывает странное чувство, будто в ней два разных человека, две Элины. Одна застыла на пороге, легкая, как пух, готовая скинуть пижаму и взмыть в небеса, исчезнуть за облаками. А другая спокойно наблюдает за первой и думает: вот так сходят с ума. Она пускается по тропинке, открывает ворота и босиком выходит на тротуар. Все, ухожу, меня нет. «Уходишь, — замечает вторая, спокойная, — вижу, уходишь». Другая Элина жадно вдыхает воздух, сердце трепещет и заходится.
На углу она вынуждена остановиться. Улица, тротуар, фонарные столбы — все плывет и кружится перед глазами. Больше не ступить ни шагу, будто она привязана к дому или к чему-то в доме. Элина вертит головой. Очень любопытно. Занятное чувство. С минуту она стоит покачиваясь — будто катер на привязи. Влага дождя проникает сквозь футболку, пижама липнет к телу.
Она поворачивается. Две Элины опять слились в одну. Цепляясь за стену, она идет по тротуару, шагает по тропинке, заходит в дом, оставляя на полу мокрые следы.
Малыш, лежа в кроватке, сражается с одеялом, вцепился в него, личико сморщилось от натуги и досады. Увидев Элину, он тут же забывает о схватке с одеялом, о голоде, обо всем, чего не может высказать. Пальчики раскрываются, словно лепестки цветка, и он изумленно смотрит на мать.
— Все хорошо, — говорит ему Элина и на сей раз верит своим словам. Она берет малыша на руки, тот вздрагивает, неожиданно оказавшись в воздухе. Элина прижимает его к себе, приговаривая: — Все хорошо.
Элина с малышом на руках подходит к окну. Они глядят друг на друга. Малыш жмурится от яркого света, но не сводит с нее глаз, для него она как живительная влага для цветка. Элина выглядывает из окна в сад. Поднимает малыша, трется щекой о его лоб, будто приветствует его, будто они в самом начале пути.
* * *
Лекси стоит на тротуаре у Мраморной арки. Поправляет туфлю, повязывает шарф. Теплая туманная погода, начало седьмого. Мужчины в костюмах, женщины в шляпках, ведущие за руку детей, проходят мимо, огибают ее, как река огибает утес.
Лекси отработала на новом месте два дня. Она лифтерша в крупном универмаге. Это место ей предложили на бирже труда после плачевных результатов теста на скорость машинописи, и теперь в ее обязанности входит говорить: «Какой этаж, мадам?»; «Вверх, сэр»; «Третий этаж, хозтовары, галантерея, головные уборы, спасибо». Она и не представляла, какая это скука. Как и не представляла, что способна удержать в памяти устройство целого семиэтажного универмага. Или что одному человеку может понадобиться сразу столько покупок: шляпы, ремни, обувь, чулки, пудра, сетки для волос, костюмы. Лекси видела списки, что сжимали руки в перчатках, читала через плечо. Но она уверена — это всего лишь начало. Она здесь, в Лондоне, и жизнь ее вот-вот из черно-белой обратится в цветную, иначе быть не может.
Взгляните, вот она стоит на тротуаре. Она не похожа на Лекси в комнате Иннеса, в полосатой рубашке на голое тело. Не похожа и на Александру в синем платье и желтом шарфе, что сидела на пне в саду у родителей. Ей суждено немало перевоплощений. В ней живут бесчисленные Лекси и Александры, спрятанные друг в друге, словно матрешки.
Волосы ее забраны наверх. На ней красно-серая униформа лифтерши, на шее алый шарф; шапочку в рубчик она спрятала в карман. Вечер теплый, в плаще с поясом жарковато. Взгляните, как развернуты ее плечи, какая напряженная поза. Постоянная безупречная вежливость — тяжкий труд. Лекси снимает красный шарф и прячет в карман, разминает затекшие плечи. Улыбается, завидев в дверях двух других лифтерш. Смотрит, как они, взявшись за руки, пробираются сквозь толпу, чуть пошатываясь на высоких каблуках. Мимо громыхает трамвай, разносится в воздухе гулкое эхо звонка.
Вдох, выдох. Лекси чуть расслабляет плечи, смотрит на яркую полосу неба над крышами — универмаг и лифт с кнопками и дребезжащим звонком забыты до завтра. Она перебегает рельсы перед очередным трамваем, ей сигналит машина, но Лекси уже на тротуаре; она уворачивается от тележки с цветами, и отчего-то хочется смеяться. Нет, не совсем так. А в чем же дело? Она сворачивает за угол, лучи заката омывают ее, длинные тени лежат на тротуарах. Подходит разносчик газет и выкрикивает нараспев: «Но-о-овости! Но-о-овости!» И Лекси понимает: радость. Безудержная, ничем не омраченная радость, вот что у нее на душе. Она спешит на встречу с университетской подругой, что живет здесь уже год, и они идут в кино. Она сама зарабатывает на жизнь, у нее есть крыша над головой, она в Лондоне, и на душе у нее радость.
«Но-о-овости!» — опять выкрикивает разносчик газет, уже за ее спиной. Лекси оглядывается, переходит через дорогу, а потом пускается бегом, на ходу расстегивая плащ, сумочка болтается. Что за пьянящее чувство, когда впервые сознаешь, что ты сама себе хозяйка и никто тебе не указ! Прохожие смотрят ей вслед, какая-то старушка шикает, а вдалеке протяжно, уныло завывает разносчик: «Но-о-овости!»
В Кентиш-Таун она возвращается поздно, но дверь, на ее счастье, не на засове. Повозившись с ключами, Лекси заходит в дом и осторожно закрывает за собой дверь. Но вместо тишины и полумрака ее встречают яркий свет, галдеж и смех. На лестнице сидит компания, Лекси узнает соседок по пансиону.
Ничего не понимая, она направляется к ним. У кого-то праздник? Знает ли миссис Коллинз? Может, ушла куда-то?
— Ну вот, явилась! — кричит кто-то, завидев Лекси.
— А то мы уже волнуемся, — говорит, выглядывая из-за чьего-то плеча, Ханна. В руке у нее бокал, щеки слегка раскраснелись.
Лекси, будто пригвожденная к месту, начинает расстегивать плащ.
— Все хорошо, — она оглядывает соседок, — я ходила в кино с подру…
— Она ходила в кино! — Лекси наконец замечает миссис Коллинз: та, сидя на краешке стула на лестничной площадке, обращается к кому-то наверху.
— Что здесь такое? — улыбается Лекси. — Праздник?
— Ну, — объясняет миссис Коллинз с намеком на всегдашнюю суровость, — кто-то же должен был развлекать твоего гостя.
Лекси поднимает взгляд.
— Гостя?
Миссис Коллинз хватает ее за руку и ведет сквозь густую толпу.
— Такой занятный молодой человек, — говорит она. — Обычно я, сама знаешь, не приглашаю джентльменов в дом, но он сказал, что у него назначена встреча с тобой, и мне стало за тебя неловко, что ты не пришла, и…
Лекси, миссис Коллинз и Ханна поднимаются на следующую площадку, а там, на четвертой ступеньке, сидит Иннес.
— И что он ответил, когда вы ему признались? — спрашивает он у невзрачной девушки с крупными зубами. — Надеюсь, рассыпался в извинениях.
— Мистер Кент играл с нами в игру. — Миссис Коллинз стискивает руку Лекси. — Каждая рассказывала о своем самом большом конфузе. А он выбирает победительницу — ту, что сильнее всех оконфузилась. — Она хрипло смеется, но тут же смущенно прикрывает рот ладонью.
— Вот как! — удивляется Лекси.
Иннес оборачивается, оглядывает ее с головы до ног, улыбается, взмахивает рукой с сигаретой — то ли в знак приветствия, то ли недоуменно.
— Наконец-то, — говорит он. — А мы гадаем, что с тобой стряслось. Опять зашла не в ту дверь? Ведущую в другой мир?
Лекси склоняет набок голову.
— На этот раз нет. Всего лишь в дверь, ведущую в кинотеатр.
— А-а, соблазны синематографа! Кто-то предположил, что тебя похитили, но я сказал, что ты отвадишь любого похитителя.
С минуту они разглядывают друг друга. Иннес щурится, берет в зубы сигарету.
В разговор вступает Ханна:
— Мистер Кент нам рассказывал, что знал тебя в университете.
Лекси вскидывает брови:
— Вот как?
— Так и есть, — спешит вмешаться Иннес, — и эти добрые люди сжалились надо мной, пригласили в дом. У кого-то нашелся бренди, а ваша любезная хозяйка даже накормила меня котлетами. Вот так-то. Вот и вся история.
Лекси не находит что ответить.
— Как котлеты? — только и может она сказать.
— Бесподобные. — Иннес встает, потягивается, тушит сигарету в пепельнице на нижней ступеньке. — Ну, мне пора. Да и вам надо выспаться. Дамы, спасибо за чудесный вечер. Надеюсь, не в последний раз. Миссис Коллинз, вам приз за самый большой конфуз. Лекси, проводишь меня? — Он протягивает руку.
Лекси смотрит на руку, на Иннеса. Вокруг галдят наперебой: «Как, вы уже уходите?»; «А что за приз?»; «А что за история у миссис Коллинз?» Лек-си под руку с Иннесом выходит в подъезд. Женщины, проводив их до нижней ступеньки, вежливо, но неохотно расходятся.
Лекси думает, что они попрощаются у дверей, но Иннес выводит ее на крыльцо. И тут же шепчет:
— Правду сказать, большей гадости в жизни не пробовал. Жесткие как подметка, а на вкус — опилки. Больше в рот не возьму ваших котлет, и не проси.
— Хорошо, — отвечает Лекси, но тут же поправляется: — Я и не просила.
Иннес будто не слышит.
— Да что котлеты, кому они нужны? Ты должна загладить вину.
Лекси высвобождает руку:
— То есть как — загладить вину? И вообще, как вас сюда занесло? Как вы меня нашли?
Иннес поворачивается к ней:
— Как думаешь, сколько в Кентиш-Тауне женских пансионов?
— Откуда же мне зна…
— Два, — отвечает Иннес, — что упрощает дело. Метод исключения плюс немного удачи. Я был уверен, что надолго ты не задержишься, скоро придешь. Но не знал, когда именно. Да не в том дело, а главное, когда ты сможешь со мной пообедать?
— Не знаю. — Лекси вскидывает подбородок. — Я обычно занята.
Иннес с улыбкой подходит чуть ближе:
— Как насчет субботы?
Лекси смахивает с рукава невидимую пылинку.
— Не знаю, — повторяет она. — По субботам я работаю.
— Я тоже. Может, в час? Бывает же у тебя перерыв на обед. Где ты работаешь? Научилась печатать шестьдесят слов в минуту?
Лекси округляет глаза.
— Как вы запомнили про шестьдесят слов в минуту? — И, не выдержав, смеется. — Да еще и про пансион в Кентиш-Тауне?
Иннес пожимает плечами:
— Я все помню. То ли это болезнь, то ли признак гениальности. Одно из двух. Скажи мне что-нибудь — и оно уже здесь, — он стучит по макушке, — не сотрешь.
Лекси невольно смотрит на его голову, представив, что под густой шевелюрой так и кишат знания.
— Не знаю, во сколько освобожусь. Я и недели не проработала, и…
— Ладно, ладно. Вот что, приходи и разыщи меня. Я буду у себя в редакции, в Сохо. Весь день, а то и всю ночь. Приходи когда угодно. Как освободишься. Визитку я тебе давал. Она еще у тебя?
Лекси кивает.
— Вот и хорошо. Адрес там есть. Значит, до субботы?
— Да.
Иннес улыбается, медлит на пороге. Лекси думает: поцелует он меня? Но Иннес, не поцеловав ее, даже не помахав на прощанье, спускается с крыльца и устремляется через улицу.
На подходе к Сохо Лекси останавливается. Нашаривает в сумочке записку и визитку Иннеса Кента, что хранила там со дня их знакомства. Адрес она и так помнит, но все равно сверяется с карточкой. «Редактор, — гласит визитка. — Журнал „Где-то“, Бэйтон-стрит, Сохо, Лондон».
Миссис Коллинз ужаснулась, когда утром на лестнице Лекси обмолвилась, что едет в Сохо. Лекси спросила, что тут такого.
— Сохо? — повторила миссис Коллинз. — Там полно богемы и пьянчуг. — Она прищурилась: — Заладила, почему да почему. Любопытство кошку сгубило.
Лекси засмеялась.
— Но я-то не кошка, миссис Коллинз, — сказала она, сбегая вниз по ступенькам.
Лекси окидывает взглядом улицу, подписанную на карте «Мур-стрит». Тихая улочка, с виду не скажешь, что здесь полно пьяниц. На обочине — одинокая машина; у подъезда стоит человек, читает газету; над магазином — низкий навес; из окна четвертого этажа высовывается женщина, поливает цветы в ящике.
Лекси устремляется в Сохо — шаг, другой, третий. Ее охватывает странное чувство, будто движется не она, а тротуар, здания, дорожные знаки. Постукивают по асфальту ее каблуки. Человек с газетой поднимает взгляд. Женщина в окне застывает с лейкой в руке.
Лекси проходит мимо магазина с сырами в витрине, огромными, будто колеса. На крыльце стоит продавец в белом переднике и что-то кричит на непонятном языке женщине с ребенком на другой стороне улицы. Он улыбается и кивает Лекси, та улыбается в ответ. За углом — кофейня, рядом на тротуаре собралась компания, что-то обсуждают, тоже на незнакомом языке. Они расступаются перед Лекси, один обращается к ней, но Лекси не оглядывается.
Дома из темного кирпича жмутся друг к другу, улочки узкие. В канавах журчит вода после недавнего дождя. Лекси огибает угол, другой, проходит мимо китайской овощной лавки, где продавщица складывает пирамидой желтые фрукты, из которых уже вынули косточки; мимо крыльца, где сидят на стульях двое чернокожих и смеются. Матросы в сине-белой форме шагают по проезжей части и вразнобой горланят песню; мальчишка-рассыльный на велосипеде, объезжая их, виляет рулем и что-то кричит через плечо. Пара матросов, оскорбившись, бросаются в погоню, но мальчишка жмет на педали — и дёру!
Лекси смотрит, запоминает. Все вокруг наполнено для нее смыслом: и развевающаяся ленточка на шапке одного из матросов, и окно, где умывается мармеладно-желтый кот, и облачко душистого пара у входа в пекарню, и слова, написанные мелом — по-итальянски? по-португальски? — на доске перед магазином, и раскаты музыки и смеха из-за решетчатой двери, и меховой воротник пальто и золотая застежка на сумочке у женщины, идущей по другой стороне улицы. Лекси впитывает каждую мелочь с ликованием и страхом: это прекрасно, прекрасно, ничего не прибавить, не отнять, — но что, если она не удержит в памяти всю эту красоту, упустит хоть что-то?
Нужный дом на Бэйтон-стрит возникает перед ней неожиданно. Он втиснут между двумя домами повыше, окна раздвижные, к подъезду ведут ступеньки. Подоконники и водосточные трубы облезлые. На третьем этаже выбито стекло.
В окнах первого этажа Лекси видит сразу много людей. Двое подставляют что-то к свету и внимательно разглядывают; женщина говорит по телефону, кивает, что-то записывает. Другая измеряет линейкой лист бумаги и разговаривает через плечо с мужчиной, сидящим позади нее за письменным столом. В углу столпились люди, смотрят на листки, пришпиленные к стене. А рядом с теми, что подставляют что-то к свету, стоит Иннес, без пиджака, в рубашке с засученными рукавами.
Иннес в этот миг захвачен журналом. У журнала будет новый облик, все изменится: внешний вид, содержание, направленность. На обложке нового выпуска будет скульптура художницы, которой Иннес прочит большое будущее: она оставит след в искусстве, ее будут помнить спустя годы после того, как все эти люди исчезнут, обратятся в пыль.
А пыль как раз и занимает сегодня его мысли. Потому что художница работает с белой глиной, шлифует ее так гладко, что та становится как теплая детская плоть, а значит…
Плоть? Мысли Иннеса обрываются. Плоть — слово неудачное. Наводит на мысли о смерти? Необязательно, заключает Иннес, но даже намека достаточно, чтобы убрать его из абзаца, который он сочиняет про себя, а вслух говорит фотографу, что у того во время съемки, похоже, был запылен объектив — снимки не передают теплой, лучистой белизны, присущей работам художницы.
Мысли Иннеса идут сразу в нескольких направлениях. Будет ли название журнала на обложке хорошо смотреться под этим углом, оттенит ли он простоту нового шрифта? Шрифт должен быть простым — Helvetica или Gill Sans, но уж точно не Times и не Palatino, шрифт не должен отвлекать внимание от скульптуры. Та к как же написать, «теплая детская плоть»? Нет. Обойтись без слова «детская»? «Теплая кожа»? «Теплая плоть»? Навевает мысли о смерти? Поручить Дафне позвонить в типографию или лучше самому?
Когда Иннес подходит к окну и смотрит на улицу, он так поглощен журналом, статьей, выбором шрифта, что образ девушки за окном вплетается в его мысли, как шум из внешнего мира вплетается в сновидения. Иннес сразу же представляет эту девушку за соседним столом, за пишущей машинкой — стройные ноги скрещены, рука подпирает подбородок, задумчивый взгляд устремлен в окно.
Иннес застывает как вкопанный. Название журнала не должно быть под углом! Оно должно быть набрано прямо, в правом нижнем углу. Такого еще не было! Шрифт — Gill Sans, жирный, сорок восемь, нижний регистр, вот так:
ГДЕ-ТО
а скульптура — выше, будто название журнала — это постамент, отправная точка, основа работы. В некотором смысле, рассуждает про себя Иннес, так оно и есть!
— Стоп! — кричит Иннес оформителю. — Подожди. Поставь это здесь, внизу. Вот так. Нет, сюда. Гил Санс, жирный, сорок восемь. Да, Гил Санс. Нет. Отлично. Вот так.
Двое с обзорным листом, Дафна у телефона, гость-кинокритик, оформитель — все спокойно смотрят, как Иннес, глянув на обложку, вылетает из дверей.
Иннес сбегает с крыльца.
— Это ты! — говорит он. — Долго же ты шла. Ну-ка, иди сюда! — Он широко расставляет руки.
Лекси щурится. В руке у нее по-прежнему карта и визитка. Она делает шаг навстречу Иннесу — как же иначе? — и он заключает ее в объятия. Прижавшись щекой к его костюму, Лекси чувствует что-то знакомое. Проводит пальцем по ворсу, отстраняется, смотрит.
— Войлок.
— Что ты сказала?
— Войлок. Костюм у тебя из войлока.
— Да. Ну и как, нравится?
— Даже не знаю. — Лекси отступает на шаг. — В первый раз вижу войлочный костюм.
— Понимаю. — Иннес ухмыляется. — В том-то и штука. Мой портной тоже сомневался, но в конце концов перешел на мою сторону. — Он тащит Лекси за руку по тротуару. — Так. Время обеда. Проголодалась? Надеюсь, ты не из тех девушек, что питаются одним воздухом. — Речь его так же тороплива, как и походка. — Посмотреть на тебя, так ты, наверное, ешь как птичка. Ну а я зверски голодный. Стадо баранов съел бы!
— По тебе тоже не скажешь, что ты обжора.
— Еще какой обжора! Внешность, как известно, обманчива. Сейчас сама убедишься.
Они идут скорым шагом вдоль улицы, вдоль переулка, сворачивают за угол, обгоняют мужчину, ведущего под руки двух женщин, — у обеих блестящие кожаные пояса, все трое смеются; проходят мимо киоска с иностранными газетами на вертящихся полках, мимо темнокожих девушек с увесистыми тюками. Иннес останавливается перед рестораном. На неоновой вывеске мигают голубые буквы: «АПОЛЛО». Иннес толкает дверь:
— Вот мы и пришли.
С залитой светом улицы они попадают в сумрак, спускаются по темной кривой лестнице в зал с низкими сводами. За столиками сидят люди, мерцают свечи в винных бутылках вместо подсвечников. В углу мужчина в женской шляпе с пером фальшиво играет на пианино. Двое других, пристроившись с ним на одном стуле, громко переговариваются поверх его головы. Будь снаружи хоть полдень, хоть полночь, думает Лекси, здесь не разберешь. Вокруг трех сдвинутых вместе столиков сидит компания. Иннеса встречают криками, поднимают бокалы, весело машут руками. Кто-то спрашивает:
— Это новая? А что случилось с Дафной?
Иннес ведет Лекси под руку в глубь зала. Их провожают громким свистом. Они садятся за ширмой, друг против друга.
— Кто это? — интересуется Лекси.
Иннес оборачивается, смотрит на компанию — те швыряют свечными огарками в пианиста и требуют еще вина.
— Как их только не называют, — объясняет Иннес, вновь повернувшись к Лекси. — Они именуют себя художниками, но на мой взгляд, лишь один, от силы двое достойны этого звания. Все прочие — пьяницы и прихлебатели. Один — фотограф. Одна, — Иннес наклоняется к Лекси, — женщина, выдающая себя за мужчину. Но знаю об этом только я.
— Правда? — Лекси поражена.
— Ну, — Иннес пожимает плечами, — я да ее мать. И, надо думать, ее любовник. Или она и от него скрывает? Ну, что будем есть?
Лекси пытается смотреть в меню, но смотрит на Иннеса, на его синий войлочный костюм, сдвинутые брови, на художников-алкоголиков, у одного из которых на коленях официантка — дебелая бабища за пятьдесят; на ряды порожних винных бутылок вдоль полок, на узорную столешницу.
— Что с тобой? — Иннес касается ее рукава.
— Да так, не знаю, — вырывается у Лекси. — Хочу, чтобы… даже не знаю. Будь у меня красные туфли на шпильках и золотые кольца в ушах…
Иннес морщится:
— Не сидел бы я здесь с тобой.
— Почему? — Лекси смотрит, как Иннес достает пачку сигарет. — Угостишь?
Иннес, не сводя с Лекси глаз, держит в зубах две сигареты, зажигает их одной спичкой и протягивает одну девушке.
— Хочешь кольца в ушах? Нет, тебе только кажется.
Лекси берет сигарету.
— Откуда ты знаешь?
— Я знаю, что тебе нужно, — отвечает Иннес, понизив голос, по-прежнему глядя Лекси в глаза.
Лекси изумленно смотрит на него и вдруг ни с того ни с сего заливается смехом. Что он хочет сказать? Лекси уже не смеется — ее охватило странное, новое чувство, будто тело тоже отозвалось на его слова. Лекси снова смеется, смеется и Иннес, будто все понял.
Он тянется к ней, касается ее щеки, проводит большим пальцем вдоль подбородка.
Что-то странное творится с некоторых пор с Иннесом. Он и сам до конца не понимает, что с ним, но точно помнит, когда началось это легкое помешательство, одержимость. Чуть больше двух недель назад, когда он заглянул за живую изгородь и увидел сидящую на пне девушку. Он смотрит на стол, на пол, который будто движется, уходит из-под ног. На миг он чувствует, до чего огромен город, до чего полон жизни, и ему чудится, словно он и она, эта девушка, сидят вдвоем как посреди урагана. Он украдкой смотрит на Лекси, но видит только ее запястья, манжеты, сжатые руки, сумочку на скамье.
До чего же странно, что она здесь, с ним, — и в то же время будто так и надо. Его посещает смутная мысль: вот бы что-нибудь ей подарить — что угодно. Картину. Пальто. Перчатки. Хочется смотреть, как она разворачивает подарок, как ее пальцы развязывают ленту, разрывают обертку. Но Иннес гонит от себя эту мысль. Только бы все не испортить, только бы не упустить ее. Сам не зная почему, он чувствует: эта девушка особенная, она нужна ему. Уму непостижимо, но так.
Чтобы отвлечься, он говорит и говорит. Рассказывает, как недавно ездил в Париж, купил несколько картин и две скульптуры. Он торгует предметами искусства, чтобы подзаработать. Вынужден торговать, потому что журнал не приносит дохода. Скульптуры — работы неизвестных авторов, в этом-то и заключается изюминка. Работу знаменитого художника может купить всякий. Лекси перебивает: всякий, кому по карману, — и Иннес кивает: верно. А чтобы поставить на темную лошадку, нужно чутье и известная доля безрассудства. Словами не описать чувство, когда входишь в студию художника и понимаешь: вот оно, настоящее! — говорит Иннес. И пространно описывает то, что якобы не описать словами.
А потом объясняет, как он велел упаковать скульптуры: слой опилок, слой газет и все это — в ящики. А когда распакует, возьмет мягкую кисточку из меха и смахнет опилки. Эту работу он не доверяет никому, хоть это и глупость. И вечерами торчит в подсобке у себя в редакции, с кисточкой в руке. Как художник, орудуешь кистью? — спрашивает Лекси, и Иннес смеется: пожалуй, так.
Вопросов она задает немного, зато слушает. Да как слушает! Как никто другой! Слушает так, будто для нее каждое его слово — глоток свежего воздуха. Слушает, распахнув глаза, подавшись ему навстречу. Слушает так самозабвенно, что хочется придвинуться к ней, уткнуться своим лбом в ее и шепнуть: что? что ты от меня хочешь услышать?
Отец его, рассказывает Иннес, был англичанин, а мать — метиска родом из Чили. Получилийка-полушотландка, отсюда его кельтское имя и черные волосы. Глаза Лекси распахиваются еще шире. Она была родом из Вальпараисо — рассказывает Иннес и смотрит, как Лекси одними губами повторяет слово, будто вбирая его в себя. Отца послали туда наживать состояние. Он был второй сын в богатой семье. Возвратился он с деньгами и заморской женой. Он разбился на машине, когда Иннесу было два года. Ты его помнишь? — спрашивает Лекси, а Иннес отвечает: нет, совсем не помню. Мать говорила, что надо вернуться в Чили, но так и не вернулась. Да и не смогла бы вернуться. Почему? — спрашивает Лекси, желая во все вникнуть. Слишком многое там изменилось, объясняет Иннес, стало ей чужим. Теперь это другая страна.
* * *
Тед шагает, толкая перед собой коляску. В первый раз он гуляет по Хэмпстед-Хит в столь ранний час. Он проснулся в начале шестого: на плечо легла чья-то рука, и с минуту он не мог понять, что случилось, что за женщина нависает над ним в темноте, почему она плачет, чего хочет от него. И лишь потом сообразил: Элина, с малышом на руках, просит: возьми его, умоляю, возьми!
Тед разобрал не все слова — смесь ломаного английского с финским и, кажется, с немецким, что-то про сон, про плач, — но уловил их смысл, понял, что делать. Он забрал у Элины ребенка; Элина повалилась на кровать и в тот же миг уснула, даже не подложив как следует под голову подушку.
И вот Тед везет сына в коляске вверх по Парламентскому холму, медленно-медленно, спешить некуда, им все равно куда идти, они просто гуляют, он и сын. Взошло солнце, росинки на траве поблескивают, словно битое стекло, и Тед мечтает: будь малыш постарше, он бы показал ему это; скорей бы пришло время, когда они с сыном будут гулять и говорить обо всем: как сверкает на солнце утренняя роса, как много людей в такую рань бегают трусцой и гуляют с собаками, какие утренние приметы предвещают жаркий день. Острая радость овладевает Тедом при мысли, что все это будет, что этот ребенок, их сын, будет рядом. Тед до сих пор до конца не верит, до сих пор ждет, что кто-то подойдет, возьмется за ручку коляски и скажет: простите, вы же не надеялись оставить его у себя?
Мимо пробегает человек — постарше Теда, за сорок, очень загорелый, с кожей цвета мореного дуба — и на бегу сочувственно улыбается Теду. Наверное, тоже отец, и в его жизни было то же самое: утренняя смена, круг с коляской, пока жена спит после долгой ночи. Теду вдруг хочется догнать его, обратиться к нему, спросить, пройдет ли это, станет ли легче.
Но Тед смотрит на ребенка. Малыш в полосатом комбинезоне похож на сверток с подарком. Красные и оранжевые полосы, зеленые круги вдоль живота и ножек. Элина всегда удивляется, почему детей одевают только в белое и пастель. Она терпеть не может пастельные тона, называет их бледным подобием настоящих красок, говорит, что у нее зубы сводит от пастели. Тед помнит, как они покупали этот комбинезон. Они только что узнали, что Элина беременна, и никак не могли оправиться от потрясения, а на пути им попался магазин, где в витрине свисали с искусственных веток крохотные детские одежки. Это было где-то в Ист-Энде, по дороге на выставку в галерею Уайтчепел. Несколько минут они зачарованно разглядывали костюмчики, стоя рядом, но не говоря друг другу ни слова. Зеленый в оранжевую крапинку, розовый с голубыми зигзагами, лиловый, бирюзовый — не поймешь, то ли совсем крохотные, то ли, наоборот, непомерно большие. Потом Элина сказала: «Ладно». Закусила губу, скрестила руки. Тед видел, она собирается с духом, принимает решение; именно тогда он понял, что ребенок у них будет, что ему суждено родиться, а еще понял, что до той минуты не был уверен, хочет ли Элина ребенка, оставит ли. «Ладно», — повторила она, шагнула вперед и толкнула дверь магазина.
Тед стоял на тротуаре, не в силах сдержать улыбку. Они станут родителями, будут одевать ребенка в цветастые одежки. Он смотрел сквозь стекло, как Элина выбрала два костюмчика и снова застыла, скрестив на груди руки, закусив губу, как перед прыжком с вышки, — и понял, что она останется с ним, не улетит в Нью-Йорк, или в Гонконг, или куда-нибудь еще, как он иногда боялся. Глядя на Элину в магазине, он будто увидел ее насквозь, вместе с крохотным существом внутри.
Сейчас он вспоминает и улыбается, глядя на сына. Глаза их на миг встречаются, и взгляд малыша устремляется на что-то за спиной у Теда. Уму непостижимо, что значит видеть мир в первый раз. Впервые увидеть стену, бельевую веревку, дерево. Сердце вдруг сжимается от странной жалости к сыну: какая перед ним задача — все на свете постичь буквально с нуля!
Тед поднимается на вершину Парламентского холма. Десять минут седьмого. Он полной грудью вдыхает, смотрит на малыша — тот спит в коляске под одеялом, разметавшись во сне. К козырьку коляски изнутри пришпилены черно-белые наброски, геометрические фигуры, — наверное, Элина рисовала. Она как-то сказала, что младенцы не различают цвета, и сейчас Тед, садясь на скамью, удивляется про себя: откуда ученые знают?
Тед отступает назад, шага на три-четыре. Та м скамейка. Это он вспомнит уже потом. А сейчас, хотя он прекрасно знает, кто он и что делает — он отец, гуляет с ребенком, — ему при этом чудится, будто он и сам ребенок, стоит у окна своей спальни с желтыми занавесками и удивленно слушает, как мать с кем-то спорит у дверей. Тед, вцепившись в занавеску, смотрит на улицу, а там, пятясь задом, отходит от дома человек — отступает на три-четыре шага, обводит взглядом окна, заслонясь от света, и, увидев Теда, машет рукой. Машет взволнованно, неистово, будто хочет сообщить важную новость, подзывает к себе.
Тед падает на скамью. Картина исчезла. Образ человека, выходящего из их дома, растаял. Тед смотрит на серебристую ручку коляски, где играет солнечный блик, на траву, еще не просохшую от росы, на пруд у подножия холма — и прямо перед глазами возникает пятно. Боковым зрением он видит все прекрасно, а прямо перед собой не различает ничего, будто смотрит в дырявую лупу или сквозь разбитое ветровое стекло. В детстве он страдал зрительными расстройствами, не иначе как снова приступ. Мать называла их «бзики». Такого с ним не случалось уже много лет, и чувство из детства почти вызывает у него смех. Перед глазами словно полыхает костер, рассыпаются искры, левая рука немеет. Тед не помнит, когда это с ним было в последний раз — лет в двенадцать-тринадцать? Ничего серьезного, пройдет — подумаешь, на минуту в глазах помутилось. Но все-таки Тед крепко держится за ручку коляски, чтобы не потерять равновесие. Та к и тянет позвонить матери и сказать: «Угадай, что случилось? У меня опять „бзик“!» Когда-то «бзики» объединяли их с матерью, делали сообщниками. Мать следила за ним зорко, точно орлица, и стоило Теду моргнуть, подлетала: «Что? Что с тобой? Опять?» Она водила Теда к врачам, оптикам, консультантам. С упорством ищейки обходила специалистов. Осмотры, исследования, снимки — вместо уроков, — а потом они с матерью шли в кафе пить чай. И вместо математики, химии или истории Тед сидел в «Кларидже» или «Савое», уплетал бутерброды и пирожные с кремом, а мать подливала ему молока. Врачи уверяли: ребенок здоров, пустяки, перерастет. А мать писала в школу записки, и Теда освобождали от физкультуры, от регби, от плавания. Тед как-то раз описал свои чувства отцу: это все равно что видеть ангелов или смотреть на солнечные блики на воде. Отец заерзал на стуле и предложил партию в крикет. Он был не любитель пустой болтовни.
Как Тед и ожидал, сияние перед глазами мало-помалу рассеивается, искры плывут в стороны и исчезают. И Тед приходит в себя, сидит на скамейке, держась за ручку коляски. Малыш ворочается, из-под одеяла высовывается кулачок, упирается в Элинины рисунки. Тед, словно в ответ на безмолвную просьбу сына, встает и катит коляску вниз по склону, к дому.
Элина в саду. Полдень. Солнце в зените. Горшки с цветами, свернутый шланг, старое жестяное ведро — все вокруг отбрасывает тени, похожие на чернильные лужицы. Элина сидит по-турецки на коврике, а рядом на траве колышется ее собственная тень. Элина смотрит, как тень старается сохранить форму, сражаясь с мириадами травинок, растущих в разные стороны, под разными углами. Края у тени рваные, размытые, как будто смотришь на нее сквозь толщу воды.
Элина переводит взгляд на погремушку, которую держит в правой руке, — хитрое устройство из цветных палочек, бубенцов, резинок, шариков с бусинами. Погремушка застыла в воздухе над малышом. Он лежит на спине, взгляд прикован к Элине, в глазах столь неприкрытое изумление, что Элина вздрагивает.
Элина ведет погремушку из стороны в сторону, в прозрачных шариках скачут цветные бусины. Малыш отзывается мгновенно: замирает, широко раскрыв глаза, округлив губки. Можно подумать, он изучал справочник «Как быть человеком» и проштудировал главу «Как выражать удивление». Элина трясет погремушку, ручки-ножки малыша ходят как поршни, вверх-вниз, вправо-влево. «Так делают все мамы», — отмечает про себя Элина.
В доме что-то звякает. Элина оборачивается и видит в окне кухни, точно в рамке картины, как Тед снимает с плиты кастрюлю. Тед всю неделю дома, вспоминает Элина, взял отпуск.
Элина вновь смотрит на малыша, ерошит волосы на его висках — надо же, были темные, а сейчас светлеют! — гладит щечку, кладет руку ему на грудь, чувствует, как та вздымается и опускается.
Белка, взмахнув хвостом в серых пестринках, прыгает с цветочного горшка на стену студии, карабкается вверх по доскам, перескакивает на крышу и исчезает. В горшке подрагивают потревоженные цветы белокрыльника.
Наверное, Элина слишком резко выпрямилась — краски сада, вышитые бабочки, комбинезон малыша на миг вспыхивают ярче перед глазами. Из дома выходит Тед, и в слепящем солнечном свете его силуэт мерцает и двоится, будто кто-то маячит за его спиной. Тед шагает по траве, и двойник следом.
— Вот, — говорит Тед, — угощайся. Паста-аль-лимоне, со свежим… — Взгляд его падает на лицо Элины. — Что с тобой?
— Ничего. — Элина растягивает губы в улыбку. Теда нельзя расстраивать. — Схожу-ка за темными очками.
После залитого светом сада дом кажется темным, сумрачным, почти чужим. Элина озирается: ваза, оранжевая миска, джутовая циновка — это ее вещи, но как будто и не ее; она проходит на цыпочках через кухню, поднимается по лестнице. На лестничной площадке думает: я в доме одна. И на миг замирает, положив руку на перила. Она чувствует себя легкой, бестелесной; руки свободны, их обдувает сквознячком.
Она пыталась поговорить с Тедом, думала, станет легче. На этой неделе он дома, и на будущей тоже. Они вместе, круглые сутки, — Тед, она и малыш. Элина часами сидит на диване и кормит ребенка. Тед стряпает, загружает стиральную машину, гуляет с коляской, чтобы Элина могла вздремнуть. Спит она урывками, где придется — на диване, в кресле, на кровати, — и сны видит путаные, сумбурные, во сне она потеряла малыша или не может до него дотянуться, а иногда видит во сне фонтаны. Ярко-красные фонтаны. И вскакивает с бьющимся сердцем.
Итак, фильм уже отсняли, Тед был дома, и Элина пыталась вызвать его на разговор. Накануне вечером, когда они ели на ужин еду из ресторана. Тед держал на руках ребенка, тот схватил Теда за палец, а Элина сидела рядом, и ей нравилось, что Тед не отнимает руки. Она отложила вилку, коснулась его руки и спросила:
— Тед, ты не знаешь, сколько я потеряла?
— Сколько чего? — переспросил Тед, уставясь в тарелку.
— Ну… — Элина, помолчав, пояснила: — Крови.
Тед поднял голову. Элина ждала, но он молчал.
— При родах, — подсказала Элина. — Во время кесарева. Тебе сказали врачи, потому что…
— Два литра, — ответил Тед сухо.
Наступило молчание. Элина представила эти два литра рядком в молочных бутылках, рубиново-алую жидкость под прозрачным зеленоватым стеклом. На полке холодильника, на крыльце дома, в витрине магазина. Два литра. Элина, едва притронувшись к еде, украдкой взглянула на Теда. Он сидел потупившись и смотрел то ли на ребенка, то ли в тарелку — не разобрать, потому что волосы закрыли лицо.
— Мне тебя не было видно, — снова начала Элина. — Ты, наверное, был с малышом.
Тед что-то буркнул в знак согласия.
Элина взяла со стола коробочку, выстланную серебристой фольгой, и, увидев в ней мелко нарубленный лук, отставила в сторону.
— Тебе было хоть что-нибудь видно? — Элине хотелось знать, хотелось услышать это от него, вытянуть из него правду и вместе разобраться, растопить лед между ними. Тед все молчал, и Элина продолжала: — Тед, ты хоть что-нибудь видел?
Тед отложил вилку.
— Не хочу об этом говорить.
— Ну а я хочу, — настаивала Элина.
— Ну а я — нет.
— Но ведь это важно, Тед. Нельзя отмахиваться, будто ничего и не было. Я хочу разобраться — разве я не права? Я хочу знать причину и…
Тед отодвинул стул и вышел из-за стола. На пороге кухни он оглянулся, держа на руках малыша, такого крохотного. Лицо у него было потрясенное, неузнаваемое, и у Элины сжалось сердце от страха за него, за ребенка. Хотелось сказать: ладно, забудь, не будем больше об этом, просто сядь, посидим. А больше всего хотелось сказать: Тед, дай мне ребенка.
— Они не знают причину. — Тед почти срывался на крик. — Я… я… я их спрашивал на другой день, а они: неизвестно почему, чистая случайность.
— Ладно, — пыталась успокоить его Элина, — это не…
— А я им: замолчите, не смейте так говорить! Она чуть не умерла, а вы только и можете сказать: чистая случайность! Вы только через три дня поняли, что ребенок в неправильном положении, и дали тупой практикантке ее разрезать, и…
Тед осекся. Элина на минуту испугалась, что он вот-вот расплачется. Но он не заплакал, а отдал ребенка сидевшей за столом Элине и, даже не взглянув на нее, вышел из кухни, послышались его шаги на лестнице. Элина напряженно застыла на стуле. Застучали ящики комода, захлопали дверцы — Тед собирался на пробежку. Потом хлопнула дверь.
Элина находит на полочке в ванной солнечные очки, протягивает руку, и вдруг ноги сами несут ее к двери и вниз по лестнице. И лишь спустя пару секунд она догадывается почему. Это плачет малыш — тоненький, дрожащий писк просочился сквозь окно ванной. Просто удивительно: тело отозвалось раньше, чем она поняла умом.
В саду на коврике сидит Тед, бережно держа на руках малыша. Малыш похож на сердитого игрушечного робота — кричит, срываясь на визг, ручки-ножки, словно рычаги, рассекают воздух.
Элина ступает по траве, наклоняется к малышу — и вот он уже у нее на руках. Крохотное тельце напряжено, он буквально надрывается от крика. «Как ты могла? — будто говорит он. — Как ты посмела меня бросить?» Элина, держа малыша столбиком, прижимает его к плечу и ходит с ним взад-вперед, до ограды сада и обратно, нашептывая: «Ш-ш, ш-ш, все хорошо, ш-ш, ш-ш…»
— Прости. — Тед встает. — Я не знал, что де… Я не знал, то ли он есть хочет, то ли…
— Ничего. — По пути к ограде Элина проходит мимо Теда и замечает его тревожный взгляд, прикованный к ней.
— Хочешь, я возьму его? — спрашивает Тед.
Малыш уже не кричит, а всхлипывает. Элина приподнимает его повыше.
— Не надо, — отвечает она. — Все хорошо.
— Он хочет есть?
— Вряд ли. Я его кормила совсем недавно… дайка вспомню… всего полчаса назад.
Они снова устраиваются на коврике, и взгляд Элины падает на миску макарон. Она совсем про них забыла. Элина, придерживая ребенка, надевает темные очки и свободной рукой берет вилку. Малыш цепляется за воротник ее блузки, тычется слюнявым ротиком ей в шею, горячо дышит в ухо.
— Просто удивительно, как тебе удается, — говорит Тед.
— Что удается?
— Вот это. — Он указывает вилкой в сторону малыша.
— Что — вот это?
— Он плачет, надрывается, а ты приходишь, берешь его на руки, и он затихает. Просто чудо. Волшебство. Только у тебя одной так получается. Я так не могу.
— Разве?
— Нет. У меня он так не успокаивается, это…
— Неправда. Я точно знаю, ты можешь…
— Нет, нет, — мотает головой Тед. — Между вами особая связь. У него внутри будто встроенный таймер, подсчитывает, сколько он пробыл без тебя, и может сработать без предупреждения, и тогда его больше ничем не утешишь. — Тед пожимает плечами. — На этой неделе я стал замечать.