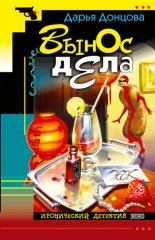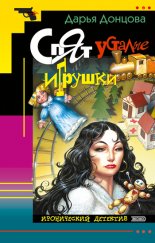Пелагия и белый бульдог Акунин Борис

Петр Георгиевич взял сестру за руки:
— Наина, Наина, опомнись! Ты не в себе, я позову доктора.
В следующий миг от яростного толчка он чуть не полетел кубарем, и гнев разъяренной фурии обрушился на родственника:
— Петенька, братец ненаглядный! Ваше сиятельство! Что сморщился? Ах, ты не любишь, когда тебя «сиятельством» зовут! Ты ведь у нас демократ, ты выше титулов. Это оттого, Петушок, что ты фамилии своей стесняешься. «Князь Телианов» звучит как-то сомнительно. Что за князья такие, про которых никто не слыхивал? Если б был Оболенский или Волконский, то и «сиятельством» бы не побрезговал. Ты женись, женись на Танюшке. Будет княгиня тебе под стать. Только что ты с ней делать-то будешь, а, Петя? Книжки умные читать? Женщине этого мало, вовсе даже недостаточно. На другое-то ты не способен. Тридцать лет, а всё отроком. Сбежит она от тебя к какому-нибудь молодцу.
— Черт знает что такое! — возмутился предводитель. — Такие непристойности при владыке, при всех нас! Да у нее истерика, самая натуральная истерика.
Степан Трофимович потянул нарушительницу приличий к дверям:
— Идем, Наина. Нам нужно с тобой поговорить.
Она зло расхохоталась:
— Ну как же, непременно поговорить и слезами чистыми омыться. Как вы мне надоели со своими душевными разговорами! Бу-бу-бу, сю-сю-сю, — передразнила она, — долг перед человечеством, слияние душ, через сто лет мир превратится в сад. Нет чтобы девушку просто обнять и поцеловать. Идиот! Сидел по-над просом, да остался с носом.
Хотел было что-то сказать и Сытников, уж и рот раскрыл, но после расправы, учиненной над предшественниками, почел за благо промолчать. Только всё равно перепало и ему:
— Что это вы, Донат Абрамович, сычом на меня смотрите? Не одобряете? Или собачек пожалели? А правду говорят, что вы жену вашу семипудовую отравили поганым грибом? Для новой супруги вакансию освобождали? Уж не для меня ли? Я, правда, тогда еще в коротких юбчонках бегала, но вы ведь человек обстоятельный, далеко вперед смотрите!
Она захлебнулась коротким, сдавленным рыданием и бросилась к двери. Все испуганно расступились, давая ей дорогу. На пороге Наина Георгиевна остановилась, окинула взглядом залу, на миг задержалась взглядом на Бубенцове (тот стоял с веселой улыбкой, явно наслаждаясь скандалом) и объявила:
— Съезжаю. В городе буду жить. Думайте обо мне что хотите, мне дела нет. А вас всех, включая пронырливую монашку и самого благочестнейшего Митрофания, предаю ана-феме-е-е-е.
Выкинув напоследок эту скверную шутку, она выбежала вон и еще громко хлопнула дверью на прощание.
— В старину сказали бы: в юницу вселился бес, — грустно заключил Митрофаний.
Обиженный Сытников пробурчал:
— У нас, в купечестве, посекли бы розгами, бес в два счета бы и выселился.
— Ой, как бабушке-то сказать? — схватился за голову Петр Георгиевич.
Бубенцов встрепенулся:
— Нельзя тетеньке! Это ее погубит. После, не сейчас. Пусть немного оправится.
Предводителя же заботило другое:
— Но что за странная ненависть к собакам? Вероятно, и в самом деле род помешательства. Есть такая психическая болезнь — кинофобия?
— Не помешательство это. — Пелагия разглядывала платок — перестала ли кровоточить оцарапанная щека. Хорошо хоть очки не разбились. — Тут какая-то тайна. Нужно разобраться.
— И есть за что ухватиться? — спросил владыка.
— Поискать, так и сыщется. Мне вот что покою не дает…
Но договорить монахине не дал Ширяев.
— Что ж это я, совсем одеревенел! — Он затряс головой, словно прогоняя наваждение. — Остановить ее! Она руки на себя наложит! Это горячка!
Он выбежал в коридор. Следом бросился Петр Георгиевич. Аркадий Сергеевич немного помялся и, пожав плечами, пошел за ними.
— Истинно собачья свадьба, — констатировал Сытников.
Луна хоть и пошла на убыль, но все еще была приятно округла и сияла не хуже хрустальной люстры, да и звезды малыми лампиончиками как могли подсвечивали синий потолок неба, так что ночь получилась ненамного темнее дня.
Владыка и Пелагия небыстро шли по главной аллее парка, сзади, сонно перебирая копытами и позвякивая сбруей, плелись лошади, тянули за собой почти сливавшуюся с деревьями и кустами карету.
— …Ишь, ворон, — говорил Митрофаний. — Видела, как он за Коршем-то посылал? Теперь уж не отступится, свое урвет. Девица эта дерганая задачу ему облегчила — одной наследницей меньше. Я тебя, Пелагия, вот о чем прошу. Подготовь Марью Афанасьевну так, чтобы ее снова не подкосило. Легко ли такое про собственную внучку узнать. И поживи здесь еще некое время, побудь при тетеньке.
— Не подкосит. Сдается мне, отче, что Марья Афанасьевна людьми куда меньше, чем собаками, увлечена. Я, конечно, с ней посижу и чем смогу утешу, но для дела лучше бы мне в город перебраться.
— Для какого еще дела? — удивился преосвященный. — Дело окончилось. Да и разобраться ты хотела, зачем Наина эта псов истребила.
— Это меня и занимает. Тут, владыко, есть что-то необычное, от чего мороз по коже. Вы давеча прозорливо сказали про вселившегося беса.
— Суеверие это, — еще больше удивился Митрофаний. — Неужто ты в сатанинскую одержимость веришь? Я ведь иносказательно, для словесной фигуры. Нет никакого беса, а есть зло, бесформенное и вездесущее, оно и искушает души.
Пелагия блеснула на епископа очками снизу вверх.
— Как это беса нет? А кто сегодня весь вечер на людскую мерзость зубы скалил?
— Ты про Бубенцова?
— А про кого же? Он самый бес и есть, во всем положенном снаряжении. Злобен, ядовит и прельстителен. Уверена я, в нем тут всё дело. Вы видели, отче, какие взгляды Наина Георгиевна на него бросала? Будто похвалы от него ждала. Это ведь она перед ним спектакль затеяла с криком и скрежетом зубовным. Мы, остальные, для нее — пустота, задник театральный.
Архиерей молчал, потому что никаких таких особенных взглядов не заметил, однако наблюдательности Пелагии доверял больше, чем своей.
Вышли из парковых ворот на пустое место. Аллея перешла в дорогу, протянувшуюся через поле к Астраханскому шляху. Владыка остановился, чтобы подъехала карета.
— А зачем тебе в город? Ведь Наина там не задержится, уедет. Как распространится известие про ее художества, никто с ней знаться не захочет. И жить ей там негде. Непременно уедет — в Москву, в Петербург, а то и вовсе за границу.
— Ни за что. Где Бубенцов, там и она будет, — уверенно заявила монахиня. — И я должна тоже быть неподалеку. Что до людского осуждения, то Наине Георгиевне в ее нынешнем ожесточении это только в сладость. И жить ей есть где. Я слышала от горничной, что у Наины Георгиевны в Заволжске собственный дом имеется, в наследство достался от какой-то родственницы. Небольшой, но на красивом месте и с садом.
— Так ты полагаешь, здесь Бубенцов замешан? — Владыка поставил ногу на ступеньку, но в карету садиться не спешил. — Это бы очень кстати пришлось. Если б уличить его в какой-нибудь очевидной пакости, ему бы в Синоде меньше веры стало. А то боюсь, не сладить мне с его ретивостью. По всем вероятиям, худшие испытания еще впереди. Ты вот что, завтра же возвращайся на подворье. Будем с тобой думу думать, как нашему горю помочь. Видно, и без госпожи Лисицыной не обойдемся.
Эти загадочные слова подействовали на монахиню странно: она вроде и обрадовалась, и испугалась.
— Грех ведь, владыко. И зарекались мы…
— Ничего, дело важное, много важнее предыдущих, — вздохнул архиерей, усаживаясь на сиденье напротив отца иподиакона. — Мое решение, моя и ответственность перед Богом и людьми. Ну, благословляю тебя, дочь моя. Прощай.
И карета, разгоняясь, почти бесшумно помчала по мягкой от пыли дороге, а сестра Пелагия повернула обратно в парк.
Шла по светлой аллее, и сверху тоже было светло, но деревья по сторонам смыкались двумя темными стенами, и выглядело так, будто монахиня движется по дну диковинного светоносного ущелья.
Впереди, прямо посреди дорожки, белел какой-то квадрат, а посреди него еще и чернел малый прямоугольник. Когда шли здесь с владыкой пять или десять минут назад, ничего подобного на аллее не было.
Пелагия ускорила шаг, чтобы поближе разглядеть любопытное явление. Подошла, села на корточки.
Странно: большой белый платок, на нем книжка в черном кожаном переплете. Взяла в руки — молитвенник. Самый обыкновенный, какие везде есть. Что за чудеса!
Пелагия хотела посмотреть, нет ли там чего между страниц, но тут сзади раздался шорох. Обернуться она не успела — кто-то натянул ей на голову мешок, обдирая щеки. Еще ничего не успев понять, от одной только неожиданности монахиня вскрикнула, но поперхнулась и засипела — поверх мешка затянулась веревочная петля. Здесь-то и подкатил звериный, темный ужас. Пелагия забилась, зашарила пальцами по мешковине, по грубой веревке. Но сильные руки обхватили ее и не давали ни вырваться, ни ослабить удавку. Кто-то сзади шумно и прерывисто дышал в правое ухо, а вот сама она ни вдохнуть, ни выдохнуть не могла.
Она попробовала ударить кулачком назад, но бить было неудобно — не размахнешься. Лягнула ногой, попала по чему-то, да вряд ли чувствительно — ряса смягчила.
Чувствуя, как нарастает гул в ушах и все больше тянет в утешительный черный омут, монахиня рванула из поясной сумки вязанье, ухватила спицы покрепче и всадила их в мягкое — раз, потом еще раз.
— У-у-у!
Утробный рык, и хватка ослабла. Пелагия снова махнула спицами, но на сей раз уже в пустоту.
Никто больше ее не держал, локтем под горло не охватывал. Она рухнула на колени, рванула проклятую удавку, стянула с головы мешок и принялась хрипло хватать ртом воздух, бормоча:
— Мать… Пре…святая… Богоро…дица… защити… от враг видимых… и невидимых…
Как только самую малость посветлело в глазах, заозиралась во все стороны.
Никого. Но концы спиц были темны от крови.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
И БЛЮДИТЕСЯ ЗЛЫХ ДЕЛАТЕЛЕЙ
VI
СУАРЕ
А теперь мы пропустим месяц с лишком и перейдем сразу к развязке нашей путаной истории, вернее, к началу этой развязки, пришедшемуся на званый вечер для избранных гостей, что состоялся в доме Олимпиады Савельевны Шестаго. Сама почтмейстерша этот праздник во славу современного искусства предпочла назвать звучным словом soiree, пусть уж он так и остается, тем более что «суаре» этот в Заволжске забудут не скоро.
Что до пропущенного нашим повествованием месяца, то нельзя сказать, чтобы на его протяжении совсем ничего не происходило — напротив, происходило, и очень многое, однако прямой связи с главной нашей линией все эти события не имели, поэтому пройдемся по ним кратко, как говорили древние, «легкой стопой».
Скромное имя нашей губернии прогремело на всю Россию и даже за ее пределами. О нас чуть не каждый день принялись писать столичные газеты, разделившиеся на два лагеря, причем сторонники первого утверждали, что Заволжский край — поле новой Куликовой брани, где идет святой бой за Русь, веру и Христову церковь, а их оппоненты, напротив, обзывали происходящее средневековым мракобесием и новой инквизицией. Даже в лондонской «Таймс», правда, не на первой и не на второй странице, написали, что в Российской империи, в некоем медвежьем углу под названием Zavolger (sic!) вскрыты случаи человеческих жертвоприношений, по каковому поводу из Петербурга прислан царский комиссар и вся область отдана ему в чрезвычайное управление.
Ну, про чрезвычайное управление — это англичане наврали, однако дела и в самом деле пошли такие, что голова кругом. Владимир Львович Бубенцов, получив полнейшую поддержку из высоких сфер, развернул следствие по делу о головах (а точнее, об их отсутствии) с поистине наполеоновским размахом. Была создана Чрезвычайная комиссия по делу о человеческих жертвоприношениях, которую возглавил сам Бубенцов, а членами этого особенного органа стали присланные из Петербурга дознатели и еще несколько следователей и полицейских чиновников из местных — причем каждого Владимир Львович отобрал самолично. Ни губернатору, ни окружному прокурору комиссия не подчинялась и перед ними в своей деятельности не отчитывалась.
Трупов, к счастью, больше не находили, но полиция произвела несколько арестов среди зытяков, и кто-то из задержанных вроде бы признался: за глухими Волочайскими болотами, в черных лесах есть некая поляна, на которой в ночь на пятницу Шишиге жгут костры и приносят мешки с дарами, а что в тех мешках, ведомо только старейшинам.
Бравый Владимир Львович снарядил экспедицию, сам ее и возглавил. Рыскал среди болот и чащоб не один день и нашел-таки какую-то подозрительную поляну, хоть и без каменного истукана, но с черными следами от костров и звериными костями. В соседней зытяцкой деревне арестовал старосту и еще одного старичка, про которого имелись сведения, что он шаман. Посадили задержанных в телегу, повезли через гать, а на острове посреди болота на конвой напали зытяцкие мужики с дубинами и ножами — захотели отбить своих старцев. Полицейские стражники (их при Бубенцове состояло двое) пустились наутек, Спасенный с перепугу прыгнул в трясину и едва не утоп, но сам инспектор оказался не робкого десятка: застрелил одного из нападавших насмерть, еще двоих зарубил своим страшным кинжалом Черкес, а прочие бунтовщики разбежались.
После Владимир Львович вернулся в деревню с воинской командой, но дома стояли пустые — зытяки снялись с места и ушли дальше в лес. Бубенцовское геройство попало во все газеты, вплоть до иллюстрированных, где его прорисовали статным молодцом с усами вразлет и орлиным носом, от государя храбрецу вышла «Анна», от Константина Петровича — похвала, которой знающие люди придавали побольше веса, чем царскому ордену.
В губернии же все будто ополоумели. За лесными зытяками этаких дерзостей отродясь не водилось. Они и в пугачевскую-то годину не бунтовали, а у Михельсона проводниками служили, что же их теперь-то разобрало?
Кто говорил, что это Бубенцов их довел, бесчестно заковав и бросив в грязную телегу почтенных старейшин, но многие, очень многие рассудили иначе: прав оказался прозорливый инспектор, в тихом омуте, выходит, завелись нешуточные черти.
Тревожно стало в Заволжье. Поодиночке никто по лесным дорогам теперь не ездил, только артелью — и это в нашей-то тихой губернии, где про такие предосторожности за последние годы и думать позабыли!
Владимир Львович разъезжал при вооруженной охране, самочинно наведывался в уезды, требовал к ответу и городничих, и воинских начальников, и исправников, и все ему подчинялись.
Вот какое у нас образовалось двоевластие. А что удивляться? Владыка всем этим языческим бесчинием в глазах церковного начальства был скомпрометирован, и многие из благочинных, кто держал нос по ветру, повадились ездить с поклоном уж не на архиерейское подворье, а в гостиницу «Великокняжескую», к Бубенцову. И административная власть тоже утратила былую незыблемость. Полицмейстер Лагранж, например, не то чтобы совсем вышел у губернатора из повиновения, но всякий полученный от Антона Антоновича приказ, вплоть до самых мелких вроде введения номеров для извозчичьих пролеток, бегал удостоверивать у синодального инспектора. Феликс Станиславович всем говорил, что барон досиживает на губернаторстве последние дни, а среди друзей и подчиненных даже высказывал предположение, что следующим заволжским губернатором будет назначен не кто-нибудь, а именно он, полковник Лагранж.
За этот минувший месяц всё здание нашего губернского жизнеустройства покосилось, хотя выстроено было вроде бы крепко, с умом, ибо возводили его не от крыши, как в прочих российских областях, а от фундамента. Впрочем, аллегория эта чересчур мудрена и требует разъяснений.
Каких-нибудь двадцать лет назад была у нас губерния как губерния: нищета, пьянство, невежество, произвол властей, на дорогах разбой. Одним словом, обычная российская жизнь, во всех частях нашей необъятной империи более или менее сходная. В Заволжье, пожалуй, было еще поглаже и поспокойнее, чем в иных краях, где людей в соблазн вводят шальные деньги. У нас всё обстояло степенно, патриархально, по раз и навсегда заведенному уставу.
Скажем, хочет купец товар по реке сплавить или через лес везти. Первым делом идет к нужному человеку (уж известно к какому, и в каждом уезде, в каждой волости свой), поклонится ему десятой частью, и езжай себе спокойно, не тронет никто и не обеспокоит — ни лихие люди, ни полиция, ни акцизные. А не поклонился, понадеялся на справную охрану или русский авось — пеняй на себя. Может, проедешь через лес, а может, и нет. И на Реке тоже всякое может приключиться, особенно по ночному времени, да еще на стремнине.
Хочет кто в городе лавку или кабак открыть — то же самое. Поговори с нужным человеком, окажи ему уважение, десятину посули, и давай тебе Бог всякого преуспеяния. И врач санитарный не пристанет, что на прилавке мухи, а в подвале крысы, и податной инспектор малой мздой удовольствуется.
Все знают про нужного человека — и исправник, и прокурор, и пристав, но никто ему не препятствует свои дела вести, потому что со всеми нужный человек дружит, а то и в родстве-кумовстве состоит.
Бывало, назначали из столицы честных начальников, да еще не просто честного пришлют, а решительного и делового, твердо намеренного всех на чистую воду вывести и немедленное царство справедливости и порядка утвердить, но и таким орлам Заволжье быстро крылья укорачивало. Получалось — добром, через подарки или иные какие любезности, а если уж совсем неподкупный, то наветом, оговором, благо в свидетелях недостатка не было, нужному человеку только свистнуть — кого хочешь оговорят.
А лет тридцать тому объявился у нас в городе полицмейстер, еще до покойного Гулько. Страх до чего непреклонный был. Всю полицию перешерстил: кого повыгонял, кого под суд отдал, прочих в трепет привел. От этого волнение произошло, нарушение давних, надежно отлаженных отношений меж серьезными людьми. Долго ли, коротко ли, но стал сей Робеспьер до нужных людей добираться, вот какой отчаянный. Тут его бесчинства и закончились. Пошел на утиную охоту с собственными сослуживцами, а лодка возьми и перевернись. Все выплыли, одному лишь начальнику не повезло. Всего полгода у нас и покуролесил. И это полицейский начальник, большой человек! А с исправником каким-нибудь немудрящим или следователем, если строптив окажется, и много проще поступали: ночью стукнут дубиной по макушке или стрельнут из кустов, и дело с концом. Спишут на разбойников, которые в наших лесах водились в изобилии. Полиция немножко для виду поищет и закроет дело за невозможностью раскрытия. Ах, да что про это рассказывать, только попусту время тратить. В каждой губернии подобных историй пруд пруди.
И вот назначают к нам из Петербурга архиереем Митрофания, во второй и окончательный раз. Без малого двадцать лет с тех пор миновало. Он уж местные порядки и обычаи знал и потому напролом не полез, начал со своего тихого ведомства: попов приструнил, чтоб не лихоимствовали, в монастырях строгости установил. Из благочинных некоторых сместил, иных усовестил, а еще навез с собой из столицы белого и черного духовенства из числа молодых академиков.
Стало в церквах и приходах не то что прежде. Священники и причетники трезвые, служат чинно, проповедуют нравственно и понятно, подношений сверх положенного не принимают. Не сразу, конечно, так установилось, года через два-три. И никого поначалу не растревожило это невиданное новшество, ни нужных людей, ни вороватых начальников. Расхотели попы сладко есть и мягко спать — их дело. А что стали с амвонов много о честности и добротолюбии рассуждать, так им и положено. И вообще кто их, долгогривых, всерьез слушать будет. Но между тем авторитет духовных лиц стал постепенным и незаметным образом укрепляться, и в церквах сделалось не в пример люднее, чем прежде.
А тут, по еще не истершимся столичным связям Митрофания, отправили в отставку старого губернатора, с которым у владыки были нешуточные контры. Прислали нового, Антона Антоновича фон Гаггенау, ему тогда едва тридцать сравнялось. Был он весь налитой, кипучий, европейский и до справедливости просто лютый.
Побился барон с местными нравами, пободался, рога себе о сию каменную стену пообломал и стал от отчаяния впадать в административную суровость, отчего, как известно, все беды только усугубляются. Да слава Богу, оказался неглупый человек, хоть и немец — хватило ума за советом и наставлением к владыке прийти. Что, мол, за чудо такое? Как это Митрофаний в своем духовном ведомстве управляется, что у него всё чинно и пристойно, не то что у других губернских архиереев?
Владыко ответствовал, что это очень просто: надо помене управлять, и тогда дело будет управляться само собой. Лишь бы заложить крепкую основу, а остальное само приложится.
Как же приложится, откуда, горячо возражал молодой Антон Антонович, если народишко такой подлец и сволочь.
Люди бывают разные, есть и хорошие, и плохие, поучал преосвященный, но по большей части они никакие, навроде лягушек, принимающих температуру окружающей среды. Тепло — теплые, холодно — холодные. Надобно сделать так, чтобы у нас в губернии климат потеплел, тогда и люди потеплее, получше станут. Вот в чем единственно долг власти — правильный климат создавать, а об остальном Господь позаботится, и сами люди не оплошают.
— Да как его утепляют, этот климат ваш? — силился уразуметь губернатор.
— Нужно в человеках взращивать и лелеять достоинство. Чтоб люди себя и других уважали. Человек, который понимает достоинство, не станет воровать, подличать, обманом жить — зазорно ему покажется.
Здесь барон в архиерее было разочаровался и даже рукой махнул:
— Э, да вы, владыко, идеалист. У нас ведь Россия, а не Швейцария. Давно ли крестьян по головам продавали, как скотину? Откуда ж здесь достоинство возьмется? На произрастание сего нежного растения идут века.
Митрофаний, который в ту пору моложе был и оттого имел слабость к словесной эффектности, ответил коротко и назидательно, на античный манер:
— Законность, сытость, просвещение. И более ничего-с (он в ту пору еще и словоерсы, бывало, употреблял для благозвучия).
— Ах, ваше преосвященство, мало ли я бьюсь за поддержание законности, а что толку! Никто не хочет жить по закону — ни нижние, ни верхние.
— И не будут хотеть. Люди исполняют только те законы, которые разумны и выгодны большинству. Мудрый законодатель подобен опытному садовнику в публичном парке. Тот, засеяв газоны, не сразу дорожки прокладывает, а прежде посмотрит, каким путем людям удобнее ходить — там и мостит. Чтобы не протаптывали собственных тропинок.
— Так то мудрые, — понизив голос, произнес Антон Антонович крамольное. — А у нас в России всякие законы бывают. Не мы с вами их выдумываем, на то высшие инстанции есть. Но следить за исполнением сих законов предписывается мне.
Епископ улыбнулся:
— Существует закон божеский и закон человеческий. И соблюдать надо только те человеческие законы, которые божеским не противоречат.
Губернатор только пожал плечами:
— Этого я, увольте, не пойму. Я, знаете ли, немец. Для меня закон есть закон.
— На то я к вам и приставлен, — ласково молвил непонятливому Митрофаний. — Вы, сударь, у меня спросите, какой закон от Бога, а какой от лукавого. Я разъясню.
И разъяснил, однако сие разъяснение заняло не час и не два, а много больше, и со временем долгие беседы с преосвященным вошли у молодого правителя в обыкновение…
БЕСЕДЫ ПРЕОСВЯЩЕННОГО МИТРОФАНИЯ
Вставная главка
Тем, кто внимает нашему рассказу единственно из желания узнать, чем он завершится, и кому история нашего края безынтересна, эту главку позволительно вовсе пропустить. Никакого ущерба для стройности повествования от этого не произойдет. Здесь же приведены, да и то в отрывках, некоторые из высокоумных диалогов меж владыкой и губернатором (а именно три, хотя их было много больше), ибо беседы эти имели для Заволжья самые решительные последствия. Заодно уж при помощи ремарок, следующих за каждой из бесед, вкратце присовокупим, какие из этих прекраснодушных поучений претворились в действительность, а какие нет.
— Согласны ли вы, сын мой, что никакой, даже самый благонамеренный управитель не сможет воплотить свои полезные замыслы, не имея исправного рабочего инструмента в лице способных и честных помощников, того самого инструмента, который на вашем бюрократическом наречии именуется «аппаратом»?
— Совершенно согласен.
— И что же делать, если «аппарат» этот погряз в низменном сребролюбии?
— Не знаю, отче, оттого и пришел к вам. А главное, все чиновники таковы и других взять негде.
— Почему же негде? Частью можно из столиц привлечь прекрасномыслящих мужей, и поедут, потому что им хочется свои знания и убеждения на деле применить. Частью же и у нас честные чиновники найдутся, просто им сейчас ходу нет.
— Как же я их распознаю, честных этих, если они не на виду?
— Я здесь не первый год, знаю, кто чего стоит, и назову. Но сие лишь четверть дела, потому что любой человек от власти портится, если установлены неправильные заведения. И чиновники в большинстве своем начинают лихоимствовать не из-за порочности своей натуры, а потому, что так уж заведено, и кто не лихоимствует, на того косо смотрят и начальники, и подчиненные.
— Но как установить правильные заведения, чтобы лихоимство из моды вышло?
— Известна ли вам, сын мой, пословица, гласящая, что рыба гниет с головы? Это воистину так, и медицина также утверждает, что все болезни начинаются в голове. Добавлю к сему и обратное: у болящего выздоровление тоже начинается от головы. Прежде чем человек на поправку пойдет, он должен захотеть выздороветь и поверить в собственное выздоровление.
— Но с чего начать? Тут ведь главное — верный почин!
— Подберите себе в ближние помощники людей честных и дельных: вице-губернатора, управителя государственным имуществом, начальников акцизного и губернского управлений, окружного суда, а также руководителей контрольной и казенной палат. Ну и, конечно, полицейскую верхушку, это беспременно. Для начала и довольно будет. Где людей взять — про то мы уже толковали, десяток-то годных по губернии и России наберется. И перво-наперво Уговор меж собой заключить: не для того мы за гуж беремся, чтобы обогатиться, а для того, чтобы дело сделать. А кто слабину в себе почувствует — сам уходи или не обижайся, если тебя попросят уйти. Пусть каждый из ваших ближних помощников свое имущество публично заявит и впредь все свои доходы и расходы ни от кого не таит. Я, Антон Антонович, вообще той надежды придерживаюсь, что спасение России не из столиц, а из провинции придет. Это и из здравого смысла следует. Легче навести порядок в одной комнате, нежели во всем доме, в одном доме, нежели на всей улице, на одной улице, нежели во всем городе, и в одном городе, нежели во всей стране.
— Ну хорошо, допустим, голова будет честная, а ниже-то, ниже? Я в кругу товарищей буду о прекрасном витийствовать, и станем мы друг на друга любоваться, какие мы гордые да неподкупные, а мздоимцы по всей губернии как бесчинствовали, так и продолжат бесчинствовать. Всех за руку не поймаешь и под суд не отдашь.
— Не ловить воров надо, а надо сделать так, чтобы воры не заводились.
— Легко сказать!
— И сделать не так трудно. Пусть ваши ближайшие помощники, каждый из которых за важную область деятельности отвечает, себе по той же методе заместителей подберут — кто согласен на Уговор. Тут можно и нынешних некоторых на должности оставить, даже которые и мздоимствовали, но не по алчности или зломыслию, а потому, что издавна так заведено. Ну а самых лютых лихоимцев и безобразников — а их и я знаю, да и вы уже знаете, тех, конечно, следует под суд отдать и судить по всей строгости, это уж беспременно.
— Хорошо, предположим, мои помощники не воруют, их заместители тоже, ну а дальше?
— И дальше так. Это, Антон Антонович, называется психология. Сидит начальник на жалованье, мзды не берет, потому что боится или совестится. А подчиненный его разъезжает в карете четверкой и жена у него наряды из Парижа выписывает. Стерпит такое нормальный человек? Ни за что. И супруга ему не позволит, потому что у нее-то нарядов из Парижа нет, а у супруги нижестоящего Ивана Ивановича есть. И прижмет начальник Ивана Ивановича, скажет ему: ты, брат, или живи, как я, или вон со службы. Иван Иванович, если уж он на службе после сего остался, станет волком смотреть на сидящего под ним мздоимца Петра Петровича, хотя прежде ему потакал и покровительствовал. Чем это Петр Петрович его лучше? Так и пойдет сверху до самого низа по всей пирамиде. Сами удивитесь, как скоро у нас чиновничество построжеет и праведность полюбит…
Ремарка. Так, конечно, не вышло, хоть Антон Антонович на возведение сей идеальной пирамиды потратил много времени и сил. Что ж, живые люди. Хоть Христос и повелел любить всех одинаково, но это по силам только святым отшельникам, которые за нас молятся, а у обычных смертных есть и друзья, и родственники, и опять же долг платежом красен. Справедливого и беспристрастного чиновничества никогда и нигде не бывало, не привилось оно и в Заволжье. И «своему человечку» у нас радеют, и неприятелей при случае притесняют, и рука руку моет.
Но в то же время нельзя сказать, чтобы теория преосвященного вовсе провалилась. «Барашек в бумажке», в России повсеместно распространенный и даже освященный национальной традицией, у нас совершенно вышел из употребления, впрочем, отчасти замененный пресловутыми «борзыми щенками», которые менее уловимы и все же, согласимся, являются несомненным прогрессом по сравнению с прямым взяточничеством. Прямое же взяточничество, а того паче вымогательство стали со временем почитаться среди заволжского чиновничества делом постыдным, то есть «неправильные заведения», о которых толковал владыка, все-таки переменились. Так что хоть царства справедливости не образовалось и полного равенства всех перед властью тоже не произошло, но явные, бесстыдные злоупотребления если и не исчезли вовсе, то сильно поубавились. И полиция у нас вплоть до самого последнего времени слыла честной, и суды, и даже акцизное ведомство, чего, казалось бы, не бывает и вовсе. Но о податях — это уже из следующей беседы.
— Владыко, я много думал о нашей прошлой беседе, и вот что не дает мне покоя. Вы говорите, что рыба гниет с головы и выздоровление следует тоже начинать с головы. Это звучит разумно, но, по-моему, общественное устройство более напоминает не рыбу, а некое здание.
— Истинно так.
— А если так, то хорош ли выйдет дом, который строят, начиная от венца?
— Нехорош, сын мой, и я очень рад, что вы дошли до сего сами, без моих подсказок. Одним «аппаратом», как бы расчудесен он ни был, кривду не распрямишь. Нужно, чтобы большинство захотело того же, чего хотите вы, и тогда усилия ваши и ваших помощников будут встречать не противление, а поддержку.
— Но всяк хочет своего, и у каждого своя выгода! Многим, очень многим удобнее и привычнее жить так, как они живут — повиноваться не законной власти, а «нужным людям». Так оно выходит проще и дешевле и для купцов, и для торговцев, и для промышленников, и для мещанства. Разве всех их переубедишь? Они и слушать не станут.
— И не надо переубеждать. У нас в России словам не верят, тем более если они исходят от начальства. Основа прочного жизнеустройства, сын мой, состоит в добровольном законопослушании.
— О, владыко! О чем вы толкуете? Какое может быть в России добровольное законопослушание?
— Да такое же, как в дорогой вашему сердцу Швейцарии!
— Нет, право, отче, не сердитесь. Но мне хотелось бы, чтобы мы говорили не об идеальных схемах, а о шагах, могущих иметь практические последствия.
— Именно об этом я и излагаю. Добровольное исполнение закона — не следствие высокой сознательности обывателей, а всего лишь признак того, что людям выгоднее соблюдать сей закон, нежели его нарушать. И если вы призадумаетесь, то увидите, что у нас в России повсеместно нарушаются отнюдь не все законы, а лишь некоторые. Или не так?
— Пожалуй, что и так. Прежде, до отмены монопольной торговли на водку, многие изготавливали самогон и тайком продавали, но теперь этого нет. Однако где нечисты девять из десяти россиян, так это при уплате податей и сборов. Тут уж вы, отче, спорить не станете.
— Не только не стану, сын мой, но и скажу вам, что вы безошибочно определили самый исток болезни, называемой беззаконием. Убивают единицы, воруют тоже немногие, но вот платить все бессчетные подати, акцизы и пошлины, многие из коих нелепы и непомерны, не хочет никто. От этого весь вред и происходит: и взяточничество, и оскудение казны, и те самые «нужные люди», на которых ни вы, ни ваши предшественники не сумели сыскать управу. А наипачий вред проистекает оттого, что, как вы верно заметили, девять из десяти человеков чувствуют себя нарушителями закона. Сие означает, что закон им не защита, а устрашение, и сами они уже не уважаемые члены общества, но воришки, коих суд и полиция в любой миг могут призвать к ответу. На том нужные люди и держатся: им-то доподлинно известно, кто и сколько казне недоплатил. Берут они за свое знание поменее, чем государство, да и от слуг закона нарушителей оберегают. Вот и выходит, что общество наше сплошь из воришек состоит, которыми разбойники управляют. Будет человек себя уважать, если сам про себя знает, что он воришка и взяткодатель? Нет, Антон Антонович, не будет — ни себя, ни законы.
— Но тут ведь ничего не сделаешь!
— Слышу в вашем голосе отчаяние, и совершенно напрасно. Сделать же нужно вот что: назначить на всякого податного, кем он ни будь, единый налог, невеликий, заранее известный и взимаемый сразу, со всех выплат, выдач, сделок и доходов. И дань эта должна не превышать одной десятой, потому что святая церковь еще со стародавних времен на богатом своем опыте проверила и убедилась: десятину человек платить согласится, а больше — ни в какую, даже под страхом кары Отца Небесного. А это значит, что и искушать нечего. Вот пусть и вам платят десятину. Кто бедный и десять рублей в месяц еле добывает, с того берите рублишко, а кто миллион заколачивает — с того можно сто тысяч взять, но такого человека и особенно поблагодарить нужно, уважение ему оказать, потому что на его предприимчивости и рачительности государство стоит.
— Всё это прекрасно, но не губернатор налоги и пошлины назначает. Ведь вы превосходно знаете, владыко, что порядок взимания всевозможных сборов определяют в Петербурге, и я не властен своей волей его менять. За это меня со службы выгонят, да еще под суд упекут.
— Не упекут. Потому что вы поедете в столицу и заключите с правительством соглашение. Никогда еще не бывало, чтобы Заволжская губерния казне сполна все положенные налоги выплачивала, потому что жители увертываются и не желают нисколько платить. Одни недоимки на нас, как и на большинстве прочих губерний. А вы поручитесь своей гарантией, что будете положенную сумму исправно вносить, но собирать ее станете по-своему, и объясните, как именно, чтобы в вас откупщика не увидели. И я со своей стороны за вас поручусь, объясню кому следует, в чем ваша идея состоит. Согласятся, потому что казне прямая выгода. Захотят испытать на одной незначительной и убыточной губернии, что из сего опыта может проистечь. Заметьте еще и то, сын мой, что вследствие этого начинания вы разом избавитесь и от нужных людей, и от большинства мздоимцев. Никто уж им деньги не понесет, потому что выгоднее и безопаснее будет государству положенное уплатить, а за это от закона защиты истребовать. Останутся наши заволжские разбойники без поддержки снизу, а сверху их ваша полиция прижмет, потому что станет она у вас уже не купленная, как прежде, а честная.
Ремарка. Вот это всё сбылось в точности, даже еще и более, чем сулил владыка. Разбойников по лесам и городам выловили быстро, потому что у нас не Москва с Питером, про каждого известно, что ты за человек. Нужные люди — кто в другие губернии подался, кто в каторгу поехал, а которые поумнее, те притихли и занялись дозволенной торговлишкой или иным законным промыслом. Самое удивительное то, что после учреждения единой подати отчего-то много меньше стало и всех прочих преступлений. Может, оттого, что заволжане все вдруг как-то заважничали и обрели больше степенства в словах, поступках и даже телодвижениях? Чиновников у нас поубавилось, потому что многие собирающие, следящие и контролирующие сделались не нужны, а вот купцов и промышленников понаехало из других губерний видимо-невидимо — выгодно им показалось в Заволжье жить и дела вести. В губернской казне деньги завелись, так что понастроили у нас за минувшие годы и домов новых, и больниц, и школ, и дороги наладили, даже и о собственном театре начали подумывать.
Приезжали посмотреть на наши чудеса из столиц и иных краев, хотели и в других губерниях так же устроить, да что-то там у них не сложилось.
— А скажите, сын мой, чем, по-вашему, нищета отлична от бедности?
— Нищета от бедности? Ну, бедный человек в отличие от совсем уж нищего имеет какое-никакое жилище, пропитание и одевается не в лохмотья, а все-таки прилично. Бедность бывает благородной, а нищета отвратительна.
— Или, как выразился автор чрезмерно перехваленного романа, нищета это уже порок, за который из общества палкой изгоняют.
— Позвольте, владыко, неужто вы о «Преступлении и наказании» так строго судите?
— О литературе, Антон Антонович, мы как-нибудь в другой раз поговорим, а теперь речь моя об ином. Именно, что человек голодный, неодетый и бездомный не может быть благороден поведением и красив. И хоть в Священном Писании и житиях мы много читаем о блаженных и пророках, что ходили в рубищах и вовсе не заботились о пропитании и приличии, но с сих святых угодников обычным людям брать пример пагубно, ибо страшно и противоестественно представить себе общество, сплошь состоящее из членов, умерщвляющих плоть, обвешанных веригами и произносящих пророчества. Не того хочет от чад своих Господь, а чтобы вели себя достойно.
— Тут я совершенно согласен, хоть это какая-то и не совсем русская точка зрения, однако мне все же хочется вступиться за господина Достоевского. Чем же вам не угодил роман «Преступление и наказание»?
— Ах, дался вам господин Достоевский. Ну хорошо, извольте. Я считаю, что автор чересчур облегчил себе задачу, когда заставил гордого Раскольникова убить не только отвратительную старуху процентщицу, но еще и ее кроткую, невинную сестру. Это уж господин Достоевский испугался, что читатель за одну только процентщицу не захочет преступника осудить: мол, такую тварь вовсе и не жалко. А у Господа тварей не бывает, все Ему одинаково дороги. Вот если бы писатель на одной только процентщице всю недостойность человекоубийства сумел показать — тогда другое дело.
— Недопустимость, вы хотите сказать?
— Недостойность. Взять в руки топор или иной какой предмет и другому человеку черепную коробку проломить — это прежде всего недостойно человеческого звания. Ведь что такое грех? Это и есть поступок, посредством коего человек роняет свое достоинство. Да-да, Антон Антонович, я вновь, уже в сотый раз, вернусь к сей теме, потому что чем долее живу на свете, тем более уверяюсь, что именно в чувстве достоинства состоит краеугольный камень справедливого общества и самое предначертание человека. Я говорил вам, что достоинство зиждется на трех китах, имя которым законность, сытость и просвещение. Про законопослушание сказано достаточно, о пользе разумного, боговдохновенного просвещения вы и сами толковали мне весьма красноречиво, так что мне и добавить нечего. Но нельзя за сими прекрасными материями забывать и об основе основ — животе человеческом, который на нашем языке не случайно равносмыслен слову «жизнь». Если живот пуст, то это уже нищета, а нищий подобен животному, ибо думает только о том, как живот этот наполнить, и ни на какие иные, более высокие побуждения у него сил уже не остается.
— К чему, отче, вы мне это говорите?
— К тому, что вы — власть предержащая, и самая первая ваша ответственность в том, чтобы всякий житель губернии имел кусок хлеба и кров над головой, так как без сих основ у человека не сможет быть достоинства, а не имеющий достоинства не является гражданином. Богатыми все быть не могут, да и ни к чему это, но сыты должны быть все. Это нужно не только обездоленным, но в не меньшей мере и всем остальным, чтобы они не поедали мягкий хлеб свой, стыдливо таясь от голодных. Не будет достойным тот, кто пирует, когда вокруг него нищета и вой.
— Это истинно так, владыко. Я думал об этом и даже подсчитал, что не так уж много средств уйдет на поддержание истинно нуждающихся. Неужто всё так просто? Только накормить голодных, и в людях сразу появится Selbstachtung?[7]
— Нет, сын мой. Не сразу, и сытость — только начало. Еще следует искоренить всякое оскорбление личности, чему у нас в России по стародавнему нашему обычаю и значения никакого не придают. У нас ведь, сами знаете, брань на вороту не виснет, а тычки с затрещинами от начальства у простого народа за отеческое внушение воспринимаются. Опять же порка повсеместно распространена. Какое уж тут Selbstachtung, с поркой-то. Так что давайте с вами условимся: у нас в губернии более никого и ни за что сечь не будут, хоть бы даже и по решению крестьянского схода свои своих. Воспретить раз и навсегда. Я и священникам велю в церквах проповедовать, чтоб родители детей не пороли, разве уж совсем каких отчаянных, кто разумного слова не понимает. Из поротых не граждане вырастают, а холопы. Хорошо бы еще и брань запретить, но это, конечно, мечтание. Я и сам бываю по сей части грешен.
— А еще замечательно было бы, владыко, чтобы в присутствиях людям простого звания стали говорить «вы» и «господин такой-то». Это для Selbstachtung очень важно. Можно еще по имени-отчеству, тоже хорошо.
— Хорошо-то хорошо, да не рано ли? Напугаются мужички, если им так сразу «выкать» начнут. Заподозрят какую-нибудь начальственную каверзу, как в шестьдесят первом году при эмансипации. Нет, с этим погодить требуется, пока непоротое поколение подрастет.
— Ах, отче, а вы только представьте, какие благословенные настанут времена, когда наши обыватели будут в губернаторы не чужаков вроде меня получать, но смогут по собственной воле производить элекцион и избирать из своей среды достойнейшего, кого знают и уважают! Вот тогда-то истинный рай на русской земле и установится!
— Только и с этим бы не спешить. Пусть сначала обыватели наши достоинства поднакопят и в граждан превратятся, а потом уж и элекцион можно. А то они, пожалуй, Фильку-кабатчика себе в губернаторы выберут, если он им на площадь пару бочек зелена вина выкатит…
Ремарка. По поводу достоинства не знаем, что и присовокупить, потому что материя тонкая и учету плохо поддающаяся, да и времени не так много прошло — непоротое поколение, о котором говорил владыка, еще со школьной скамьи не сошло. Сильно пьяных, что в канаве валяются, у нас в последнее время стало меньше. И когда на улицу выходят, одеваться стали поприличнее. Но это, возможно, из-за того, что бедности поубавилось в связи с вышеупомянутым развитием торговли и разных промыслов. Право, не знаем… Хотя вот в прошлый год история была: квартальный Штукин мещанина Селедкина «свиньей» обозвал. Раньше бы Селедкин такое обращение за ласку счел, а тут ответил служивому человеку: «Сам ты свинья». И мировой в том никакой вины не нашел.
Пожалуй, что и больше стало в заволжанах достоинства.
VII
СУАРЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
…общим же следствием всех этих бесед стало то, что помаленьку, год за годом, жизнь Заволжья стала меняться в лучшую сторону, так что в соседних губерниях стали нам завидовать. Вот, видно, и сглазили. Не иначе как взревновал лукавый к нашему благополучию.
На следующий день после того, как Владимир Львович Бубенцов истинным римским триумфатором доставил в город плененных зытяцких старейшин (при невиданном стечении толп, собравшихся посмотреть на небывалое зрелище: двое скованных служителей Шишиги, да еще три трупа в телеге), Митрофаний собрал у себя чрезвычайное совещание ближайших союзников, которое с мрачным юмором нарек «советом в Филях». И свою вступительную речь начал в соответствующем сей аллегории духе:
— Фельдмаршал Кутузов мог оставить Москву, потому что ему было куда отступать, а нам с вами, господа, отступать некуда. Столица не столько средоточие общественной жизни, сколько некий ее символ, а от символа на время можно и отступиться. Мы же с вами в Заволжье живем, оно для нас не отвлеченный символ, а наш с вами единственный дом, и отдавать его на поругание злым силам мы с вами не имеем ни права, ни возможности.
— Это безусловно так, — подтвердил взволнованный Антон Антонович.
И Матвей Бенционович Бердичевский тоже прибавил:
— Жизни вне Заволжска я для себя не мыслю, но если возобладают порядки, устанавливаемые этим инквизитором, существовать здесь я не смогу.
Митрофаний кивнул, словно иного ответа и не ждал.
— В разное время каждого из нас троих приглашали послужить в столице на более видном поприще, а мы не поехали. Почему? Потому что поняли: столица — это царство зла, и тот, кто туда попадает, теряет себя и подвергает свою душу угрозе. У нас же здесь мир простой и добрый, ибо он много ближе к природе и Богу. В провинции можно, пребывая во власти и делая дело, сохранить живую душу, а в Петербурге нельзя. От столицы проистекает один только вред, одно только насилие над естественностью. И наш с вами долг оборонять вверенный нам край от этой напасти. Диавол мощен, но мощь его непрочная, потому что зиждется не на достоинствах человека, а на его пороках, сиречь держится не на силе, а на слабости. Обыкновенно зло само себя и разрушает, рассыпаясь изнутри. Однако ждать, пока это случится, мы не вправе, потому что слишком многое хорошее, что нами с трудом выстроено, разрушится еще раньше, чем зло. Нужно действовать. И я собрал вас, господа, чтобы составить план.
— Представьте, владыко, я думал о том же, — сказал барон. — И вот что мне пришло в голову. Мой старший брат Карл Антонович, как вам известно, состоит на должности шталмейстера и раз в месяц бывает зван на малый ужин в высочайшем присутствии, где государь запросто с ним беседует и расспрашивает о всякой всячине. Я напишу Карлу подробное письмо и попрошу о содействии. Он государственная голова и наверняка сумеет представить дело так, что император не останется безучастным к нашей беде.
— К сожалению, сын мой, Константин Петрович беседует с государем куда чаще, чем раз в месяц, — вздохнул архиерей. — Надо думать, что его величество предубежден в пользу Бубенцова, и переменить это суждение будет непросто. Увы, слишком многим влиятельным особам в Петербурге выгоден наш скандал. Тут ведь всю Россию высечь можно.
Антон Антонович с тоской проговорил:
— Но ведь надобно же что-то делать. Этот синодальный паук мне уж и по ночам снится. Будто лежу я и пошевелиться не могу, а он всё оплетает, оплетает меня своею липкой паутиной. Со всех сторон оплел…
Возникла тягостная, но непродолжительная пауза, которую прервал Матвей Бенционович. Внезапно побледнев, он решительно заявил:
— Господа, я знаю, что нужно. Я его на дуэль вызову, вот что! Если откажется стреляться, ему позор будет перед всем обществом, никто его больше на порог не пустит, и все заволжские дамы, которые сейчас вокруг него хороводы водят, от него отвернутся. А согласится на дуэль — его обер-прокурор с должности погонит. Что так, что этак, нам выгода.
От этой оригинальной идеи прочие участники совета аж оторопели. Барон покачал головой:
— Так ведь если согласится, вам с ним и в самом деле стреляться придется, и уж он вам загубленной карьеры не спустит. Что вы на барьере-то станете делать, Матвей Бенционович? Видел я на охоте, как вы стреляете. Вместо тетерки фуражку мне продырявили. Да и о детях подумайте.
Бердичевский сделался еще белее, потому что обладал очень живым воображением и сразу представил свою супругу в трауре, а деток в черных платьицах и костюмчиках, но не отступился:
— Пускай…
— Ах, глупости какие, — махнул губернатор. — И не сможете вы его вызвать, он вам повода не даст.
Здесь Бердичевский из белого вдруг стал пунцовым и признался в давнем постыдном происшествии:
— Есть повод. Он меня по носу щелкнул, и сильно, до крови, а я стерпел. Тоже о детях подумал…
Барон пояснил обладателю личного дворянства:
— По дуэльному статуту картель объявляется в течение суток после нанесения оскорбления, никак не позже. Так что вы, Матвей Бенционович, опоздали.
— Тогда я его тоже по носу, он поймет за что!
— Он, может, и поймет, да другие не поймут, — вставил слово преосвященный. — Еще сволокут вас в сумасшедший дом как буйнопомешанного. Нет, не годится. Да и не христианское это дело — поединок. Я на такое своего благословения не дам.
— Тогда вот что. — Бердичевский сосредоточенно схватился за нос, повертел его и так, и этак. — Можно попробовать иначе, через троянского коня.
— Как это? — удивился Антон Антонович. — Кто же станет сим конем?
— Полицмейстер Лагранж. Он у Бубенцова за правую руку стал, и Бубенцов ему многое доверяет. А у меня про любезнейшего Феликса Станиславовича по моей прокурорской линии кое-что имеется.
Бердичевский сделался спокоен и деловит, голос его больше нисколько не дрожал.
— Лагранж третьего дня взял у купца-старообрядца Пименова подношение. Семь тысяч ассигнациями. Сам же и вынудил, пригрозив арестом за поносные слова об обрядах православной церкви.
— Да что вы! — ахнул барон. — Это неслыханно! (Удивление Антона Антоновича понятно, ибо, как уже было сказано, в нашей губернии прямое мздоимство, да еще со стороны высокого начальства, совершенно отошло в область преданий.)
— И тем не менее взял — не иначе как в предвидении новых времен. У меня и заявление от Пименова имеется. Я пока ничего предпринимать не стал. Могу поговорить с Феликсом Станиславовичем. Он человек не очень умный, но сообразит. По видимости будет оставаться пособником Бубенцова, однако втайне будет всё мне подробнейше докладывать о происках и замыслах нашего милого дружка.