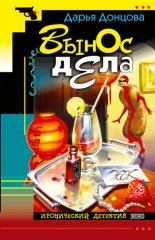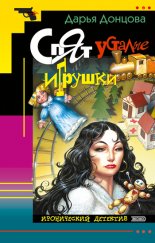Пелагия и белый бульдог Акунин Борис

Лагранж был сейчас чудо как хорош: глаза горели огнем, усы победительно подрагивали, рука энергично рубила воздух, специальные термины перекатывались во рту, словно леденцы. Думается, что за последние недели Феликс Станиславович переменил мнение о скучности и неперспективности Заволжья. Чего стоило одно зытяцкое дело! Но там основные фанфары и литавры явно предназначались Бубенцову. Зато здесь, при расследовании этого аппетитнейшего убийства, никто не мог перебежать полицмейстеру дорогу. Опять же появилась прекрасная возможность продемонстрировать хитроумному и опасному господину Бердичевскому свою незаменимость, в настоящий момент находившуюся под большим сомнением в связи с оплошностью Феликса Станиславовича по части взятки.
— Рассудите сами, Матвей Бенционович. — Лагранж снял перышко с рукава товарища прокурора. — Связь ночного убийства с вечерним скандалом очевидна. Так?
— Допустим.
— На суаре у Олимпиады Савельевны, не считая дам, присутствовали десять человек. Ну, господина синодального инспектора и предводителя дворянства мы пропустим, потому что высокого полета птицы, опять же и мотивы не просматриваются. Далее со стороны усопшего были приглашены: управляющий Ширяев, князь Телианов, купец первой гильдии Сытников и помещик Краснов. Со стороны хозяйки — директор гимназии Сонин, присяжный поверенный Клейст и архитектор Брандт. Еще Владимир Львович привел с собой своего секретаря Спасенного.
— Допустим, — повторил Бердичевский, быстро строча карандашиком. — И подозреваете вы, конечно, в первую голову Ширяева, а во вторую Телианова?
— Не так быстро, — упоенно улыбнулся Феликс Станиславович. — На первом круге приближения я не склонен сужать количество подозреваемых. Взять хотя бы дам. Княжна Телианова — главная мишень вчерашнего скандала. Если и не убивала сама, то могла быть вдохновительницей или соучастницей, о чем я еще скажу. Теперь госпожа Лисицына, — Пелагия замерла, не до конца сложив карточку с обнаженной на песке. — Очень необычная особа. Непонятно, что она, собственно, столько времени делает в Заволжске. Я выяснял — вроде бы приехала проведать свою сестру-монахиню. Так что ж тогда по балам и салонам шпацировать? Всюду-то она бывает, все ее знают. Бойка, кокетлива, кружит мужчинам головы. По всем приметам — авантюристка.
Бердичевский смущенно покосился на Пелагию, но та, похоже, уже не слушала — сосредоточенно возилась со своими обрывками.
— Нынче с утра послал телеграфный запрос в департамент — не проходила ли Полина Андреевна Лисицына по какому-нибудь делу? И что вы думаете? Проходила, причем трижды! Третьего года в Перми, по делу об убийстве схимника Пафнутия. В прошлый год в Казани, по делу о похищении чудотворной иконы, и еще в Самаре, по делу о крушении парохода «Святогор». Все три раза выступала на процессах свидетельницей. Каково?
Бердичевский вновь поглядел на монахиню, уже не со смущением, а вопросительно.
— Да, любопытно, — признал он. — Но мы уже выяснили, что женщина такого убийства совершить не могла.
— И все же Лисицына чертовски подозрительна. Ну да Бог с ней, разберемся. А теперь перейдем к подозреваемым первой степени, то есть к тем, кто давно знаком с Поджио и имел или мог иметь основания его ненавидеть. — Лагранж поднял указательный палец. — Первый, конечно, Ширяев. Влюблен в Телианову до безумия, пытался убить Поджио прямо там, на вернисаже, безо всяких ухищрений — еле оттащили. Второй — брат, Петр Телианов. — Полицмейстер поднял и средний палец. — Тут вероятно еще и ущемленное самолюбие. Телианов позднее всех понял, что его сестре нанесено оскорбление, и тем самым выставил себя то ли дураком, то ли трусом. Неуравновешенный молодой человек, дурных склонностей. Состоит под гласным надзором, а я эту нигилистическую публику почитаю способной на любую мерзость. Если уж на государственные устои замахнулся, то что для такого жизнь одного человека? А тут в некотором роде даже извинительно вступился за честь сестры. Но и это еще не все. — К двум пальцам присоединился третий, безымянный — правда, полусогнутый. — Сытников. Скрытный господин, но тоже со страстями. По имеющимся у меня сведениям, весьма неравнодушен к чарам Телиановой. Вот вам и мотив — ревность к более удачливому сопернику. Донат Абрамович сам разбойничать в ночи не пойдет, сочтет ниже своего достоинства, а вот кого-то из своих молодцов подослать, пожалуй, мог бы. У него все работники сплошь из староверов. Бородатые, угрюмые, на власть волками смотрят. — Феликсу Станиславовичу идея про убийц-староверов, кажется, пришлась по вкусу. — А что, и очень запросто. Надо будет Владимиру Львовичу доложить…
— А кстати уж про Владимира Львовича, — с невинным видом заметил Бердичевский. — Там ведь тоже не всё ясно. Поговаривают, что Телианова бросила Поджио не просто так, а ради Бубенцова.
— Ерунда, — махнул рукой с растопыренными пальцами полицмейстер. — Бабьи сплетни. То есть Телианова по Владимиру Львовичу, может, и сохнет. Ничего удивительного — мужчина он особенный. Но сам Владимир Львович к ней совершенно равнодушен. Да даже если меж ними и было что прежде. В чем мотив-то? Ревновать любовницу, которой нисколько не дорожишь и от которой не знаешь как отвязаться? Пойти из-за этого на убийство? Так, Матвей Бенционович, не бывает-с.
Приходилось признать, что Лагранж прав.
— Что же мы будем делать? — спросил Бердичевский.
— Полагаю, для начала недурно бы хорошенько допросить всех троих…
Полицмейстер не договорил — заметил, что сбоку чуть в сторонке стоит монахиня. Клочки фотографий, аккуратно собранных в квадраты, лежали на полу вдоль стен.
— Что вы здесь все шныряете? — раздраженно воскликнул Феликс Станиславович. — Убрали и идите себе. А еще лучше выметите отсюда весь этот сор.
Пелагия молча поклонилась и поднялась в бельэтаж. Полицейские чиновники, проводившие осмотр, сидели в лаборатории и курили папиросы.
— Что, сестричка-невеличка? — весело спросил давешний, с помятым лицом. — Или обронили что?
Монахиня увидела, что стеклянных осколков на полу уже нет — собраны и разложены, совсем как фотографии в салоне. Проследив за направлением ее взгляда, весельчак заметил:
— Там такие есть, что вам смотреть никак не рекомендуется. Веселый был господин, этот самый Поджио. Жалко, теперь уж не восстановишь.
Пелагия спросила:
— Скажите, сударь, а есть ли здесь пластина с наклейкой «Дождливое утро»?
Сыщик улыбаться перестал, удивленно поднял брови.
— Странно, сестрица, что вы спросили. Тут в перечне «Дождливое утро» есть, а пластины мы не нашли. Ни кусочка. Видно, он ею недоволен остался и решил выбросить. А что вы про это знаете?
Пелагия молчала, сдвинув рыжие брови. Думала.
— Так что с этим самым «Дождливым утром»? — не отставал мятый.
— Не мешайте, сын мой, я молюсь, — рассеянно ответила ему инокиня, повернулась и пошла вниз.
Дело в том, что в салоне не хватало фотографии именно с этим названием. Все собранные из обрывков картины совпадали с оставшимися на стенах подписями — даже те три, с обнаженной незнакомкой, из-за которых произошел скандал. Но от снимка со скромным названием «Дождливое утро» не обнаружилось ни единого, даже самого маленького фрагмента.
— …И все-таки Бубенцова тоже следует допросить! — услышала она, входя в салон.
Матвей Бенционович и Феликс Станиславович, похоже, никак не могли договориться о круге подозреваемых.
— Оскорбить такого человека сомнением! Одумайтесь, господин Бердичевский! Конечно, я всецело в вашей власти, но… Ну что тебе еще?! — рявкнул полицмейстер на Пелагию.
— Собрать бы здесь всех, кто вчера был, да помолиться вместе за упокой души новопреставленного раба Божия, — сказала она, кротко глядя на него лучистыми карими глазами. — Глядишь, изверг бы и покаялся.
— Марш отсюда! — гаркнул Лагранж. — Зачем вы только ее сюда привезли!
Матвей Бенционович незаметно кивнул Пелагии и взял полицмейстера за локоть.
— А ведь вот что надобно сделать. Молиться, конечно, пустое, но вот очную ставочку, этакий следственный опыт бы произвести очень даже недурно. Соберем всех вчерашних, якобы чтобы восстановить, кто где в какой момент находился да что говорил…
— Превосходно! — подхватил Феликс Станиславович. — У вас истинный криминалистический талант! Непременно вызовем и Телианову. От одного ее вида все эти петухи снова в раж войдут, и убийца непременно себя выдаст. Ведь преступление совершено явно не по холодной крови, а со страсти. Где уж страстному человеку будет сдержаться. Нынче вечером и соберем. А я времени терять не стану — проверю каждого из главных фигурантов на предмет алиби.
— И Бубенцова обеспечьте, это уж обязательно.
— Губите вы меня, Матвей Бенционович, режете без ножа преданного вам человека, — горько пожаловался Лагранж. — А ну как Владимир Львович на меня осерчает?
— Вы смотрите, чтобы я на вас не осерчал, — тихо ответил на это Бердичевский.
Всё было устроено в точности, как во время злосчастного суаре, даже с закусками и вином (хоть, конечно, и не шампанским, потому что это уже было бы перебором). Счастливая мысль превратить унизительную полицейскую процедуру в вечер памяти Аркадия Сергеевича пришла хозяйке. Олимпиаде Савельевне, которая нынче чувствовала себя еще большей именинницей, чем накануне. То есть утром, узнав о трагедии, она, разумеется, поначалу испугалась и даже по-женски пожалела бедного Поджио, так что и поплакала, но несколько позднее, когда стало ясно, что скандальная слава суаре превзошла самые смелые ее чаяния и главные события, возможно, еще впереди, почтмейстерша совершенно избавилась от уныния и всю вторую половину дня была занята срочным обновлением черного муарового платья, занафталинившегося в шкафу со времен последних похорон.
Состав участников этого нового суаре, на сей раз не званого, а вызванного, тоже был почти тот же. По понятной причине отсутствовал Аркадий Сергеевич, неотмщенный дух которого представляли товарищ прокурора и полицмейстер. И еще, в отличие от вчерашнего, с самого начала присутствовала Наина Георгиевна, оповещенная о следственном эксперименте официальной повесткой и прибывшая точно в назначенное время, в девять часов, хотя Феликс Станиславович предполагал, что ее придется доставлять под конвоем.
Виновница несчастья (а именно за таковую ее считали большинство присутствующих), приехав, сразу затмила и отодвинула на дальний план хозяйку. Наина Георгиевна сегодня была еще прекрасней, чем всегда. Ей необычайно шло лиловое траурное платье, длинные черные перчатки подчеркивали стройность рук, а бархатные глаза лучились каким-то особенным, загадочным светом. Держалась она без малейшего смущения, а напротив, истинной царицей, ради которой и созвана вся эта тризна.
Главный подозреваемый был тих, молчалив и на себя вчерашнего совсем не похож. Полина Андреевна с удивлением отметила, что лицо его нынче, в отличие от вчерашнего дня, имеет выражение умиротворенности и даже довольства.
Зато Петр Георгиевич был весь ощетинен как еж, без конца говорил дерзости представителям власти, громогласно возмущался позорностью затеянного спектакля, а от сестры демонстративно отворачивался, показывая, что не желает иметь с ней никакого дела.
Из прочих участников обращал на себя внимание Краснов, без конца всхлипывавший и сморкавшийся в преогромный платок. В начале вечера он высказал желание прочесть оду, посвященную памяти покойника, и успел прочесть две первые строфы, прежде чем Бердичевский прервал декламацию за неуместностью. Строфы были такие:
- Он пал во цвете лет и славы,
- Кудесник линзы и луча.
- Блеснул судьбины меч кровавый,
- Покорный воле палача,
- И пламень боговдохновенный
- Не светит боле никому.
- И погрузился мир смятенный
- В непроницаемую тьму.
Владимир Львович снова приехал позже всех и снова обошелся без извинений — какой там, это Лагранж рассыпался перед ним в многословных оправданиях, прося прощения за то, что отрывает занятого человека от государственных дел.
— Что ж, вы исполняете свой долг, — скучливо бросил Бубенцов, беря у секретаря папку с бумагами и пристраиваясь в кресле. — Надеюсь только, что это продлится недолго.
— «Вчерашний бо день беседовах с вами и внезапну найде на мя страшный час смертный. Вси бо исчезаем, вси умрем, царие же и князи, богатии и убозии, и все естество человеческое», — с чувством произнес Тихон Иеремеевич, и после сих скорбных слов начался собственно эксперимент.
Феликс Станиславович сразу взял быка за рога.
— Дамы и господа, прошу в салон, — сказал он и толкнул створки двери, что вела в соседнее помещение.
Совсем как давеча, гости покинули гостиную и переместились в выставочный зал. Правда, сегодня картин там не было, остались лишь сиротливые бумажные полоски с названиями безвозвратно погибших произведений.
Полицмейстер остановился возле надписи «У лукоморья».
— Надеюсь, все помнят три фотографии с изображением некоей обнаженной особы, висевшие вот здесь, здесь и здесь, — начал он и трижды ткнул пальцем на пустые обои.
Ответом ему было молчание.
— Я знаю, что лицо натурщицы ни на одном из фотографических снимков не было видно полностью, однако желал бы, чтобы вы общими усилиями попытались восстановить какие-то черты. Следствию крайне важно выяснить личность этой женщины. А может быть, кто-нибудь из присутствующих знает ее?
Полицмейстер в упор посмотрел на княжну Телианову, но та не заметила его испытующего взгляда, потому что смотрела вовсе не на говорившего, а на Бубенцова.
Тот же стоял в стороне от всех и сосредоточенно изучал какую-то бумагу.
— Хорошо-с, — зловеще протянул Лагранж. — Тогда пойдем путем медленным и неделикатным. Будем восстанавливать облик натурщицы по частям, причем тем, которые обычно скрыты под одеждой, ибо про лицо мы вряд ли узнаем многое. Все же начнем с головы. Какого цвета волосы были у той особы?
— Светлые, с золотистым отливом, — сказала предводительша. — Весьма густые и немного вьющиеся.
— Отлично, — кивнул полицмейстер. — Благодарю вас, Евгения Анатольевна. Примерно такие? — Он указал на завитки, что свисали из-под шляпки Наины Георгиевны.
— Очень возможно, — пролепетала графиня, покраснев.
— Шея? Что вы скажете про шею? — спросил Феликс Станиславович, вздохнув с видом человека, терпение которого на исходе. — Затем мы подробнейшим образом обсудим плечи, спину, бюст, живот, ноги. И прочие части фигуры, включая бедра с ягодицами, без этого никак не обойтись.
Голос Лагранжа стал угрожающим, а неловкое слово «ягодицы» он произнес нараспев, с особенным нажимом.
— Быть может, все-таки обойдемся без этого? — уже напрямую обратился он к Наине Георгиевне.
Та спокойно улыбалась, явно наслаждаясь и обращенными на нее взглядами, и всеобщим смущением. Она не проявляла и малейших признаков стыдливости, которая вчера здесь же чуть не довела ее до слез.
— Ну, предположим, установите вы про грудь и ягодицы, — пожала она плечами. — А дальше что? Станете всех жительниц губернии догола раздевать и опознание устраивать?
— Зачем же всех? — процедил Феликс Станиславович. — Только тех, кто у нас на подозрении. И опознание не понадобится, к чему нам этакий скандал? Достаточно будет сверить некоторые особые приметы. Я ведь сейчас опрос этот для формальности и последующего протоколирования произвожу, а на самом деле уже побеседовал с некоторыми из присутствующих, и мне, в частности, известно, что на правой ягодице у интересующей нас особы две заметные родинки, что пониже грудей светлое пигментационное пятно размером с полтинник. Вы не представляете, княжна, до чего внимателен мужской глаз к подобным деталечкам.
Здесь проняло и несгибаемую Наину Георгиевну — она вспыхнула и не нашлась что сказать.
На помощь ей пришла Лисицына.
— Ах, господа, да что мы всё про одни и те же фотографии! — защебетала она, пытаясь увести разговор от неприличной темы. — Здесь ведь было столько чудесных пейзажей! Вон там, например, висела совершенно изумительная работа, я до сих пор под впечатлением. Не помните? Она называлась «Дождливое утро». Какая экспрессия, какая игра света и тени!
Матвей Бенционович взглянул на не к месту встрявшую даму с явным неудовольствием, а Лагранж, тот и вовсе грозно сдвинул брови, намереваясь призвать щебетунью к порядку, но зато Наина Георгиевна перемене предмета явно обрадовалась.
— Да уж, вот о чем следовало бы поговорить, так о той любопытной картинке! — воскликнула она, рассмеявшись — притом зло и будто бы на что-то намекая. — Я тоже вчера обратила на нее особенное внимание, хоть и не из-за экспрессии. Там, сударыня, самое примечательное было отнюдь не в игре света и тени, а в некой интереснейшей подробности…
— Прекратить! — взревел Феликс Станиславович, наливаясь краской. — Вам не удастся сбить меня с линии! Всё это виляние ничего не даст, только попусту тратим время.
— Истинно так, — изрек Спасенный. — Сказано: «Блаженни иже затыкают ушеса своя, еже не послушати неможнаго». И еще сказано: «Посреди неразумных блюди время».
— Да, Лагранж, вы и в самом деле попусту тратите время, — сказал вдруг Бубенцов, отрываясь от бумаг. — Ей-богу, у меня дел невпроворот, а тут вы с этой мелодрамой. Вы же мне давеча докладывали, что у вас есть твердая улика. Выкладывайте ее, и дело с концом.
При этих словах Матвей Бенционович, которому ничего не было известно ни о «твердой улике», ни о самом факте какого-то доклада полицмейстера Владимиру Львовичу, сердито воззрился на Лагранжа. Тот же, стушевавшись и не зная, перед кем оправдываться в первую очередь, обратился сразу к обоим начальникам:
— Владимир Бенционович, я ведь хотел со всей наглядностью прорисовать, всю логику преступления выстроить. И еще из милосердия. Хотел дать преступнику шанс покаяться. Я думал, сейчас установим, что на фотографиях была княжна Телианова, Ширяев вспылит, начнет за нее заступаться и признается…
Все ахнули и шарахнулись от Степана Трофимовича в стороны. Он же стоял как оцепеневший и только быстро поводил головой то вправо, то влево.
— Признается? — насел на полицмейстера Бердичевский. — Так у вас улика против Ширяева?
— Матвей Бенционович, не успел доложить, то есть не то чтобы не успел, — залепетал Лагранж. — Хотел сэффектничать, виноват.
— Да что такое? Говорите дело! — прикрикнул на него товарищ прокурора.
Феликс Станиславович вытер вспотевший лоб.
— Что говорить, дело ясное. Ширяев влюблен в Телианову, мечтал на ней жениться. А тут появился столичный разбиватель сердец Поджио. Увлек, вскружил голову, совратил. Совершенно ясно, что для тех ню позировала ему именно она. Ширяев и раньше знал или, во всяком случае, подозревал об отношениях Поджио и Телиановой, но одно дело представлять себе умозрительно, а тут наглядное доказательство, и еще этакого скандального свойства. О мотивах, по которым Поджио решился на эту неприличную выходку, я судить не берусь, потому что непосредственного касательства к расследуемому преступлению они не имеют. Вчера на глазах у всех Ширяев накинулся на обидчика с кулаками и, верно, убил бы его прямо на месте, если бы не оттащили. Так он дождался ночи, проник в квартиру и довел дело до конца. А после, еще не насыщенный местью, сокрушил все плоды творчества своего лютого врага и самый аппарат, при посредстве которого Поджио нанес ему, Ширяеву, столь тяжкое оскорбление.
— Однако про всё это нами было говорено и ранее, — с неудовольствием заметил Бердичевский. — Версия правдоподобная, но вся построенная на одних предположениях. Где же «твердая улика»?
— Матвей Бенционович, я же обещал вам, что проверю всех основных фигурантов на предмет алиби. Именно этим мои агенты сегодня и занимались. Петр Георгиевич вчера напился пьян, кричал и плакал до глубокой ночи, а после слуги его отваром выпаивали. Это алиби. Господин Сытников прямо отсюда отправился на Варшавскую, в заведение мадам Грубер, и пробыл до самого утра в компании некой Земфиры, по паспорту же Матрены Сичкиной. Это тоже алиби.
— Ай да двоеперстец, — сказал Владимир Львович, присвистнув. — Готов держать пари, что Земфира Сичкина внешностью хотя бы отчасти напоминает Наину Георгиевну, на которую его степенство давно облизывается.
Донат Абрамович, оторопевший от этакого поворота, смолчал, но бросил на Бубенцова такой взгляд, что стало ясно — проницательный психолог в своем предположении не ошибся.
— Ну а что до господина Ширяева, — подвел-таки к эффекту полицмейстер, — то у него никакого алиби нет. Более того, достоверно установлено, что в Дроздовку он ночевать не вернулся, ни в одной из городских гостиниц не останавливался и ни у кого из здешних знакомых также не появлялся. Позвольте же спросить вас, — сурово обратился он к Степану Трофимовичу, — где и как провели вы минувшую ночь?
Ширяев, опустив голову, молчал. Грудь его тяжело вздымалась.
— Вот вам и твердая улика, равнозначная признанию. — Лагранж картинным жестом указал Бердичевскому и Бубенцову на изобличенного преступника. Затем трижды громко хлопнул в ладоши.
Вошли двое полицейских, очевидно, обо всем заранее извещенные, потому что сразу же подошли к Ширяеву и взяли его под руки. Он вздрогнул всем телом, но и тут ничего не сказал.
— Доставить в управление, — приказал Феликс Станиславович. — Поместить в дворянскую. Скоро приедем с господином Бердичевским и будем допрашивать.
Степана Трофимовича повели к выходу. Он всё оборачивался, чтобы посмотреть на княжну, она же глядела на него со странной улыбкой, непривычно мягкой и чуть ли не ласковой. Меж ними не было произнесено ни слова.
Когда арестованного вывели, Спасенный перекрестился и изрек:
— «На много время не попускати злочествующим, но паки впадать им в мучения».
— Как видите, — скромно сказал Лагранж, обращаясь главным образом к Бубенцову и Бердичевскому, — расследование и в самом деле много времени не заняло. Дамы и господа, благодарю всех за помощь следствию и прошу извинить, если доставил вам несколько неприятных моментов.
Эти сдержанные и благородные слова были произнесены с подобающей случаю величавостью, и когда заговорила Наина Георгиевна, поначалу все решили, что она имеет в виду именно Феликса Станиславовича.
— Вот что значит благородный человек, не чета прочим, — задумчиво, словно бы сама себе проговорила барышня и вдруг повысила голос: — Увы, господа блюстители закона. Придется вам Степана Трофимовича отпустить. Я нарочно захотела его испытать — скажет или нет. Подумайте только, не сказал! И уверена, что на каторгу пойдет, а не выдаст… Не совершал Степан Трофимович никакого убийства, потому что всю минувшую ночь пробыл у меня. Если вам мало моих слов — допросите горничную. После того как он вчера кинулся за мою честь заступаться, дрогнуло во мне что-то… Ну да про это вам ни к чему. Что глазами захлопали?
Она неприятнейшим образом засмеялась и странно глянула на Владимира Львовича — одновременно с вызовом и мольбой. Тот молча улыбался, точно ожидая, не будет ли еще каких-нибудь признаний. Когда же стало ясно, что всё сказано, следственный опыт решительно провалился, а Лагранж пребывает в полной растерянности и даже как бы потерял дар речи, Бубенцов насмешливо осведомился у представителей власти:
— Ну что, концерт окончен? Можно уходить? Срачица, принеси-ка плащ.
Секретарь безропотно выскользнул из салона и через полминуты вернулся, уже в картузе, а своему повелителю доставил легкий бархатный плащ с пелериной и фуражку.
— Честь имею, — сардонически поклонился Бубенцов и направился к выходу.
Со спины в своем щегольском наряде он был точь-в-точь франтик-гвардионец, каковым, собственно говоря, до недавнего времени и являлся.
— Тот самый плащ, — громко, нараспев сказала Наина Георгиевна. — Та самая фуражка. Как она блестела в лунном свете…
Непонятно было — то ли барышня представляет безутешную Офелию, то ли действительно тронулась рассудком и бредит.
— Мы уедем из вашего гнилого болотца. Может быть, мы поженимся и у меня даже будут дети. Тогда мне все простится, — продолжала нести околесицу княжна. — Но сначала надо раздать долги, чтобы всё по справедливости. Не правда ли, Владимир Львович?
Владимир Львович, стоявший уже в самых дверях, оглянулся на нее с веселым недоумением.
Тогда Наина Георгиевна царственно прошествовала мимо него, слегка задев плечом, и скрылась в гостиной. Кажется, все-таки научилась покидать сцену не бегом, а шагом.
— Желе-езная барышня, — с явным восхищением протянул Донат Абрамович. — Не знаю, кому она собралась долги отдавать, но не хотел бы оказаться на их месте.
— М-да, — подытожил Бердичевский. — А Ширяева-то, Феликс Станиславович, придется выпустить.
Полицмейстер забормотал:
— Вовсе ничего еще не значит. Допросить-то уж непременно следует. И Ширяева, и Телианову, и горничную. Возможен преступный сговор. От такой истеричной и непристойной особы можно ожидать любых фордыбасов.
Но его уже никто не слушал. Участники опыта один за другим потянулись к выходу.
Полина Андреевна Лисицына вернулась на квартиру к своей полковнице в большой озабоченности. Почтенная Антонина Ивановна ложилась сразу после ужина и в этот поздний час уже видела безмятежные сны, поэтому никто не отвлекал гостью разговорами и расспросами.
Оказавшись у себя в комнате, рыжеволосая дама быстро разделась, но не приступила к предпостельному туалету, как следовало бы ожидать, а достала из саквояжа сверток с черным облачением и не более чем за минуту преобразилась в смиренную сестру Пелагию. Тихонько ступая, прошла коридором и через кухню выскользнула на улицу.
Безлунная, ветреная ночь охотно приняла черницу в свои такие же черные объятия, и монахиня едва различимой тенью заскользила мимо спящих домов.
С точки зрения Пелагии, «следственный опыт» полицмейстера Лагранжа оказался очень даже полезен — до такой степени, что возникла срочная необходимость потолковать с Наиной Георгиевной с глазу на глаз прямо сейчас, не дожидаясь завтрашнего дня. Загадочная фотография под названием «Дождливое утро» совершенно не запечатлелась в памяти Полины Андреевны, а между тем чутье подсказывало ей, что именно там может таиться ключ ко всей этой нехорошей истории. Конечно, проще было бы отправиться к княжне прямо от почтмейстерши, в обличье госпожи Лисицыной, но приличные дамы в одиночку по ночному городу не разъезжают и уж тем более не ходят пешком — было бы слишком приметно, а на скромную монашку кто ж обратит внимание.
Идти было далеконько, до самого берега Реки, где стоял старый дом, доставшийся Наине Георгиевне по наследству. Близилась полночь. В такое время в Заволжске не спят только влюбленные и постовые стражники (последние, впрочем, тоже спят, хоть и в будке), поэтому по дороге инокине не встретилось ни единой живой души.
Странный вид имеет наш мирный город ненастной осенней ночью. Будто все население унесено куда-то в неведомые дали мановением некой таинственной силы и остались только темные дома с черными окнами, догорающие фонари и бессмысленные колокольни с осиротевшими крестами. А если неспящему человеку по расстроенности нервов лезет в голову всякая жуть, очень легко вообразить, что ночью в Заволжске переменилась власть и до самого рассвета, пока не вернутся солнце и свет, всем здесь будут заправлять силы тьмы, от которых можно ожидать каких угодно пакостей и неправд.
В общем, скверно было в городе. Пусто, безжизненно, тревожно.
IX
НОЧЬ. РЕКА
Когда Пелагия свернула в Варравкин тупик, что выводил к дому Наины Георгиевны, небо бесшумно — и от этого было еще страшней — полыхнуло ослепительно яркой зарницей, после которой темнота показалась такой густой, что монахиня поневоле остановилась, перестав различать очертания домов. Только приобвыклась, сделала несколько шагов, и снова белая вспышка, и снова пришлось, зажмурившись, ждать, пока расширятся ошалевшие от этакого неистовства зрачки. Но теперь издалека донесся медленный рокочущий раскат.
Так дальше и пошло: десяток-другой шагов в кромешной тьме, потом мгновенная вакханалия сатанинского сияния, и опять чернота, наполненная утробным порыкиванием надвигающейся на город бури.
Дом найти оказалось нетрудно. В него-то Варравкин тупик и упирался. Очередная зарница высветила маленький особняк с мертвым, заколоченным мезонином, деревянный забор и за ним листву деревьев, всю вывернутую белыми брюшками под порывистым ветром. Когда стих громовой раскат, стало слышно, как где-то за домом, за деревьями негодующе шумит растревоженная Река. Здесь берег вздымался особенно высоко, а пойма суживалась чуть не на триста саженей, так что и в самые безмятежные дни стесненный поток проносился мимо кручи бурливо и сердито, в непогоду же Река и вовсе ярилась так, будто гневалась на придавивший ее город и хотела обвалить его в свои пенные воды, подмыв постылый яр.
Сад, начинавшийся за домом, как-то сам собой переходил в березовую рощицу, где погожими вечерами любила гулять заволжская публика — уж больно хорош был вид, открывавшийся с обрыва на речной простор. Было ясно, что рощица эта обречена, что через год, два, много пять Река подточит ее, обрушит и унесет вниз по течению — до самого Каспия, а то и дальше. Выкинет волной измокший и просолонившийся березий ствол на далекий персидский берег, и соберутся смуглые люди, чтобы посмотреть на этакое диво. Одна из берез после весеннего паводка уже начала было заваливаться с кручи, да удержалась последней корневой зацепкой, повисла над стремниной, похожая на белый указующий перст. Мальчишки, кто поотчаянней, повадились на ней раскачиваться, и многие говорили, что надо дерево от греха спихнуть вниз, потому что добром не кончится, да всё руки не доходили.
Пелагия поежилась под ветром, постояла у калитки, глядя на темные окна дома. Получалось, что придется Наину Георгиевну будить. Неудобно, конечно, но дело есть дело.
Калитка с ворчанием отворилась, разноголосо, словно клавиши на рассохшемся пианино, проскрипели ступени старого крыльца. Монахиня прислушалась — не донесется ли изнутри каких звуков. Тихо. А вдруг нет никого?
Решительно взялась за медную скобу, заменявшую колокольчик, громко постучала. Снова прислушалась.
Нет, кто-то там все-таки был — вроде бы голос раздался, или это взвизгнули дверные петли?
— Откройте! — крикнула инокиня. — Это я, сестра Пелагия с архиерейского подворья!
Послышалось, что ли? Ни звука.
Она подергала дверь — заперта на засов. Значит, дома, но спят, не слышат. Или слышат, но не хотят пускать?
Пелагия постучала еще, подольше, давая понять, что с пустыми руками не уйдет. Медь грохотала так гулко, что кто-нибудь — или хозяйка, или горничная должны были проснуться.
И снова откуда-то из глубины дома, уже явственней, послышался тихий, как бы зовущий голос. Словно кто-то негромко пропел несколько нот и замолчал.
Это уж было совсем странно.
Пелагия спустилась с крыльца, прошла под окнами. Как и следовало ожидать, приоткрыты — с вечера перед грозой было душно. Подобрав рясу чуть не до пояса, монахиня влезла на приступку, ухватилась за подоконник и толкнула раму.
Да что толку — темно хоть глаз выколи.
— Эй! — боязливо позвала Пелагия. — Есть кто-нибудь? Наина Георгиевна! Вы здесь? Наина Георгиевна!
Никакого ответа, только тихо скрипнул пол — то ли шагнул кто, то ли просто дом вздохнул.
Сестра перекрестилась, и в тот же миг небо озарилось ярким разрядом, отчего комнату осветило не хуже, чем в солнечный полдень. Ненадолго, на секунду, но и этого было достаточно, чтобы Пелагия успела разглядеть маленькую гостиную и посередине, на полу, что-то белое, продолговатое.
— Мать Пресвятая Богородица, спаси и помилуй, — пробормотала Пелагия и полезла через подоконник.
Вот вам и «железная барышня». Вернулась домой — и в обморок. И ничего удивительного после этаких переживаний. Только что же горничная-то?
Присела на корточки, пошарила руками, наткнулась на теплое. Тонкая ткань рубашки, мягкая грудь, лицо. Пелагия достала из поясной сумки фосфорные спички, чиркнула.
Только никакая это была не Наина Георгиевна, а вовсе незнакомая круглолицая девушка — простоволосая, в ночной рубашке и накинутом на плечи платке. Надо полагать, горничная. Глаза у девушки были закрыты, а рот, наоборот, приоткрыт. Волосы выглядели чудно — на концах вроде бы светлые, а поверху, надо лбом, черные и блестящие. Пелагия дотронулась — и с криком отдернула руку. Мокро. Пальцы тоже сделались черными. Кровь!
Тут спичка погасла, и Пелагия на четвереньках, как была, попятилась назад, к окну. Очки, тихо звякнув, бухнулись на пол, но возвращаться за ними не хотелось.
Перевалиться через подоконник и бежать сломя голову из этого страшного молчаливого дома!
Но тут снова раздался давешний звук — тихий, будто зовущий голос. Только теперь было слышно, что это не зов и не пение, а слабый стон. Донесся он откуда-то из темного нутра дома, и выходило, что бежать никак нельзя.
С замирающим сердцем монахиня выпрямилась, мелко перекрестила левую половину груди и обратилась с мысленной молитвой к своей покровительнице святой Пелагии, которую тревожила только по самой крайней необходимости:
— Моли Бога о мне, святая угодница Божия Пелагия, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей…
И тут же помогла ей угодница, прекрасная латинянка, в медном быке сожженная. От слабенькой зарницы на миг рассеялся мрак, и увидела Пелагия на подоконнике свечу в медной подставке. Знак это был хороший, душеукрепляющий.
Спичка от дрожания пальцев сломалась, за ней и другая, но с третьей свеча зажглась, и теперь можно было осмотреться получше.
Первое, что бросилось в глаза, — отчетливый след сапога на подоконнике, носком внутрь дома. Пелагия решительно повернулась к окну спиной, подняла руку с подсвечником повыше. Теперь стало видно, что у горничной вокруг головы растеклась целая темная лужа. Поблескивали оброненные очки. Пелагия подняла их, увидела, что левое стеклышко треснуло, но не расстроилась — не до того сейчас было.
Картина вырисовывалась такая. Ночью, когда в доме уже легли, кто-то влез в окно и, видно, наделал шума. Горничная вышла на звук, и влезший ударил ее чем-то тяжелым по голове.
Пелагия присела, тронула пальцами висок, где должна биться жилка. Не билась жилка, девушка была мертва, Инокиня пробормотала молитву, но без вдохновения, потому что прислушивалась.
Снова стон. И близко — пожалуй, шагов десять.
Она ступила раз, другой, третий, готовая при первом же признаке опасности бросить свечу и кинуться назад, к открытому окну.
Впереди темнел дверной проем.
Коридор?
Пелагия шагнула еще и увидела Наину Георгиевну.
Княжна лежала в коридоре на полу, совсем рядом с гостиной.
На барышне был пеньюар и кружевной чепец, одна расшитая бархатная туфелька без задника валялась в стороне. Дальше по коридору виднелась приоткрытая дверь, очевидно, ведущая в спальню. Но Пелагии сейчас было не до расположения комнат — чепец Наины Георгиевны был сплошь пропитан кровью, а огромные глаза разбивательницы сердец смотрели вверх совершенно неподвижно, и в них отражались два маленьких огонька. И еще сестра увидела большой камень, черневший на полу чуть поодаль. Увидела, поневоле вспомнила, как лежал под деревцем мертвый Закусай, и перекрестилась.
Наина Георгиевна была еще жива, но кончалась — это монахиня поняла сразу, едва только нащупала пальцами острый край пробитой теменной кости. В свое время, когда Пелагия проходила искус, первым ее послушанием стала работа в монастырской больнице, так что опыта по медицинской части ей было не занимать.
Длинные ресницы дрогнули, взгляд умирающей медленно, словно нехотя сфокусировался на инокине.
— А, сестра Пелагия, — ничуть не удивилась Наина Георгиевна, а даже точно обрадовалась, но тоже не сильно, в меру.
Отчетливо, несколько врастяжку выговаривая слова (так бывает при черепном ранении), сообщила:
— Я сейчас умру. — Сказала и как бы немного удивилась собственным словам. — Я это чувствую. И ничего особенного. Не страшно совсем. И не больно.
— Я побегу, позову на помощь, — всхлипнула Пелагия.
— Не нужно, уж кончено. Я не хочу снова одна в темноте.
— Кто это вас?
— Не видела… Шум. Позвала — Дуняша молчит. Вышла посмотреть — удар. Потом ничего. Потом слышу, далеко-далеко, голос женский. Зовет: «Наина Георгиевна!» А нет никого. Темно. Я думаю: где это я, что это со мной… — Княжна двинула уголками губ — верно, хотела улыбнуться. — Это хорошо, что я умираю. Самое лучшее, что могло случиться. А что вы здесь — это знак, чудо Господне. Это Он меня прощает. Я виновата перед Ним. Не успею рассказать, уплывает всё. Вы мне просто грехи отпустите. Это ничего, что вы не священник, все равно духовное лицо.
Пелагия, клацая зубами, стала произносить положенные слова:
— Каплям подобно дождевым, злии и малии дни мои летним обхождением оскудевают, помалу исчезают уже, Владычице, спаси мя…
Наина Георгиевна повторяла: «Помилуй, помилуй…» — но чем дальше, тем тише. С каждым мгновением ее силы убывали. Когда монахиня закончила читать канон, княжна говорить уже не могла и только слабо улыбалась.
Пелагия, наклонившись, спросила:
— Что было на фотографии? Той, где дождливое утро?
Казалось, ответа уже не будет. Но через минуту бледные губы шевельнулись:
— Там осина…
— Что осина?
— Жи…вая. И мо…тыга.
— Кто «живая»? Какая мотыга?
Сзади скрипнул пол — и не тихонько, как прежде, а весьма основательно, словно под чьей-то тяжелой стопой.
Пелагия обернулась и ойкнула. Из темного проема двери, что вела в спальню, медленно, словно не наяву, а в страшном сне, выплывал черный силуэт.
— А-а! — захлебнулась криком инокиня и уронила свечу, которая тут же и погасла.
Очевидно, только это Пелагию и спасло. В наступившей кромешной тьме раздался звук быстрых шагов и прямо над головой съежившейся монахини, обдав лоб волной воздуха, просвистело что-то увесистое.
Монахиня не вставая развернулась и метнулась в гостиную. Там тоже было черным-черно, только смутно выделялись три серых прямоугольника окон. Сзади доносилось чье-то хриплое дыхание, шорох ног по вощеному полу. Ни Пелагия, ни преследователь видеть друг друга не могли. Боясь выдать себя звуком, она замерла на месте, вглядываясь в тьму. Тук-тук-тук, колотилось бедное сердце, и эта барабанная дробь — во всяком случае, так показалось Пелагии — наполняла всю гостиную.
Кто-то двигался там, в темноте, кто-то приближался из коридора. Мрак свистнул: сссшшши! И еще раз, уже ближе: сссшшши!
Это он наугад своей дубиной машет или что у него там — поняла Пелагия. Дольше оставаться на месте было нельзя. Она развернулась и бросилась к среднему из серых прямоугольников. По дороге сшибла стул, кляня свою всегдашнюю неуклюжесть, но кое-как удержалась на ногах. Зато тот, кто топал за ней следом, похоже, о стул споткнулся и с грохотом полетел на пол. Обычный человек вскрикнул бы или выругался, этот же не издал ни звука.
Пелагия полезла на подоконник, зацепилась полой рясы за выступ. Дернула что было сил, но грубая материя не подалась. Цепкая рука сзади схватила монахиню за ворот, и от этого прикосновения силы черницы словно удесятерились. Она рванулась что было мочи, ряса затрещала в подоле, в вороте — и уберег Господь, вывалилась Пелагия наружу. Сама не поняла, больно ли ударилась. Вскочила. Посмотрела вправо, влево.
Вправо калитка и улица. Туда нельзя. Пока откроешь калитку — догонит. А если и успеешь выскочить на улицу, там в рясе все одно не убежать.
Эта мысль промелькнула в долю секунды, а в следующую долю той же самой секунды Пелагия уже бежала влево, за угол дома.
Сверху безо всякого предупреждения и предварительного побрызгивания хлынул дождь, и таким сплошным потоком, что сестра чуть не задохнулась. Теперь и вовсе стало ничего не разглядеть. Она бежала через сад, через рощу, выставив вперед руки, чтобы не удариться о ствол.
Где-то близко ударила молния. Пелагия оглянулась на бегу и увидела белые стволы, стеклянную стену дождя и за ней, шагах в двадцати, нечто черное, растопыренное, подвижное.
А деваться было совсем некуда. Еще десяток шагов, и в лицо дохнуло пропастью. Пелагия не увидела обрыв, а именно что вдохнула его. Реку же за оглушительным отхлестом ливня было не слышно.
Спереди чернела бездна, сзади шлепали по лужам шаги — не больно спешные, ибо преследователь отлично понимал, что бежать монашке некуда, и, видно, боялся, что она затаится где-нибудь под кустом.
Слева что-то едва различимо белело во мраке. Некий перст указывал вперед и немного вверх, туда, где по вечерам зажигается первая звезда.
Береза! Та самая, что нависла над кручей!
Пелагия подбежала к погибшему дереву, опустилась на четвереньки и поползла вперед, стараясь не думать о том, что внизу двадцать саженей пустоты. Добралась до кроны и застыла, обняла ствол покрепче, прижалась щекой к мокрой шершавой коре. Видно ее с берега или нет?