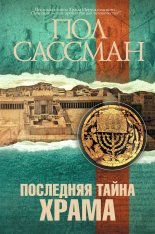Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии Бухарин Анатолий

Годами, а то и десятилетиями, рукописи историка ждут публикации. Если раньше, в советской России, на него давили нормативные требования, то теперь в буквальном смысле истязают политическая и экономическая конъюнктура. Попробуй-ка удержись на позициях бесстрастности и объективности! Чего греха таить: многие ломались и ломаются под грузом нужды и житейских забот, погружаются в омут тяжкого нравственного греха. Уста их утверждают высокое, вечное, а руки берут взятки на вступительных экзаменах, на защитах диссертаций.
К слову сказать, я всегда выступал решительным противником употребления при оценке нравственности ученого слова «интеллигент». Выступал потому, что кое-кто пытался, и не без успеха, использовать это слово как синоним не только интеллекта, но и высокой духовности. Между тем Словарь иностранных слов трактует термин «интеллигент» однозначно: человек, занимающийся умственным трудом и обладающий необходимым для такого труда образованием. С этих позиций, интеллигентами являются и Борман, и Геббельс, и Сталин, и Вышинский, и Франко, и Пиночет. А сколько интеллигентных преступников в белых воротничках гуляет сегодня по белому свету и по России! Так не лучше ли, оценивая нравственность, употреблять другое понятие – «порядочный человек»?
Не скрою, проведя смолоду почти половину жизни в рабочей среде, я с пиететом относился к научной, тем более к педагогической, интеллигенции, но в первые же годы сотрудничества с «высоколобыми» стал открывать страшную, мучительную правду о коррупции, конформизме, проституции, которыми кишел каждый угол внешне неприступного храма отечественной науки. К счастью – оговорюсь, – не все в этом храме оказались пленниками дьявола: было немало и независимых, честных людей, но жили эти люди, что называется, под Дамокловым мечом.
Малейшая методологическая ошибка, осторожный скепсис в оценках классиков марксизма-ленинизма способны были погубить и действительно погубили тысячи душ. Даже в тех случаях, когда вы поступали с трудами отцов научного коммунизма, как правоверные мусульмане – с Кораном, вас могли нокаутировать, ссылаясь на негласное правило умелого использования источников. Не удивительно, что большая часть диссертаций по исторической и философской тематике демонстрировала не глубину научного анализа, а приверженность авторов идеям «единственно верного учения». Просмотрите, любопытства ради, авторефераты тех лет – и вы убедитесь в справедливости моих слов. За каждым выводом соискателей ученых степеней тянутся длинные шлейфы ссылок на труды Маркса, Энгельса, Ленина и на решения партийных съездов.
Усиленное стремление тоталитарного режима сохранить самое себя обусловило торжество во всех сферах жизни нормативного мышления. Это, в свою очередь, явилось причиной «мертвого сезона» в нашей историографии.
Помню, как в ноябре семидесятого академик Нечкина, выступая на заседании группы историков по изучению первой революционной ситуации в России, резко оборвала не в меру философствующих: «Научные законы для всех одинаковы, и нужно одинаково судить о методе исследования».
Почтенная воительница за чистоту и монополию марксистско-ленинского учения об историческом процессе знала то, о чем говорила, ибо поседела в борьбе с дворянской и буржуазной историографией. Беда ее как талантливого и во многом глубокого исследователя – в слепой приверженности формационной теории и классовому подходу. Разумеется, с позиций здоровой научной (и общечеловеческой) этики эту систему взглядов, выпестованную тоталитаристами, нельзя ни запретить, ни отменить. Ее можно только преодолеть, выстрадав закономерность существования альтернативы, а для этого нужны воля и терпение. Их-то и не хватает идеологам тоталитарности, «зацикленным» на «единственно верном», «единственно разумном», «единственно правомочном» подходе к истории, то есть отрицающим диалектичность историографии де-факто при усиленной апелляции к диалектике де-юре.
Искусство манипуляции цитатами достигло в советской науке наивысших пределов: Лениным можно было погубить научную работу или поднять ее на недосягаемую для критики высоту. В «ножницы» ленинских оценок либерализма попался и я со своей диссертацией о Боткине.
Да, основатель социалистического государства, размышляя о ранних либералах-западниках, отзывался о них одобрительно, а вот что касается либералов пореформенной России, то их он крестил налево и направо «либеральными хамами». С его легкой руки, слово «либерал» на долгие годы стало ругательным.
Что было делать мне? Мог ли я сохранить объективность научного анализа, балансируя на смертельно остром в ту пору лезвии плюрализма полярно противоположных оценок бессмертного жреца коммунистической идеологии? Думаю, что не смог бы ни за что, ни под каким предлогом, приступи я к своей диссертации лет на пять раньше. А вот в начале семидесятых…
Пикантная, надо сказать, была историографическая ситуация. По-прежнему не умирали советские легенды об античеловеческой сущности капитализма, о проклятом племени бездушных эксплуататоров нищего русского пролетариата. Пожалуй, весь деготь Советского Союза вылили на память дореволюционных предпринимателей, банкиров, купцов. Но вот посыпались удары из стана «ревизионистов», которые не уставали утверждать: социалистическая революция в России свершилась вопреки объективным законам истории, то есть не по Марксу, и была не чем иным, как заговором большевиков.
Серые кардиналы всполошились. Концепция новой в истории, «единственно человечной» социалистической системы, возникшей на руинах полуколониальной державы, рушилась на глазах. Надо было спасать положение, и прежде всего – пустить в ход «тяжелую артиллерию»: ленинское учение об империализме как высшей стадии капитализма, о промышленном перевороте, который способствовал превращению России в «узел самых острых противоречий», и, конечно, о могильщике буржуазии – пролетариате. «Католиков», считавших себя выше папы римского, оказалось уйма. И вся эта ватага исторических авантюристов кинулась искать следы злополучной капиталистической формации уже в раннем русском средневековье, доказывая, что российский капитализм был не хуже европейского и прошел все стадии развития, пока наконец не испустил дух в 1917 году.
Однако против ожиданий заказчиков из Кремля результаты «артиллерийской атаки» оказались диаметрально противоположными шовинистическим установкам.
В научный оборот вошли тысячи документов, которые, несмотря на идеологический туман, свидетельствовали о России как о стране второго эшелона индустриальной цивилизации, отставшей от первого на три-четыре столетия. Умный современник, знакомясь с этими трудами, начинал освобождаться из плена мистифицированного сознания, и в этом ему помогала горькая действительность, опровергавшая иллюзии великой утопии.
Вот это-то положение советской идеологии между Сциллой и Харибдой и предопределило непоследовательную отечественную политику в области исторических исследований в пору моей диссертационной зрелости. Немало работ о выдающейся исторической роли отдельных представителей русского торгово-промышленного сословия подверглось тогда жесточайшей критике. Такая судьба постигла, к примеру, исследование К. С. Куйбышевой о крупном банкире и промышленнике В. Кокореве. Мой первый научный шеф Л. Б. Генкин только перед смертью рискнул опубликовать очерк о Ф. Чижеве и его журнале «Вестник промышленности». Немало претерпели за свои научные изыскания И. Гиндин, Н. Сладкевич, К.Тарновский и другие. Мне же повезло: отзывы на мою диссертацию дали люди, научный авторитет которых не подлежал сомнению и с которыми вынуждены были считаться даже «товарищи из ЦК».
Вообще-то, последние заботились прежде всего о правде для себя и полуправде для людей. Неслучайно М. Суслов перед кончиной высказывался о необходимости решительных перемен в обществе, подразумевая возвращение на круги своя. Для него утопичность коммунистических прожектов тоже была очевидной, но он, как и его сановные собратья, боялся поколебать зыбкое равновесие великодержавного колосса и адресовал задачу его реставрации будущему.
По-прежнему манипулировать сознанием человека можно было только при одном условии: мистифицировать, наряду с прошлым, будущее. Вот почему вслед за мифами об октябрьском перевороте как о Великой Социалистической Революции, о Ленине и Сталине как об отцах всех униженных и оскорбленных советскому народу преподнесли миф о коммунизме, который, якобы, должны узреть прямые потомки поколения, истерзанного сталинским геноцидом и кровавой битвой с фашизмом.
Однако мифы мифами, а задача реформирования общества становилась все более насущной. Стремление осуществить реформы «бархатно», без сотрясения основ, заставило партийных лидеров обратиться к опыту прошлого. С этой целью проводились закрытые исследования, издававшиеся под грифом «Для научных библиотек». Благодаря этому полностью историкам либерализма кислород не перекрывали.
Было тяжело, но не безнадежно. Как ни преследовали инакомыслие, как ни боролись с буржуазным влиянием, с «идеологическими диверсиями», но приостановить диалог сознаний власть предержащим не удалось. Были и действовали тысячи скрытых диссидентов – библиотекарей, архивистов, ученых, писателей, инженеров, верующих. Да, они молчали, но холопами не были. Демонстрируя свою покорность, они оставались внутренне свободными и не принимали на веру ни одного слова дешевой пропаганды. На авансцене научной и общественной жизни звенели голоса выдающихся борцов за права человека: В. Аксенова, А. Солженицына, А. Синявского, Ю. Даниэля, М. Гефтера, А. Сахарова, А. Зиновьева и других, – но было много людей, ушедших в скрытую оппозицию и по мере сил своих сеявших зерна вечных, нетленных ценностей. К таким людям я с полным основанием отношу московского ученого Павла Григорьевича Рындзюнского.
Московский интеллигент в пятом поколении, он отличался редким чувством истории. Его дальние предки стояли у истоков Большого театра, а отец одно время был секретарем у самого Льва Толстого.
Сухонький, с белым венчиком волос, он легко растворялся в пестрой столичной толпе, и только присмотревшись к его лику, к лихо вздетому на голову темно-синему берету, к внимательному, зоркому взгляду, вы начинали понимать, что имеете дело с человеком неординарным, с личностью.
Двадцать лет проработал Рындзюнский в отделе письменных источников Исторического музея. Солдат второй мировой войны, он прошел в интендантской роте от Москвы до Берлина и не чурался никакой черной работы. За крохотное жалование, в зачищенном до блеска костюме с побелевшими на рельефах нитками, он неустанно трудился, корпел над рукописями и в конце концов в 1954 году немало удивил своих коллег созданием необычной для тех лет большой монографии «Городское гражданство дореформенной России».
Уникальный труд! Впервые был дан глубокий анализ возникновения и развития городов России, их правового и социального статуса. Можно сказать, это была научная аналогия художественной летописи, которую создавали Гоголь, Островский, Салтыков-Щедрин. Ученый «раскланивается» с ними в историографическом введении, а затем погружает читателя в море цифр и документов, которые с не меньшей силой, чем беллетристика, являют миру правду о исконно жалком положении российских городов и невзрачном существовании их обитателей.
Научным подвигом Рындзюнского явилось открытие московского старообрядческого мира, о котором он написал убедительно и талантливо. Конечно, были в этом его труде неизбежные в те времена реверансы в сторону государственного атеизма, но этот марксистский декор не закрыл величественной фигуры старообрядца, вершившего большие дела в торговле и промышленности.
Русские представители «третьего сословия» многим, если не всем, обязаны потомкам протопопа Аввакума. Честные, сильные духом аскеты, они проявляли в делах своих дерзость, риск и размах. В известной мере можно сказать, что старообрядчество наших ранних буржуа заменило им идеологию протестантства. Да, они были далеки от либерализма, но среди них преобладали люди-стоики. В конце концов, и либерализм начинается с Иисуса Христа и Апостола Павла, устами которых была провозглашена свобода личности как сверхзадача человека.
С Рындзюнским судьба свела нас в Институте истории СССР, куда я часто наведывался на защиту диссертаций. В октябре 1971 года мне посчастливилось присутствовать на обсуждении его доклада о промышленном перевороте в России. Для той поры это было очень смелое выступление. Речь шла о том, насколько справедливо тридцатые-пятидесятые годы девятнадцатого века считать временем российского промышленного переворота, в чем не сомневался патриарх отечественной экономической истории академик С. Струмилин, издавший в 1944 году книгу «Промышленный переворот в России» и проводивший в ней мысль о том, что означенный переворот завершился, в основном, в дореформенное время.
Струмилин был человеком ЦК, немало потрудившимся на ниве экономической теории социализма, в частности – на ниве разработки первых пятилетних планов. По существу, он являлся главной идеологической опорой Сталина в его борьбе за индустриализацию СССР, и спорить с ним мало кто решался.
Рындзюнский начал критику непогрешимого авторитета с анализа приемов обработки им статистического материала. У Струмилина этот материал отличается быстрым ростом показателей в части производства Россией станков, плугов и прочей промышленной продукции. Происходит это потому, что динамический ряд каждого вектора исчислений начинается практически с нулевой отметки. Такой прием, по мнению Рындзюнского, дает внешне эффектный результат, но едва ли может быть признан удачным по следующим причинам.
В 1842 году в России, поданным Струмилина, действовало 177 механических ткацких станков, а в 1860-м их стало уже 15884. Прирост в среднем менее чем за два десятилетия составил 1100 процентов. Аналогичные данные за 1890 и 1900 годы (76,4 тысячи и 126,7 тысячи станков соответственно) дают прирост за десятилетие только на 66 процентов. Это означает, что весомость каждого процента прироста к концу девятнадцатого века чрезвычайно возросла по сравнению с приростом в сороковые-пятидесятые годы. И докладчик с достаточным основанием заявил: «Изучение динамики производства путем исчисления цепных темпов прироста в данном случае вряд ли оправдано».
Такая же участь постигла струмилинские выводы о динамике прироста числа механических веретен, о средней выработке продукции на одного рабочего в денежном исчислении. Но это были только цветочки.
Дальше Рындзюнский шаг за шагом разбил выводы экономического витии о масштабах применения в сороковые-пятидесятые годы паровых двигателей. И здесь выявились не только ошибки, но и анекдоты.
Струмилин принимал на веру таможенную статистику ввоза в Россию паровых машин и двигателей. Рындзюнский не пожалел времени и поработал над этим источником. Он сравнил данные о количестве работавших в России паровых машин, которые ежегодно сообщали губернские механики, с данными таможенников и обнаружил огромную разницу, ибо в число паровых машин таможенники включали пожарные лестницы, запасные части и тому подобное. Более того: немало ввезенных машин вообще не были внедрены в производство. В результате Рындзюнский недвусмысленно дал понять, что патриотизм академика Струмилина подмял под себя науку.
Кроме бесстрастной статистики, против академика свидетельствовала и политическая история: поражение России в Крымской войне. Оно было закономерным результатом технической и социальной отсталости страны. Если завершался промышленный переворот и страна встала на рельсы индустриального развития, то почему армия была вооружена гладкоствольным оружием, парусный флот преобладал над ничтожным количеством парового, а гужевой транспорт – над железнодорожным? Наконец, если завершался промышленный переворот, то где социальные результаты: развитая буржуазия и рабочий класс?
Поставив эти вопросы, Рындзюнский без особого труда доказал, что передовые явления в индустриальном развитии России дореформенных десятилетий, которые выставляются Струмилиным в качестве признаков промышленного переворота, были распространены далеко не так широко, как это описывается в официальной литературе. Отсюда заключение: промышленный переворот развернулся в России только после реформы шестьдесят первого года; его начало можно усмотреть во второй половине пятидесятых годов, в зените же он находился в семидесятые годы минувшего столетия.
Большинство участников дискуссии хорошо понимали, что речь идет о разоблачении исторического мифа, а потому дружно поддержали докладчика.
Рындзюнский ждал, когда «лев» ударит лапой. Но то ли академик сам перед смертью осознал ложность своих выводов, то ли устал от борьбы, но так и не подал голоса.
Для меня дискуссия была хорошей школой. Рындзюнский продемонстрировал мастерство внешней и внутренней критики источника, а для историка это – наиважнейшее дело, ибо мифы и легенды порождаются не только идеологемами, но и небрежностью в работе с документом, когда в научный оборот вводятся данные, критически неосмысленные. Кроме того, благодаря дискуссии я понял, каким должен быть историк. Можно специализироваться по экономической, социальной или политической истории, но знать и чувствовать необходимо всю историю как целостность бытия.
О многом я передумал в тот день и решительно взялся за историко-экономическое образование. И хотя позднее не написал ни одной работы по этой тематике, но она всегда была задействована в моем внутрилабораторном процессе.
Именно Рындзюнский и стал моим ведущим оппонентом.
Дело со вторым оппонентом обстояло не так удачно. Еще зимой я заручился согласием на оппонирование профессора Ленинградского педагогического института Бориса Федоровича Егорова. Известный русский филолог, ученик знаменитого Юрия Лотмана, он в начале шестидесятых написал блестящую работу о Боткине – литераторе и критике. Именно он дал наиболее развернутый предварительный отзыв о моей диссертации, где, в частности, писал:
«В последние два десятилетия советская историческая наука обогатилась ценными исследованиями о русском либерализме середины XIX века – общественно-политическом и культурном явлении, без которого не понять ни общей истории страны, ни всей значительности революционно-демократической интеллигенции, находившейся в постоянно сложных и напряженных взаимоотношениях с либералами. Наиболее обстоятельным трудом в этой области была книга В. А. Китаева «От фронды к охранительству» (М., «Мысль», 1972 г.), посвященная столпам либерализма пред-реформенной поры – Кавелину, Чичерину, Каткову. Теперь пришло время углубиться в историю, проанализировать истоки либерального движения в 1830-1840-х годах, когда многие будущие либералы еще будто бы полностью солидаризировались с будущими революционными демократами и когда все-таки зрел разрыв, окончательно произошедший в 1850-х годах. И, конечно, среди этих либералов самая яркая фигура – В. П. Боткин. Поэтому следует всячески приветствовать инициативу А. А. Бухарина написать диссертацию об этом сложном, умном деятеле, долгие годы бывшем в самом центре общественной жизни России, дружившем с Белинским, Герценом, Некрасовым.
Работа А. А. Бухарина не лишена отдельных недочетов (я указал на них автору), но в целом она отвечает требованиям современной науки».
Замечу, что Б. Ф. Егоров был сложным человеком, пребывая то в негласном противоречии с тоталитарным режимом, то на передовой ярой защиты революционно-демократических ценностей. Но в ту пору я был несказанно рад его поддержке. И вдруг накануне защиты, в мае, получаю от него телеграмму: «Уезжаю в Варшаву».
Что делать?
Еду в Москву, в Институт истории СССР, к П. Г. Рындзюнскому.
Первый результат его хлопот был для меня ошеломляющим: согласился оппопировать Петр Андреевич Зайнчковский!
Надо ли напоминать сегодня об этой живой легенде нашей историографии? Надо. Петр Андреевич, как и П. Г. Рындзюнский, был воплощением «неприслоненной» России. Осколок дворянского рода, он чудом уцелел в вихре событий двадцатого века, занявшись исторической библиографией, и лишь после смерти Сталина заявил о себе как о выдающемся историке. Одна за другой выходят его монографии о реформах шестидесятых-семидесятых годов и самодержавии в России девятнадцатого столетия.
Зайнчковский отличался редким в те времена качеством – критическим восприятием любой доктрины, и не делал из этого тайны, осознавая бесплодность в истории и релятивизма, и абстрактного рационализма с его уверенностью в адекватности логических конструкций духу исторического бытия. Кроме того, по отзывам коллег, он сохранил незамутненным дух дворянской чести, оставаясь последовательным приверженцем принципов научной этики, свойственных русским историкам. А вот к купечеству и вообще к буржуазии он испытывал устойчивую неприязнь, не имевшую ничего общего с классовым рефлексом советского ученого и, скорее всего, отражавшую дворянские предрассудки. Первое сословие России никогда не отличалось любовью к «аршинникам» и «самоварникам».
Светлый ум, неутомимое перо, Зайнчковский не сподобился у себя на Родине быть избранным даже членом-корреспондентом Академии наук, где в дубовых хоромах летало немало «партийных ворон»: Трапезниковых, Митиных, Поспеловых. Слава Богу, историка не забыли в мире: удостоили премии Гарвардского университета, избрали членом-корреспондентом Британской академии наук и членом Американской ассоциации историков.
Меня предупредили о пунктуальности Зайнчковского, и я явился к нему для собеседования в назначенное время – ровно в 15–00.
Ожидал увидеть седого, горбоносого потомка столбового дворянства, а меня встретил крепкий, высокий старик с курносым, скуластым ликом татарина. Он быстро пробежал глазами мой автореферат, нахмурился над страницей, где я ссылался на работы академика Нечкиной (она была для него как красная косынка для быка), перечитал то место, где я писал о выявленных буржуазных проектах отмены крепостного права, откинулся на спинку стула, вскинул брови-броненосцы и спросил самым серьезным тоном:
– Можно ссылаться на вас?
– Да, конечно, – скупо кивнул я, в простоте душевной едва сдерживая распиравшую меня гордость.
Он ничего не сказал, только хмыкнул, а потом, помявшись немного, вдруг заявил:
– В июне приехать в Воронеж не смогу – уезжаю читать лекции в Варшаву.
Снова Варшава! Мне стало не по себе.
Заметив, как я скис, профессор поспешил утешить:
– Не огорчайтесь, я рекомендую оппонентом свою самую талантливую и любимую ученицу Ларису Георгиевну Захарову. Правда, она еще не доктор наук, но имя ее уже известно. Ну, что скажете, а?
Сидел я с пудовой тяжестью в ногах, с пересохшим горлом и прошептал первое, что пришло на ум:
– Дареному коню в зубы не смотрят…
Петр Андреевич воззрился на меня, как европеец, впервые увидевший краснокожего, потом шумно вздохнул и встал. Аудиенция закончилась. Рындзюнский встретил меня гомерическим хохотом:
– Что вы там наговорили Зайнчковскому?
– Ничего, только слушал.
– Как? Он только что звонил и обижался: «Павел Григорьевич, кого ты мне рекомендовал? Он мою любимую ученицу с лошадью сравнил!»
Я не выдержал и засмеялся. Смеялся до слез. Напряжение спало. В окно стучал майский дождь и плескалось море добра в синих-синих глазах милого Павла Григорьевича.
И все же я был близок к отчаянию. Какое невезение! И чего это вдруг все воспылали жаждой просвещения поляков?!
В довершение всего с Рындзюнским приключился казус, который вообще выбил бы меня из седла, если бы не могучая сила духа этого человека, сумевшего вдохнуть в мою душу волю к победе вопреки самому нелепому стечению обстоятельств.
Затри недели до защиты Павел Григорьевич во время труда праведного по ремонту квартиры свалился с лестницы, о чем, смущаясь, писал мне 26 мая:
«Дорогой Анатолий Андреевич!
Посылаю Вам три экземпляра отзыва. Посмотрите, и если что-нибудь очень не понравится, напишите мне об этом прямо. Со мною приключилась беда – упал дома, сломал руку и сильно ушиб грудную клетку. Есть трещины в ребре. Рука (правая) в гипсе – отсюда такой ужасный почерк. Приключение это сказалось на моем отзыве о Вашей работе. Нельзя было пойти в библиотеку и посмотреть некоторые книги.
Откладывать написание отзыва уже не имело смысла: рука будет в гипсе, как сказал врач, не меше шести недель. Так что прибуду в Воронеж инвалидом.
Еще раз прошу Вас откликнуться на мой отзыв до нашей «официальной встречи».
5 июня.
Всего хорошего!»
Письмо пришло вовремя – я как раз заканчивал подготовку тезисов выступления на защите. Отзыв Рындзюнского премного помог мне в этом. Я рассматриваю его как замечательный документ, раскрывающий лабораторию мысли ученого, поэтому привожу почти целиком.
«В настоящее время общепризнано, – писал Павел Григорьевич, – что изучение переломной эпохи в истории России XIX века может быть полноценным лишь в том случае, если равномерно будут исследоваться все направления и течения общественной мысли, которые сосуществовали в то время. Это вытекает и из факта их постоянного взаимодействия, которое выражалось не только в борьбе этих течений друг с другом, но и, в известной мере, во взаимном обогащении. В связи со сказанным советские историки в последние годы занялись конкретным изучением деятельности представителей не только революционного, но также и либерального, и консервативного лагеря. Соответствующие темы исследований включены, например, в производственные планы Института истории СССР Академии наук СССР; вопросы истории либерализма занимают все большее место в таких повременных изданиях, как сборники «Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг.».
Все сказанное показывает, что исследование А. А. Бухарина о позиции одного из типичных представителей буржуазного либерализма в десятилетие невиданного ранее обострения идейно-политической борьбы является научно актуальным. Оно входит в поток работ, ведущихся в настоящее время советскими историками и призванных осветить с марксистско-ленинских позиций недостаточно исследованные области общественной жизни России в XIX веке.
Научная значительность исследовательского труда А. А. Бухарина тем более велика, что устанавливается явная генетическая связь между буржуазными либералами времени, предшествовавшего реформам XIX в., и соответствующими буржуазными партиями периода подготовки в России социалистической революции (на это обстоятельство указывает сам автор). Потребности борьбы с зарубежной антимарксистской историографией указывают на большое значение конкретной разработки истории русского буржуазного либерализма, начиная с его первоначальных истоков.
…Из области исследовательских выводов, содержащихся в диссертации Бухарина, хочется особенно выделить весьма ценное, как мне кажется, наблюдение влияния правительственной политики на поведение купечества. На протяжении почти всего XIX века правительство шло навстречу существенным нуждам буржуазии, оно внешне подчеркивало значительность купечества как сословия, давало ему разнообразные льготы, в известной мере как бы заискивало перед ним. Такая гибкая политика правительства вызывала соответствующую обратную реакцию со стороны купечества, «обезоруживала» его перед дворянским самодержавием. Мне кажется, что это обстоятельство сыграло большую роль в определении общественно-политической позиции крупной буржуазии. А. А. Бухарин обратил на него внимание, и это является его серьезным исследовательским достижением. Было бы уместно, чтобы указанный фактор во взаимоотношениях дворянского самодержавия и высших слоев русской буржуазии был бы подробнее проанализирован и учитывался более широко, в частности, при трактовке причин все большей утраты буржуазией элементов былой оппозиционности, как это хорошо видно на примере эволюции политической позиции В. П. Боткина.
Характер самого литературного наследия В. П. Боткина наталкивает на рассмотрение буржуазного либерализма в России на фоне и в связи с общеевропейскими явлениями общественной и идеологической жизни. А. А. Бухарин широко использовал эту возможность, что усилило элементы новизны в его исследовании и увеличило значительность его для читателя.
Как справедливо пишет А. А. Бухарин, «разгадка идейных зигзагов Боткина, ключ к ним… находится не только в исторических особенностях дореформенной России, но и в общественно-политической атмосфере Европы, воздухом которой Боткин дышал более сорока лет».
Научно ценен вывод А. А. Бухарина, несущий в себе полемический элемент по отношению к части предшествовавшей литературы о Боткине, а именно вывод о том, что у Боткина не было некритического восприятия порядков жизни на буржуазном Западе, что в его литературном наследии присутствует немало верных и точных суждений о противоречиях буржуазного строя, которые, однако, сочетались с убежденностью в прогрессивности капитализма.
В диссертации А. А. Бухарина обосновывается тезис о том, что важным этапом в процессе размежевывания революционно-демократического и буржуазно-либерального течений в общественном движении были не только (и, может быть, даже не столько) события 1848 г., как это обычно признается, а Польское восстание 1863 г., по отношению к которому, как и к репрессивным мерам правительства, позиции общественных деятелей резко размежевались.
Значительно в научном отношении подробное рассмотрение отношения Боткина к проблемам общественной жизни России, остро вставшим в период революционной ситуации рубежа 50-60-х годов XIX в., в частности – к вопросу об отмене крепостного права, к реформе 1861 года. Здесь А. А. Бухарин продолжает линию по изучению позиции буржуазии по отношению к важнейшим явлениям исторической жизни России середины XIX века, начатую работами К. С. Куйбышевой и Л. Б. Генкина. Материал о Боткине рассматривается А. А. Бухариным с учетом исследовательских достижений его предшественников, и в этом отношении соответствующие места работы А. А. Бухарина носят как бы итоговый характер. Однако данная сложная проблема еще не может считаться полностью разрешенной и теперь.
Я высоко оцениваю то обстоятельство, что А. А. Бухарин в своей диссертации с большой полнотой свел и прокомментировал статьи и высказывания В. Боткина по вопросам экономического положения России и экономической политики правительства. В результате этой ценной работы Боткин раскрывается для нас в новом качестве-экономиста, теоретика и практика. Его литературное наследие оказалось весьма интересным в плане изучения истории экономической мысли в России.
Как показывает А. А. Бухарин, в своих выступлениях в печати в 30-е гг. В. П. Боткин энергично и с определенных позиций откликался на все актуальные вопросы экономической жизни. Он сетовал на малую емкость внутреннего рынка России и в связи с этим показывал необходимость обеспечения за Россией подобающего ей места в системе международной торговли, в частности, так называемыми «колониальными товарами». Боткин ратовал за развитие русской промышленности, за улучшение качества ее изделий, имея в виду при этом прежде всего перспективу расширения русского экспорта. Как замечает А. А. Бухарин, «В. П. Боткин возлагает надежду на развитие промышленности, связывая ее с активностью самих капиталистов и опекой правительства».
Интересен факт усиленной агитации Боткина за создание акционерных обществ, за развитие железнодорожного транспорта. Особая позиция Боткина как представителя буржуазных кругов выявляется в его убежденности в прогрессивном значении роста городов в условиях крепостнической России.
Интересен анализ экономической программы Боткина, содержащийся в исследовании А. А. Бухарина. Здесь констатируется прогрессивность ее по отношению к характерной для дворянских идеологов оценке земледелия как исконной и нерушимой основы хозяйственного благополучия страны (можно было бы лишь отметить, что такой позиции держались не все дворянские экономисты, как это видно на примере Н. С. Мордвинова).
Значительно и следующее заключение А. А. Бухарина: «Боткин сумел преодолеть не только дворянскую ограниченность. Его мысли об активности капиталов, чрезвычайной важности акционерных компаний, внедрении новой техники говорят о том, что он сумел выйти за узкие рамки интересов гильдейского купечества, в массе своей считавшего запрещение свободы торговли панацеей от всех зол».
Изучение экономических взглядов В. П. Боткина является важным научным достижением А. А. Бухарина.
Также высоко следует оценить обнаруженные им и исследованные материалы об отношении русской буржуазии к отмене крепостного права. Здесь имеются в виду записки и проекты реформ, которые представлялись отдельными купцами в правительственные учреждения, и примыкающие к ним выступления в печати. Эти свидетельства оппозиции гильдейской буржуазии к крестьянской реформе существенно дополняют те скудные данные, которыми располагала наука до последнего времени.
В своей общественной и литературной деятельности В. П. Боткину приходилось общаться с широким кругом людей, различных по своему мировоззрению. Это обстоятельство ведет к сильному расширению тематики исследования А. А. Бухарина. Автору приходилось исходить из характеристики тех явлений в общественной и идеологической жизни России XIX в., которые в нашей литературе не полностью еще изучены и не бесспорно охарактеризованы. Примером тому может служить кружок Станкевича или течение славянофилов. А. А. Бухарин занимает определенную позицию в понимании подобного рода явлений, высказывая порою интересные самостоятельные суждения. Однако при обширности и сложности тематики вполне естественно, что и ему не всегда удавалось найти завершенные и убедительные характеристики. Так, продолжает оставаться расплывчатой обрисовка кружка Станкевича. Не бесспорна и слишком обобщена характеристика славянофильства. Отсюда кажется не вполне убедительным истолкование отношения Боткина к славянофилам.
Мне представляется, что автор преувеличивает воздействие сенсимонизма на Боткина в соответствующий период его литературной деятельности, недооценивая признаваемый самим А. А. Бухариным факт, что основные стороны учения Сен-Симона оставались чуждыми Боткину.
Известные преувеличения, как мне представляется, содержатся в утверждении, что Боткин занимал «четкую антифеодальную позицию». В более умеренных тонах, и более точно, об этом говорится в заключительной части диссертации.
При сложности тематики такие не вполне удовлетворяющие места большого исследования А. А. Бухарина естественны. Решающее же значение для его общей оценки имеет то, что оно содержит в себе крупные, интересные и большей частью обоснованные выводы об общественно-политической позиции русской крупной буржуазии в XIX веке, о чем в науке до сих пор не имелось достаточной ясности, и эта аналитическая сторона исследования хорошо сочетается с обширным, во многом заново добытым фактическим материалом.
На основании сказанного выражаю свою уверенность в обоснованности присуждения А. А. Бухарину ученой степени кандидата исторических наук».
Прошло двадцать восемь лет со дня появления этого документа, а я по-прежнему перечитываю его с интересом и удовольствием. Нет, дело не в тщеславии, а в глубоком удовлетворении от встречи с умнейшим человеком моей молодости – великим мастером не то чтобы эзопова языка, а скорее, эзопова мышления. Посмотрите, как спокойно и деловито ушел он в своем отзыве от цитатничества (всего два раза упомянул Маркса и Ленина) и погрузился в анализ фактов!
Я благодарен судьбе за дружбу с этим ученым, ибо прекрасно понимаю, что именно такие, как он, не позволили остановиться сердцу исторической науки.
Что касается сделанных Рындзюнским замечаний, то они большей частью абсолютно справедливы. Более того, считаю, что мой оппонент был слишком великодушен и «не заметил» главного недостатка: вульгарно-социологического духа диссертации.
В молодости палитра оценок, которыми я руководствовался, не знала переходов и полутонов. Я судил – как с плеча рубил: коли ты буржуа, то, следовательно, и либерал. Сегодня, осмысливая прошлое, вношу коррективы.
И в дореформенной, и в пореформенной России среди буржуа людей, охваченных огнем свободы, было мало. Следовательно, главным источником либерализма Боткина явился не национально-сословный менталитет, а художественное наследие веков и опыт западноевропейской индустриальной цивилизации. Вполне естественно поэтому, что я днем с огнем искал и не находил (или находил очень мало) следов участия торгово-промышленного сословия в подготовке и реализации крестьянской реформы.
Очень дорого заплатило это сословие за свой вековой сон, за слепой патернализм в отношениях с русской государственностью. Вихрь черного октября 1917-го не только развеял патриархальные иллюзии русских «Форсайтов», но и смел с лица земли русской их самих. Через семьдесят лет они начнут возрождаться и снова повторят старую драму. И сегодня у большинства «новых русских» сверхзадачей являются прибыль и сверхприбыль, экономический интерес, а не духовная самореализация, не достижение целостности бытия, и об извечной борьбе человека со зверем в человеке они вряд ли задумываются. Голос русских предпринимателей-подвижников: Полевого, Боткина, Мамонтова, Морозовых, Второвых, Шанявского, Коновалова, Сибирякова – в России до сих пор не услышан.
Уверен: мой ведущий оппонент Павел Григорьевич Рындзюнский с энтузиазмом и с пользой для науки включился бы в дискуссию на эту тему, доживи он до наших дней.
Между тем вопрос со вторым оппонентом решился неожиданно и очень просто: им согласилась быть Ирина Ивановна Романова.
В своем отзыве она осталась верна себе, сделав резкое замечание о необходимости более подробного и деятельного обзора источников. Разумеется, как историк русского западничества, она приветствовала мое обращение к В. Боткину, оценила этюд о Н. Полевом, но скептически отнеслась к разделу о кружке Н. Станкевича и, как и следовало ожидать, возразила моим оценкам славянофилов, полагая, что я слишком сближаю их с буржуазными либералами.
Не без оснований посетовала она на отсутствие в диссертации целостного представления философско-исторических и общественно-политических взглядов В. Боткина, однако дала высокие оценки главам о семье Боткиных и об эволюции торгово-промышленного русского капитала.
Не стремясь конфликтовать с господствующей идеологией, Ирина Ивановна подчеркнула неоправданное расширение мною прогрессивного периода русского либерализма и ограничила его исключительно дореформенной эпохой.
«В целом диссертация, – писала оппонент в заключении, – является очень интересным и полезным исследованием, заполняющим пробел в нашей исторической литературе. Автор ввел в научный оборот обширные новые материалы из архивов. Отдельные недостатки работы связаны с общей неразработанностью большой проблемы истории русского буржуазного либерализма. Исходя из вышесказанного, считаю, что А. А. Бухарин заслуживает ученой степени кандидата исторических наук».
Общий одобрительный тон двух приведенных отзывов воодушевил меня. Правда, окрыляющее чувство уверенности в себе ослабевало при воспоминании о том, как мою дипломную работу о Боткине разделал под орех Владимир Евгеньевич Иллерицкий.
Жажда «сатисфакции» подогрела амбиции, и я, заручившись письмом ученого совета, отправился в Москву.
Открываю дверь кабинета. Навстречу мне – профессор собственной персоной. Придержал шаг, не скрывая недоумения, спросил с прежней леденящей вежливостью:
– Что вам угодно?
– Вот, привез диссертацию о Боткине и просьбу ученого совета дать внешний отзыв.
Иллерицкий долго смотрел на меня, силясь припомнить, и наконец, осененный, воскликнул:
– A-а, о Боткине! Так вы все-таки приехали?! Какой молодец!
Взял рукопись, предложил сесть, а сам тут же углубился в чтение. Минут через пять оторвался от страниц и неожиданно предложил:
– Едем на дачу!
Поехали.
Не помню сейчас, на какой станции Ярославской железной дороги мы вышли и направились к густому, темному лесу, где в окружении бронзовых сосен стоял небольшой деревянный домик.
Два дня я наслаждался сосновым ароматом, гулял, а по вечерам слушал рассказы Владимира Евгеньевича о… жене!
Она сидела, мило улыбалась и подтрунивала над своим седым идальго. Суровый критик оказался отнюдь не правоверным марксистом, любящим все человечество, а вполне нормальным смертным, жившим, в основном, для любимой женщины. Пожалуй, это был главный урок Иллерицкого.
12 мая 1972 года я держал в руках готовый отзыв кафедры истории СССР досоветского периода Московского государственного историко-архивного института и торопливо читал его. Для меня это был час постижения человечности и истины.
Я был уверен, что историограф непременно обратит внимание на пробелы в обзоре литературы и не согласится с моими оценками славянофилов. Так оно и вышло. Но вышло и другое. Несмотря на жесткость, даже резкость в оценке недочетов, Иллерицкий обнаружил удивительную способность видеть за недостатками достоинства, прозревать за словесной, порою невнятной, шелухой сущность живой и ценной научной мысли.
Однако лучше вновь обратимся к оригиналу. Иллерицкий писал:
«Диссертация А. А. Бухарина посвящена теме, имеющей безусловное научное значение как вследствие ее слабой изученности, так и в силу того, что она примыкает к большой и сложной проблеме русского исторического процесса – проблеме исторической роли русской буржуазии и особенностей ее идеологии.
…Структура диссертации А. А. Бухарина хорошо продумана и позволяет автору достаточно полно и основательно раскрыть избранную тему. Введение к диссертации характеризует научное значение темы, ее проблематику, историографию и источники. Пробелом введения, по нашему мнению, является отсутствие критического анализа зарубежной литературы по вопросам, рассматриваемым в диссертации.
…В первой главе диссертации раскрывается процесс формирования мировоззрения В. П. Боткина и его истоки. Важной особенностью анализа этого вопроса автором диссертации является его комплексное, всестороннее изучение, при котором различные стороны мировоззрения В. П. Боткина рассматриваются во взаимосвязи, с выделением определяющих процессов развития социальных противоречий в России 20-30-х годов прошлого века. Интересно прослеживается в первой главе воздействие на мировоззрение В. П. Боткина идей Сен-Симона, влияние деятельности Н. А. Полевого, круга Станкевича-Белинского. Уже в этой, вводной по-своему значению, главе автор стремится определить буржуазную природу либерализма В. П. Боткина (в отличие от дворянского либерализма), с его прогрессивными для 20-30-х годов прошлого века чертами и классово ограниченными особенностями.
Отмеченная основополагающая для раскрытия всей темы диссертации тенденция более подробно и основательно раскрывается автором во второй и третьей главах диссертации, посвященных анализу мировоззрения В. П. Боткина соответственно в 40-х и в конце 50-х годов XIX века. Гранью между ними справедливо выдвигается революция 1848 года в Западной Европе. В этих главах характеризуются общественно-политическая позиция Боткина в начале 40-х годов, его участие в полемике западников со славянофилами, а также начала размежевания буржуазных либералов, в их числе В. П. Боткина, с революционными демократами.
В завершающей, третьей, главе диссертации прослеживаются идейная эволюция Боткина как буржуазного либерала после революции 1848 года в Западной Европе, постепенное «выветривание» его оппозиционности в эпоху «мрачного семилетия» и особенно в 60-е годы, ознаменованные польским восстанием 1863 года, его смыкание с дворянскими либералами и укрепление реакционных черт его мировоззрения в борьбе с революционными демократами. Диссертант справедливо усматривает в этих особенностях В. П. Боткина отражение эволюции буржуазного либерализма в России.
Слабыми сторонами второй и третьей глав являются, по-нашему мнению, некоторая переоценка черт оппозиционности и прогрессивности воззрений славянофилов и недостаточное освещение исторических воззрений В. П. Боткина. Указание автора на комплексность разработки темы и опасность «искусственного создания системы взглядов» не снимает наших замечаний.
…В последней главе диссертации следовало в большей мере раскрыть связи В. П. Боткина с буржуазными кругами его времени. Отдельные части диссертации, посвященные русской буржуазии и ее идеологии в середине прошлого века, выглядят изолированно по отношению к характеристике воззрений В. П. Боткина.
Наконец, в той же главе было необходимо более широко и убедительно показать связь буржуазных взглядов В. П. Боткина с последующим развитием буржуазного либерализма в России в пореформенные десятилетия и в период империализма.
Диссертация содержит обоснованные выводы как по отдельным главам, так и по исследованию в целом. Работа читается легко и с интересом, в ней мало стилистических погрешностей.
Диссертация А. А. Бухарина была обсуждена на заседании кафедры истории СССР досоветского периода Московского государственного историко-архивного института 11 мая 1972 года. На основании обсуждения кафедра пришла к заключению, что самостоятельная разработка сложной темы, привлечение новых источников и их умелая критическая обработка, обширная эрудиция диссертанта, его методологическая подготовленность и значительный вклад в научное исследование важной проблемы дают все основания для присуждения А. А. Бухарину ученой степени кандидата исторических наук».
Не скрою: этот отзыв, несмотря на его гораздо большую критическую направленность по сравнению с двумя предыдущими, был мне особенно дорог. Сам Иллерицкий поверил в меня! Сам Иллерицкий дал мне добро на защиту! Я сходил с ума от нетерпения. Я рвался в бой.
Когда удалось решить все организационные вопросы, кафедра определила точную дату защиты. Она состоялась 3 июня 1972 года.
Анализируя ее и многие, многие другие, на которых мне довелось присутствовать, я пришел к твердому убеждению: защита диссертации должна быть свободной, несвязанной с десятками и сотнями формальностей, сковывающих диссертанта по рукам и ногам. А то ведь нередко получается, что легче написать новую работу, чем подготовить имеющуюся к защите. Это во-первых. А во-вторых, результатом защиты диссертации должно быть повышение престижа и расширение круга поисковых возможностей ученого – не более того. Нужно освободить процесс защиты от меркантильного личного интереса соискателей, то есть отказаться от доплат за ученое звание и ученую степень. Платить надо за мастерство, талант и опыт, за востребованность человека в той сфере деятельности, которой он посвятил свою жизнь. Тогда и наука станет нравственно чище, и настоящих ее сподвижников будет больше. Кто знает, сколько русских людей были бы избавлены от инфаркта, откажись чиновники от нелепой практики оценки труда ученого?
Для выступления мне снова дали пятнадцать минут. Что можно было сказать за это время? Тем более о либерализме, искажавшемся волею идеологов на протяжении десятилетий?
Я, конечно, не говорил о фальсификаторах и сделал вид, что исследуемая мною тема просто не до конца изучена. Все понимали, что дело обстоит не так и что история изучения либерализма полна чудовищных издержек. Образно говоря, на протяжении всего своего выступления я явственно ощущал негласную солидарность аудитории с моим негласным выстраданным мнением.
К моему великому удивлению, голосование было единодушным: ни одного «черного шара». Не знаю, чем объяснить эту поддержку, но, вероятнее всего, она была формой выражения неприятия партийных идеологем.
А через два дня после защиты я попал в больницу. То была первая вылазка моей верной спутницы – гипертонии.
В состоянии вынужденного безделья после бурного предзащитного периода чувствовал себя неприкаянным, опустошенным и страшно радовался любой весточке с «большой земли».
Одним из первых на мою болезнь откликнулся Павел Григорьевич Рындзюнский:
«Дорогой Анатолий Андреевич!
Очень меня затерло делами, и все никак не мог написать Вам.
Спасибо за хорошее письмо, хочется знать, как здоровье. Вам еще слишком рано быть «с давлением». Это, вероятно, от перенапряжения накануне защиты. А теперь все прошло.
У меня остались хорошие воспоминания о воронежских днях. Я мало пообщался с воронежцами из университета, но в этом виноват сам – на короткий срок приехал. И потом – нелюдим. А по-моему, народ хороший. Очень приятная молодежь. Я с удовольствием пообщался с Мишей (Карпачевым) и Геннадием Михайловичем (Дмитриевым). Передайте им привет от меня, когда увидите.
Вероятно, Вы уже в отпуске, и это письмо не скоро получите. Я опять подтверждаю Вам: будем рады видеть Вас у себя в Москве со всем семейством.
Я тут провинился: запамятовал отчество Вашей супруги. Знаю, что она, как и моя жена, Валентина. Большой ей привет и благодарность за хлопоты в тот день. А ведь он прошел хорошо, и Вы были великолепны! Так и держите.
Хочется знать о Вас все в подробностях. Давайте не прерывать дружеские связи.
Всего хорошего!
19.06.72 года, Москва.
П. Рындзюнский».
Храню это письмо в своем личном архиве как драгоценный дар памяти о человеке большого ума и щедрой души.
Будучи в больнице, я сообщил подробности защиты Сергею Сергеевичу Дмитриеву – профессору Московского университета, давшему отзыв на мою диссертацию и сыгравшему огромную роль в становлении моих либеральных взглядов. Его письмо также порадовало меня в моем заточении и вместе с тем заставило глубоко переживать.
После искренних поздравлений с победой в начале письма Сергей Сергеевич, со свойственной ему прямотой, отругал меня за «игру в слова» в моем автореферате. Под «игрой» он подразумевал мое стремление потрафить официозной идеологии посредством выискивания в мировоззрении В. П. Боткина «элементов материализма».
Я хорошо понимал правоту моего мудрого наставника, но вместе с тем понимал и то, что не вина, а беда моего поколения историков в приверженности нормативному мышлению. Руку на сердце положа, я бы оценил это явление как трагедию нашей историографии. Апологетика атеизма, материализма и партийности оценивалась в дни моей молодости как научная доблесть, и ни о каком диалоге сознаний нельзя было помышлять. Но если в изучении прошлого все-таки можно было найти острова свободной мысли (особенно в сфере всеобщей истории и истории Древней Руси), то в учебном процессе образовательных учреждений всех рангов царил непререкаемый диктат партийного начала. Удержаться на преподавательской должности в вузе можно было только следуя рецепту Омара Хайяма:
- Если ты будешь в обществе гордых ученых ослов,
- Постарайся ослом притвориться без слов,
- Ибо каждого, кто не осел, эти дурни
- Обвиняют немедля в подрыве основ…
После защиты я готовил себя к чтению курса истории досоветской России, а вынужден был читать историю КПСС в Воронежском лесном институте. Получить место преподавателя истории России в этом славном городе было практически невозможно, и оставался только один путь – уезжать в Сибирь, где мне предлагали вакансию. Но тут вмешалась женщина.
Моя верная Валентина просила, умоляла со слезами на глазах не покидать «сытый» Воронеж, не менять насиженное место на голодную, холодную Сибирь. «Я всю жизнь, как нитка за иголкой, шла за тобой, – говорила она, – разделила все трудности, а теперь ты хоть один раз уступи мне!»
Что я мог возразить? Валентина была права: получили квартиру, защитил диссертацию, можно бы и «пожить»… И я уступил.
Это была не ошибка – это была самая настоящая измена самому себе.
Поначалу еще жил иллюзией о возможности читать курс необезличенным, не выбрасывая из него сведения о неугодных, неудобных власть предержащим личностях и событиях. Но политика диктата, духовного геноцида была жесткой и неумолимой.
Пытался смягчать бдительность партийной цензуры с помощью литературы и искусства. «В конце концов, – рассуждал я, – и историю КПСС делали люди, и о каждом из них надо ведь тоже по-человечески писать и говорить». Такие попытки мне милостиво прощали, чем я и «гордился»-насколько позволяла совесть.
Но как быть с миллионами замученных, как закрыть глаза на кровавую роль Советов и КПСС в многострадальной истории моей Родины, как при моем знании прошлого соловьем петь дифирамбы партийным палачам – этого я не знал. На мой взгляд, ни самая совершенная методика, ни талант лектора, ни искусство слова не могли в такой ситуации спасти человека чести от позора проститутки высшей научной квалификации.
Вообще, жить всегда тяжело, ибо жизнь – это вечная трагедия, а мечтать о солнечном потоке счастья – утопия. И надо иметь большое мужество жить, чтобы страдать и идти к своей последней березке.
От страдания не избавлен никто, но можно завершить очередной круг своей судьбы личностью или в стаде. Я оказался в стаде. Видел суету, погоню за степенями, за славой – то была жизнь рабов.
Для открытого бунта у меня не хватило ни мужества, ни сил. Повторить подвиг Солженицына я, как и многие другие, не мог и предпочел «внутреннюю эмиграцию». В переводе с турецкого на русский это означало: периодически уходить от действительности с помощью зеленого змия – вина.
И вот однажды я встретил в центре Воронежа моего любимого учителя Анатолия Евсеевича Москаленко. Он поинтересовался, где я работаю, а получив ответ, сухо попрощался и не подал мне руки.
Это было последней каплей, и я уехал на Урал, надеясь на перемены в своей судьбе.
Догнать в себе человека!
Сегодня, по прошествии почти трех десятилетий, я обозреваю из уральского далека пережитое и понимаю до боли явственно: Воронеж был золотой купелью моей молодости, Воронеж выковал мой дух, и если есть во мне святой порыв к честному, бескорыстному служению науке – этим я обязан Воронежу.
А мои послезащитные «хождения по мукам» в Воронеже начались, да не в Воронеже закончились. И тем, что порою они требовали запредельного напряжения всех сил, я тоже обязан славному городу в сердце России. Он разбудил во мне тоску по идеалу, а в России с идеалами, чтобы выстоять и состояться, надо, по зрелому размышлению, пройти все круги ада.
Беда же моя была в том, что я много думал и писал о личности, но сам не стремился «догнать» в себе Человека. То была главная причина, а все остальное – только следствия.
Думаю, это не только беда моя, но и вина. Почти десять лет я постигал смысл истории, ее философию и не понял главного – синтеза временного и вечного, конечного и бесконечного. Если бы я не витийствовал, а действительно слышал за своей спиной гул прошлого, чувствовал на своих плечах тяжесть веков, то пошел бы до конца и нашел бы способ выйти из той судьбы-ситуации, в которой очутился. Я же оказался по-человечески слаб в борьбе с окружающими догматиками и догматизмом в себе самом.
Нельзя играть с историей, ибо историк – это не просто профессия, а состояние души человеческой. Значит, мне еще рано было мечтать о своей полночной сове Минервы. Но я стремился к ней всей душой, и в этом священном стремлении мне тоже помог Воронеж. Воронежский университет дал мне уникальные знания, а воронежская литература разбудила чувство Слова и через него – чувство собственного существования. Именно здесь моими вечными спутниками стали Тихон Задонский, Алексей Кольцов, Иван Никитин, Иван Бунин, Андрей Платонов. Впоследствии они окажутся едва лине полезнее университета.
Серебряный век русской литературы мне открыл писатель и журналист Петр Стрыгин.
Помню теплый воронежский вечер. Пылали огнем сады и бульвары в роскошных нарядах осени. На дворе было 18 сентября 1972 года от Рождества Христова. Мы с моим закадычным другом – «народником» Геннадием Дмитриевым – шли в кафе и мечтали напиться до чертиков. Повод был: в этот благословенный день мне исполнилось тридцать шесть лет. И вдруг Бог весть откуда на голову нам свалился неунывающий, вечно улыбающийся Стрыгин – «золотое воронежское перо». Я пригласил его преломить с нами хлеб.
Пришли. Сели. Заказали «Токайское». И когда подняли бокалы с искрящимся вином, Петр взял слово:
– Ты застал меня врасплох. Я не приготовил тебе подарка, но он всегда со мной. – Тут он сунул руку в карман, однако вместо подарка вынул носовой платок, прочистил нос и, откинув русую прядь с чистого, высокого лба, продолжил: – Я подарю тебе Гумилева!
Я слышал имя поэта, но читать не довелось. Как и большинство моих соплеменников, я пил культуру из разбитых бокалов прошлого. Погруженные в глубокий сон догматизма, мы боялись, как черт ладана, запрещенных имен, но по мере того, как урывками открывали удивительный старый мир, постепенно взрослели и учились избавляться от страха. Думаю, что не особенно преувеличу, если скажу: возраст человека в эпоху социализма определялся не календарными годами, а количеством книг, в которых он прочел правду о прошлом.
Между тем Петр начал читать, и в маленьком ресторанчике воцарилась мертвая тишина. Замерли с подносами официантки, и даже матерые жлобы перестали жевать и пить. Низкий голос Стрыгина заворожил всех. Он читал знаменитое «Шестое чувство»:
- Прекрасно в нас влюбленное вино,
- И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
- И женщина, которою дано,
- Сперва измучившись, нам насладиться.
- Но что нам делать с розовой зарей
- Под холодеющими небесами,
- Где тишина и неземной покой, —
- Что делать нам с бессмертными стихами?
- Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать —
- Мгновение бежит неудержимо.
- И мы ломаем руки, но опять
- Осуждены идти все мимо, мимо.
- Как мальчик, игры позабыв свои,
- Следит порой за девичьим купаньем
- И, ничего не зная о любви,
- Все ж мучится таинственным желаньем,
- Как некогда в разросшихся хвощах
- Ревела от сознания бессилья
- Тварь скользкая, почуя на плечах
- Еще не появившиеся крылья, —
- Так, век за веком: «Скоро ли, Господь?!» —
- Под скальпелем природы и искусства
- Кричит наш дух, изнемогает плоть,
- Рождая орган для шестого чувства.
Ни до, ни после мне не дарили такого чудесного подарка. В тот осенний задумчивый вечер у меня появился новый вечный спутник – Николай Степанович Гумилев. Боже мой, сколько я посетил букинистических магазинов в Воронеже, Ленинграде, Москве, пока не отыскал заветные томики его стихов! Они всегда на виду в моей домашней библиотеке: «Жемчуга», «Колчан» и знаменитый «Огненный столп», появившийся после расстрела поэта в 1921 году.
От Гумилева начались тропинки к Иннокентию Анненскому, Константину Бальмонту, Анне Ахматовой и другим звездам серебряного века. Это было начало погружения в мир художественного познания исторического бытия.
Опытным лоцманом в этом мире был П. Г. Рындзюнский. Он открыл мне Льва Толстого. Конечно, я, как и все советские школьники, знал и зубрил тексты великого классика, но человеческий его лик стал мне доступен именно благодаря Рындзюнскому.
Я писал, что отец Рындзюнского в молодости служил одним из секретарей писателя. Вот почему и Павел Григорьевич, и его жена Валентина Альфредовна были примерными вегетарианцами. В науке же Рындзюнский всю жизнь занимался экономической историей и имел дело только с пудами, аршинами, верстами. По первоначальной переписке мне даже казалось, что он начисто лишен чувств и способности к образному мышлению. Однако я неверно истолковал его сухой, лаконичный стиль, за которым скрывались точность и краткость человека, привыкшего мыслить логическими категориями.
Однажды я навестил его в больнице Академии наук на Вавилова. Был полдень. Приоткрыл дверь в палату и увидел дремлющего Павла Григорьевича. В руках, лежавших на синем байковом одеяле, покоился томик Льва Толстого. Заслышав шаги, старик поднял голову и кивнул на стул.
– Что вы читаете? – поинтересовался я скорее из вежливости – чтобы начать разговор.
– «Хаджи-Мурата». Великая повесть. Она стоит всех книг психологов о тайне человеческой жизни.
И полился рассказ о давно ушедшем времени, о людях. Он-то и стал первоначальным толчком для моих размышлений о соотношении исторического и художественного в познании прошлого – проблеме, которой я занимаюсь по сей день.
Забегая вперед, скажу: отечественная историография (в первую очередь, советская) всегда относилась с большим недоверием к художественным открытиям писателей, демонстрируя свою преданность рационализму. Это грустно, ибо научное познание – далеко не единственный способ постижения сущности человеческого бытия. Есть еще Вера. Есть искусство! И надо крепко подумать, прежде чем ответить на вопрос, какой из способов дал больше результатов. Наверное, если вспомнить Шекспира, Пушкина, Достоевского, то ответ будет однозначным.
Кстати, именно литературе мы обязаны постижением правды социалистической эпохи. Я имею в виду повести Андрея Платонова, романы Александра Солженицына и Василия Гроссмана, огненные стихи Ахматовой, Пастернака. Не говорю уже о прозе Шаламова, Домбровского, Аксенова. Пока историки просыпались и распускали нюни, жалуясь на недоступность источников, поэты и прозаики обращались к живому документу – человеку и создавали великие полотна исторической правды о времени и о себе.
Я сохранил чувство благодарности Воронежскому университету, берегу память о нем и по-прежнему люблю родной исторический факультет. Но со временем главным моим университетом стали библиотеки, где правдами и неправдами я получал доступ к сочинениям Владимира Соловьева, Николая Бердяева, Льва Шестова и других могучих мыслителей русского Ренессанса. И я благодарен судьбе за то, что на тернистом пути постижения «подпольной» истины Слова рядом со мной были мои старшие друзья и товарищи, чью духовную силу я называю великой.
Кроме Стрыгина и Рындзюнского огромную роль в моем литературном воспитании сыграли профессор Московского университета Сергей Дмитриев и его ленинградский коллега Натан Валк. Первый открыл мне Ивана Бунина, второй – Пушкина. При этом замечательно, что и тот и другой, как и Рындзюнский, были историками, но историками Божьей милостью, наделенными удивительным даром самовыражения через Слово.
Уже потом, много лет спустя, я прочитаю у Мартина Хайдеггера: «Слово – это Дом бытия… Бытие, освобождаясь, просит Слова. Оно всегда говорит за себя». Гениально! Но до Хайдеггера эту истину знали и понимали гуманитарии старой формации. Усваивать ее им помогали опыт и традиции нарративной истории, получившей живое воплощение в трудах Карамзина, Ключевского, Костомарова и, конечно, Пушкина.
Карамзин открыл русскую историю, а Пушкин объяснил ее как драму российской национальной жизни, как вечное столкновение смыслов, препятствующее диалогу сознаний. Пушкинская философия истории – это философия личности, пробивающейся через «расцветающие века» к торжеству свободно творящей индивидуальности, но пушкинская свобода (мечта о свободе) ничего общего не имеет с анархической волей, на крыльях которой врывался в русскую историю «бессмысленный и беспощадный» бунт с жутким призывом: «Сарынь на кичку!». Бунт угасал, а его следы еще долго дымились кровью жертв и подавителей вольницы в полуазиатской стране.
Благодаря увлечению Словом, «врастанию» в Слово, я и не заметил, как строго научная тема моей диссертации стала сущностью моей жизни. Я действительно стал либералом по своим убеждениям. Когда упала с глаз моих «классовая» пелена, передо мной предстала поначалу ошеломившая меня картина: почти все талантливое, неординарное и гениальное в России было непримиримым противником революции и классовой борьбы.
Я никогда не подсчитывал количество либералов в Советском Союзе (подпольных, конечно), но я встречал их почти в каждом городе, куда меня забрасывала судьба. Нет, они не выходили на площади с лозунгами, не печатались в «самиздате» и «тамиздате», но они были везде: на кафедрах, в библиотеках, в НИИ. Это, как правило, были скромные, совестливые люди – представители той самой «внутренней оппозиции», о которой я вскользь уже упоминал. Я знавал учителей, которые на свой страх и риск читали ученикам Гумилева; встречал философов (Э. Ильенкова, М. Мамардашвили), не скрывавших приверженности идеализму; общался с историками (К. Тарновским, М. Гефтером), оспаривавшими абсолютизацию формационной теории. Действительность на каждом шагу подтверждала правду о неистребимости русского национального духа: у коммунистов никогда не было полной идеологической победы над инакомыслящими. И причина сокрушительного краха коммунистов в начале девяностых – в их чисто русском неприятии установки на диалог сознаний.
Единственное, чем могли похвалиться правоверные марксисты-ленинцы, – это половодьем двойной морали, двойной политики, двойной экономики.
Вспоминаю встречу с молодым, но уже известным в начале семидесятых историком либерализма Валентином Шелохаевым.
1971 год. Ленинград. Осень. Умаявшись от трудов праведных в архиве, мы ужинаем в маленьком, уютном ресторанчике-поплавке на Неве. Когда прошли по первому, второму и третьему кругу, у моего московского собрата по цеху загорелись глаза и он доверительно спросил меня: