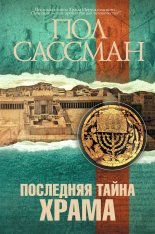Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии Бухарин Анатолий

Обед – святое дело! Сядет, бывало, в старое дедовское кресло, осенит себя крестным знамением и начинает потчевать. Сама Бог весть как питалась (поклюет птичкой – и сыта), а уж для гостей все выставляла: хлебца горой, огненный борщ, духмяные пироги с капустой, грибами, моченые яблоки, соленые арбузы, розовое сало и обязательно – запыленная бутылка наливки из бесчисленных темных углов. За таким столом и чарка соколом. Все богатство – со своего подворья, с крохотного клочка земли, где гнула старую спину от зари до зари.
Речь живая, звонкая, как светлый ключ. Я всегда восхищался чистотой и образностью ее языка.
Приходит как-то с базара и, распуская концы шали, говорит:
– Царица небесная, сколько сегодня миру-то, миру…
Я не понимаю: причем здесь мир?
Смеется:
– По-вашему, по-уральски, – народа много, народа.
А что? Прекрасное русское слово. Помните: «На миру и смерть красна», «мирские сходки»? Много, очень много слов растеряли мы на дорогах былого, гоняясь за Западом!
О русских женщинах, подобных моей теще, в старину говорили: «На рогожке стоит, а с ковра говорит». Покоряясь судьбе, она никогда не теряла достоинства. Людей не судила, любила шутки, и даже о немцах, занимавших дом во время оккупации, отзывалась с юмором: «Сердитые были, пока за стол не сядут».
Рыльск чуден в любое время года.
Весна. Звонкая, ликующая, она под яснозвонные рулады соловьев царицей идет по холмам, бросая на древнюю землю зеленые брызги трав и яркие созвездия цветов, а на заре, утолив жажду росой, обдает вас холодком цветущих яблонь. Не случайно именно здесь, на курской земле, у Афанасия Фета вырвались ликующие строчки:
- Какая ночь! На всем какая нега!
- Благодарю, родной полночный край!
- Из царства льдов, из царства вьюг и снега
- Как свеж и чист твой вылетает май!
О лете же никто не сказал лучше Тютчева:
- Какое лето, что за лето!
- Да это просто колдовство!
- И как, спрошу, далось нам это —
- Так, ни с того и ни с сего?
Не для украшения рыльской страницы припоминаний вспомнил о Фете и Тютчеве. До Рыльска, до Воронежа для меня оставалось непостижимой тайной появление блестящей плеяды гениев русской литературы на ограниченном пространстве: Москва – Тула – Брянск – Орел – Тамбов – Воронеж – Курск. И какие имена! Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Кольцов, Фет, Никитин, Тургенев, Лев Толстой, Достоевский, Куприн, Лесков, Бунин, Платонов… Не счесть цветов поэзии и музыки, дарованных миру курской землей!
Много лет подряд приезжая в древний город, любил я бродить по зеленым берегам Сейма, заросшим красноталом и бузиной, любил слушать предвечерье соловьев и созерцать вызолоченные закатом тихие плесы. И понял: если вы не сидели на спелой соломе под антоновкой, не смотрели на царственное шествие речных туманов в предвечернюю пору, не любовались через зеленую решетку листвы звездным небом, вы никогда не разгадаете тайны поэзии.
Да, можно иметь высочайшую культуру, писать толстые, умные книги о поэтике, но если в вас не заговорила громко кровь предков, вы останетесь блестящим, тонким, но холодным, как лед, пленником головного начала. Поэзия начинается с чувства, и постижение ее немыслимо без чувств.
То же самое – с историей. И здесь постижение начинается с голоса крови – с любви к родному пределу, к отчему наследию.
Незаметно, как бы невзначай, Мария Николаевна летним вечером (на парадном крылечке) или зимним часом (за чаем) припоминала и рассказывала о старом житье-бытье: о свадьбах и крестинах, о праздниках и ярмарках. Бесхитростные повествования сделали бы честь любому историку – так плотно они были населены живыми людьми. Для нее это мать и отец, сестры и братья, крестный и крестная, свекор и свекровка, деверь и золовка. Для меня же в ее родных и близких оживала другая, неведомая мне купеческая Россия.
Конечно, Мария Николаевна и не подозревала, какое смущение ума и какой стыд за свое невежество вызывали у меня ее путешествия в прошлое…
В Рыльске каждый камень дышит историей.
Двенадцатый век. Несчастливый поход Новгород-Северского князя на половцев. Строчки из Ипатьевской летописи:
«А в это время Игорь Святославич, внук Олегов, выступил из Новгорода месяца апреля в двадцать третий день, во вторник, позвав с собой брата Всеволода из Трубчевска и Святослава Ольговича, племянника своего, из Рыльска, и Владимира, сына своего, из Путивля. И у Ярослава попросил в помощь Ольстина Олексича, Прохорова внука, с ковуями Черниговскими. И так двинулись они медленно, на раскормленных конях».
Существует версия о рыльском князе Святославе Ольговиче как о вероятном авторе древнерусского художественного шедевра «Слово о полку Игореве».
Все перенесла рыльская земля: татаро-монгольскую ночь, литовские костры, коварство Речи Посполитой и княжеские распри. И лишь в 1522 году истерзанное чужими копытами рыльское удельное княжество стало под руку московского царя Василия Третьего.
Испытания продолжались и в московскую эпоху. Много рылян усеяли своими костьми дикое поле в схватках с крымским ханом, втяжкой Ливонской войне Ивана Грозного.
Не обошла Рыльск стороной и набухшая кровью великая смута начала семнадцатого века. 13 октября 1604 года войско Лжедмитрия Первого перешло границу и стало медленно продвигаться в русские пределы. Одни за другими сдавались крепости и города: Монастырский острог, Чернигов, Путивль. Пять недель шла борьба за Северскую землю, обещанную самозванцем польскому королю. В конце ноября Рыльск возроптал и пал к ногам Лжедмитрия, а за ним – Курск и Новгород-Северский. Прошла суровая зима удач и поражений – и царь Всея Руси, великий князь Дмитрий Иванович торжественно въехал на белом коне в желанную Москву. Однако счастье изменило смелому авантюристу. Отвернулось оно и от его жалкой копии – Лжедмитрия Второго. Даже Василий Шуйский не смог потушить пожара народного гнева. Последнее слово в этой трагической истории сказал именно народ, и наступила долгожданная тишина. Вчерашние враги, те, что волками выли друг на друга, собрались в январе 1613-го на великий Земский Собор и приговорили быть царем земли русской Михаилу Романову. Рыляне тоже приложили руку к утвержденной грамоте об избрании нового царя.
В Рыльске оставил свой след Петр Великий. Сохранился скромный домик, где провел несколько ночей царь-работник.
Помнит рыльская земля и печально знаменитого Мазепу. В эпилоге пушкинской «Полтавы» читаем:
- И тщетно там пришлец унылый
- Искал бы гетманской могилы:
- Забыт Мазепа с давних пор;
- Лишь в торжествующей святыне
- Раз в год анафемой доныне
- Грозя, гремит о нем Собор.
Да, следы исторического прошлого встречаются в Рыльске на каждом шагу. И какие следы! В окрестностях города и поныне здравствуют села Ивановское, Степановка, Мазеповка.
Долго точил гетман зубы на богатые земли Посеймья, где «оглоблю воткни – телега вырастет». Золотой сон сбылся: 13 декабря 1703 года грамота Петра Первого закрепила рыльские угодья за Мазепой. Тогда и были основаны селения, названные по имени, отчеству и фамилии владельца. Спустя два года в центре Ивановского поднялись роскошные дворцовые палаты.
В 1708 году, после измены гетмана, имения были подарены «полудержавному властелину» Александру Меньшикову, а после опалы светлейшего кочевали из рук в руки, пока не стали собственностью князей Барятинских. Новые хозяева продолжили дело с размахом, выстроив руками крепостных знаменитое Марьино – архитектурный шедевр восемнадцатого столетия.
Дворец Мазепы в Ивановском сохранился и поныне доносит до нас горячее дыхание времени. Немного воображения – и вы видите среди густой зелени парка ослепительно белые хоромы и седого старца с орлиным взором. Не здесь ли обдумывал он измену августейшему покровителю, щедро одарившему своего слугу? Не здесь ли мучительно ныли у него раны от царских обид?
Каждая встреча с городом открывала мне новую тайну и все глубже погружала в исторический поток.
В городском саду старенький седовласый учитель, показывая детям памятник Григорию Шелехову (рыльскому купцу – первооткрывателю Курильских островов и Аляски), говорил: «Рыльское купечество могло смело утверждать: «В свече русской культуры и нашего меда капля есть».
Кроме достославного Шелехова, из рыльского купечества вышел Иван Голиков – автор тридцатитомных «Деяний Петра Великого», которые изучал Пушкин, работая над своей рукописью о петровской истории.
Не пощадила Рыльск последняя война. Кто не знает знаменитой битвы на Курской дуге? До моего маленького Пласта докатывалось только эхо сражения, воплощенное в калеках, в неутешном плаче вдов по убиенным, а здесь сама земля поведала мне о народном горе.
Лесной ручей, тихий в летнюю пору и бурный весной, подмыл овражек и обвалил пласт чернозема. Я вгляделся – и содрогнулся: на дне обнаженного паводком окопа белели останки двух солдат: один в ботинках с обмотками, другой – в сапогах. Рядом автоматы ППШ, четыре «лимонки» и котелки с окаменевшей кашей. Бог весть, что случилось – то ли мина накрыла, то ли снаряд, – но остались два парня без вести пропавшими в рыльской земле.
Поутру бреду по просеке столетнего бора, но вместо всхлипа росистых трав слышу странные звуки: дзинь, дзинь, дзинь… Догадался: земля усыпана осколками, гильзами. Километра два прошел, и все время трава звенела и взывала.
Есть минуты, которые стоят десятилетий, и я их пережил в рыльском бору, где окончательно созрело решение: покидаю пределы философии и ухожу в исторические.
Я не знал, что меня ждут редкие счастливые минуты и годы каторжного труда. Но какое это имело значение? Свершилось главное: на древней курской земле я почувствовал себя русским.
И было больно, и было радостно.
1995
Старая ветла
Рассказы, зарисовки с натуры
Меченая громом
Весь день Лукерья провела на Михайловском кордоне. До обеда косила, а после ворошила сено. И как только заколыхался огненный веер заката, тронулась на прииск, таща за собой тележку со свеженакошенной травой. У Еремкина хутора решила перевести дух: села у родника, вытянула натруженные, больные ноги и, зачерпнув горстью ключевой воды, попила. Задумалась.
Лукерья разменяла седьмой десяток лет, на миг увидев короткое бабье счастье. Вот здесь, на хуторе, когда двор засыпал августовский звездопад, Афанасий бросил ее на копну душистого сена и назвал любушкой. Замуж выдали в одночасье. Скорехонько сыграли свадьбу – в разгар косовицы озимых, а на пятый день молодого казака прямо с брачной постели поставили под ружье, и где-то в Галиции германская пуля пригвоздила нареченного Богом к чужой земле. Навсегда.
Лукерья, постанывая, поднялась и, толкая тележку, пошла через пустошь к Сухому Логу. Нога ныла. Лукерья присела у бочаги, сбросила резиновые галоши, сняла шерстяные носки и окунула ступни в стоячую зеленую воду. Вроде бы полегчало, но тело ломила усталость, и, проковыляв не больше мили, Лукерья вновь решила перевести дух у старой, как и она сама, раскидистой ветлы. Не успела присесть, как лиловую, огромную тучу распорола молния, прогрохотал гром, а через секунду-другую зашумел ливень. Она перебралась под тележку и сжалась комочком.
Грозы и грома Лукерья панически боялась. В 1916-м, после гибели Афанасия, вот в такой же жаркий день в поле ее настиг гром. Отливали молоком черной коровы, разряжали в земле от шока, закопав по плечи. Выжила, но стала глуховатой и нелюдимой с тех пор.
Сухой Лог – проклятое место. В восемнадцатом белые расстреляли здесь деверя, а в девятнадцатом красные изрубили на куски приискового попа.
Ливень кончился, и Лукерья, разминая затекшие ноги, потащилась по грязи дальше. Шла и с испугом оглядывалась: над пустым сырым Логом мигали два огонька. Или показалось?
Уже вызвездило, когда Лукерья подкатила тележку к дому. Опустилась на крылечко старой пятистенки и смотрела на свой возок, раздумывая: то ли сейчас разбросать на повети, то ли до утра оставить? Наконец взяла вилы и, напрягая уставшие руки, принялась за дело, а когда закончила, пошла будить племянника – восьмилетнего Прошку, сторожившего избу.
Мальчишка спросонья не понимал, чего от него хотят, пялил глаза на тетку, а Лукерья просила:
– Помочись! Помочись!
Прошка сообразил, вмиг наполнил посудину светлой струйкой и снова улегся. Лукерья опустила ноги в детскую мочу, ласково глянула на своего «домашнего доктора». Отдохнув, развела костерок под таганком, разогрела зеленые щи, похлебала и, кряхтя, стала укладываться на холодную вдовью кровать.
Не спалось. Разорванные в клочья воспоминания теснились в старой голове, гудели голосами, мелькали лицами, то вызывая боль, то отпуская ее. Ноги отошли, и она снова, теплея сердцем, посмотрела на лавку, где в темноте сладко посапывал малец.
Вспомнила зимнюю стужу 1936 года. Она с женой брата катит в кошовке из родной Борисовки на чужой прииск и недобро косится на разрумянившуюся сноху, наблюдая ее мученья с грудным ребенком – Прошкой, а потом не выдерживает и простуженным голосом хрипит:
– Анисья! Да придуши его подушкой – хватит вам нищету-то плодить!
Сноха, расширив глаза от ужаса, крепче прижимает ребенка к груди и всю дорогу не поворачивает головы, пока на прииске их не встречает Иван.
Вспомнив, Лукерья поджала мстительно губы: «Настырная! Восемь ребят, а им было все мало!» И уже без злобы подумала: «Вот и увидела свет в копеечку: Иван помер – Царствие ему Небесное, старшего убили на финской – и ему Царствие Небесное, а она мается с пятью ртами – где сена клок, а где вилы в бок. И то… Не хотела спать лежа, теперь пусть спит стоя».
То ли смерть Афанасия, то ли гром, то ли голод двадцать первого, но самой Лукерье ее душа уже давно казалась выжженной пустыней. Бывает и такое. Хотя это как посмотреть. Ведь была же и у нее в жизни своя зеленая веточка – единственный сын, Ваньша. Но захлестал кровью сорок первый, и «веточку» эшелоном отправили на Запад.
Жив ли? Вестей-то нет.
Намедни соседка Горшиха получила похоронку на своего Егора и окаменела, бедная, от горя: ни ест, ни пьет, а сидит истуканом и молчит.
– Уж ты повой, Машуха, повой, – говорили ей, а она, закрыв голову платком, только покачивается из стороны в сторону. Когда наконец закричала и забилась, сердечная, в истерике, все ахнули: голова Горшихи стала белой.
Засыпая, Лукерья вспомнила слова покойной матери: «Ох, Лушка, не видала ты ишшо нагой-то бабы в крапиве». Ну, теперь повидала, и не одну.
Поутру забежала двадцатидворка и затараторила:
– Базированных хохлушек привезли, счас будут распределять на постой. Беги, а то сунут какую-нибудь ошибку Бога.
Лукерья не медлила и, припадая на больную ногу, заковыляла к автостанции, от которой уже потекли ручейками бедолаги из далекой Украины. Подошла и стала приглядываться. Глаз положила на рыжую голубоглазую девку. Та сидела с узелочком на приступочке крыльца и сиротливо озиралась вокруг.
Сердце Лукерьи екнуло: «Хороша будет невеста для Ваньши, ежели вернется».
Уполномоченный горсовета без разговоров передал беженку из рук в руки.
Истопили баню, нагнали жару старым кизяком, а потом долго мылись, промывая волосы щелоком. Оксана – так звали незваную гостью – стыдилась своего тела, исхудав на дорогах войны, но Лукерья наметанным бабьим глазом угадала и будущую женскую стать, и красоту, о которой говорили тугая волна волос и робкие всплески синих глаз. Ан вправду, не прошло и лето, как Оксана на картошке и молоке выправилась, завиляла крутыми бедрами, задразнила высокой грудью.
Молодости все нипочем: ни тяжелая работа, ни короткий сон. Украинская сирота справлялась и с вагонетками, нагруженными рудой, которые она катала в забоях шахты, и с сухим бурением – чисто мужской работой. Ко всему прочему, девка оказалась сметливой, расторопной. К концу войны работала уже начальником смены, осилив школу мастеров, и дома творила чудеса с огненным борщом, варениками, уборкой и стиркой. Лукерья не могла нарадоваться.
День 9 мая выдался на прииске холодным, слякотным.
Прошка с дружками отплясывал Победу в лужах, развешивая на шахтерских бараках самодельные флажки из красных наволочек, а дома, по случаю великого дня, уминал куски белого хлеба вместо черных оладий из мороженой картошки.
В конце июня вернулся Ваньша. Кожа да кости – вот все, что осталось после госпиталя в довоенном силаче, ставившем пивные бочки на прилавок чайной. Не человек, а тень, о которой бабы-горнячки говорили, смеясь: «Нос картошкой, хрен гармошкой».
Лукерье было не до шуток. Отпаивала травами, откармливала кашей из лузги. Иногда баловала и мясом. А перед Яблочным Спасом, достав из сундуков припрятанные на черный день припасы, наварила браги и закатила свадьбу молодым – Ваньше с Оксаной.
С тех пор зажила в радостном томлении, ожидая внуков. Однако проходил год за годом, а заветного крика новорожденного старая изба не слышала.
И стала Лукерья примечать, что невестка сохнет, сын – чернее тучи. Смекнула старая: Ваньша вернулся с фронта пустоцветом. Что ж, за Победу надо платить будущим?..
Но если женское счастье не гналось за Оксаной, то славы и почета – хоть отбавляй. К концу сороковых бывшая каталь и бурильщица заняла пост заместителя начальника шахты.
Теперь Прошку с матерью дальше сеней золовка не пускала. Из кухни неслись запахи жареного мяса, печеного белого хлеба, от которых кружилась голова. Лукерья выносила им остатки гречневой каши, бараньего бока, куски пирога – и, как говорится, с Богом! Ан вдруг тетка загрустила, стала чаще наведываться к Анисье, а по субботам уходила в родную деревню. Между тем в доме по ночам горел свет.
По улице поползли темные слухи, но Лукерья вида не показывала.
Да и Ваньша как будто ничего не видел, неделями, а то и месяцами пропадая в дальних поездках за крепежным лесом. Ухамаздается за баранкой, дотащится до порога, хлебнет стакан водки и заваливается спать, а чуть свет – снова в дорогу.
И вот однажды Прошка, по обыкновению, забренчал ведерком по переулку, спеша к тетке за картофельными очистками, которыми она одаривала вечно голодных племянников и племянниц. И то сказать: счастье великое после гнилой картошки, выкопанной из-под талого снега. Прибежал к крыльцу, а заветной корзинки нет. Он в сени, на кухню – нет! Стал тихонько звать, но Лукерья как сквозь землю провалилась. Заглянул в горницу – и обомлел: на огромной кровати в объятиях начальника шахты Варлама Походяшина сладко стонала сноха Лукерьи Оксана!
Ничего толком не поняв, мальчишка с ужасом выскочил за калитку и пулей понесся от дьявольского дома. Летел, а за спиной слышал топот и тяжелое дыхание тетки, как лошадь, во весь опор мчавшейся за племянником.
Догнала, завернула цыплячью шею и выдохнула, выпучив глаза:
– Че видел?!
– Ничего не видел!
– Не-ет, видел!
– Не видел! Ей-богу, не видел! – и заплакал.
Лукерья сунула руку в глубокий карман поневы, вытащила горбушку черного хлеба, подала ему, а сама, переваливаясь уткой, пошла к Анисье. Они о чем-то долго говорили вполголоса, поглядывая на замершего пацана.
Когда Лукерья, еще раз заглянув в глаза племянника, ушла, Анисья подозвала сына:
– Ты правда ничего не видел?
Прошка отвел глаза, а мать умоляюще попросила:
– Если и видел, молчи! Вырастешь – узнаешь, какая жестокая и загадочная штука жизнь.
Многое могла бы рассказать вдова своему поскребышу: и о снохачестве в деревнях, и о грехах тещи с зятем, и о том, как военнопленный немец, убивший русского солдата под Курском, делил кровать с его невестой. А вот чтобы свекровь принимала любовника снохи, затуркав сына, – такого Анисья еще не видела, и сердце ее заныло, как ныло в далеком тридцать шестом, когда Лукерья советовала ей придушить Прошку подушкой.
Улица наблюдала за драмой в доме Лукерьи – шила в мешке не утаишь – и была поражена диковинными переменами: Ваньша и Варлам задружили домами, а Оксана родила сына – вылитого Походяшина.
В час, когда крикнул малыш, Ваньша был в лесу, палил из двухстволки, пил брагу и ревел, как белуга. Так рассказывали. Прошка же никогда не видел его слез, зато видел, как он вез Оксане корзину диких роз. Женщины жалели, мужики презрительно цедили: «Рогатый». Ваньша не обращал внимания на пересуды.
Развязала узел сама Оксана: купила домик и ушла с сыном, а следом за ней – Лукерья.
– Она не только сноха, но и дочь, – так объяснила золовка Анисье свой уход.
Ваньша нанялся лесником и перебрался на кордон. Прошка вырос и уехал учиться в Москву…
Много лет спустя старший мастер третьего обжимного цеха Магнитогорского металлургического комбината Прохор Иванович Артемьев приехал навестить родных.
Сидели с Ваньшей в горнице и поминали тех, чьи светлые души давно отлетели: Анисью, Лукерью и Оксану.
Брат сдал. Раньше, бывало, целый день на ногах, как конь строевой, а сейчас… День цветет – неделю вянет, но по-прежнему под седыми бровями горят жарким огнем черные глаза.
– Что случилось с Оксаной? Почему она рано умерла?
– Силикоз. Когда заболела, я перевез ее с матерью в старый дом. Умирала на моих руках, просила прощенья и повторяла, что любит меня и только меня.
– Странная любовь. Спать с одним, любить другого?!
Ваньша закурил. Долго молчал. Потом поднялся, отодвинул наполненный стакан:
– С природой не поспоришь. Война меня искалечила, а она хотела ребенка. Нельзя бабу лишать права быть матерью. Я умолял ее не уходить. Ушла. Чистая была.
И вышел в сени, аккуратно прикрыв за собой дверь.
1999
Улым
(Былое)
Давно я не был на этой маленькой железнодорожной станции. Теперь из Челябинска в Пласт прямым маршрутом ходит автобус, а раньше, лет сорок назад, мы добирались до райцентра поездом, а потом на попутных машинах – до родных осин. Бог весть, сколько раскулаченных, осужденных «тройками» земляков утащили в «телятниках» на Север и Восток паровозы. А сколько тысяч увезли эшелоны на фронт?
Не раз с замиранием сердца приближался я к родной Увелке, возвращаясь с Сахалина или из Ленинграда, радуясь знакомым до боли гулким березовым перелескам, оживляя в памяти истертые временем лица.
На свете правит балом случай. Он-то через много лет после отрочества повел меня по знакомому перрону и высветил полузабытое.
Легко про войну слушать, да страшно ее видеть. У нашего соседа, старого Шарипа, она забрала троих сыновей, оставив избу, полную детьми: старшему десять лет, а младшему – год.
Спасала огромное семейство Шамсутдиновых картошка (а кого она не спасала?) и старая вороная кобыла – единственная на семь пластовских улиц. Старик сам порой не ел, а ее кормил. Еще бы! Сено ли с дальнего покоса привезти или дрова с делянки – все покорно тащила кляча, поводя худыми боками на крутых подъемах. Но главное – лошадь, как и сам Шарип, была старателем: крутила день-деньской ворот на маленькой шахте.
Ничтожные граммы потом намытого золота не покрывали и половины расходов, а потому в доме было – хоть шаром покати. Изнуждались в нитку. Все, что можно было продать, – продали или обменяли на хлеб. Но, как говорится, пришла беда – растворяй ворота. В сорок первом под Смоленском погиб старший сын Урал, а зимой сорок второго в блокадном Ленинграде умер от ран Фарук. Несчастье дугой согнуло стариков.
Чем больше горя, тем ближе к Аллаху? Не знаю, но они держались на пределе и жили для внуков.
Вообще, скажу вам, буйным и веселым племенем были шариповские наследники. Рубили деревянными мечами лопухи, принимая их за фашистов, а весной, прилепив носы к окнам, с тоской смотрели на звонкие ручьи, мчавшиеся по кривому переулку. Страсть как хотелось пошлепать по лужам! Обувки не было, но – либо в стремя ногой, либо в пень головой: выскочив на улицу, татарчата, сверкая пятками, неслись ветром к мутным потокам, пускали бумажные кораблики, пулями летели обратно в избу и снова, залепив носами стекла, наблюдали – теперь уже за своими «крейсерами» и «миноносцами».
Счастьем для мальчишек были первые проталинки и вершина отвала, где снег исчезал раньше всего. С утра до позднего вечера это неистовое племя визжало, орало, бегало, наслаждаясь первым теплом. В погожие апрельские дни они совершали набеги на поля соседнего колхоза, где выкапывали или подбирали мерзлую картошку, а потом уплетали за широким столом тугие, как резина, черные оладушки. Ну, а с мая не вылезали из леса: полился березовый сок, зазеленела молодая крапива. Июнь дарил щавель, июль – клубнику, а звездный август – бруснику, вишню, рассыпчатую картошку и подсолнухи. Так и жили: «в обнимку» с матушкой-природой.
Да… Беда не ходит одна. Летом сорок второго почтальон принес еще одну черную весть – на маленьком сером листочке полковой писарь отстукал на машинке: «Ваш сын, рядовой Равиль Шамсутдинов, в боях под Волховым в мае с. г. пропал без вести».
Воздев руки к небу, причитала старая Фатима, еще больше сгорбился Шарип, голосила сноха, серыми воробышками притихли внуки. В высоком небе вился жаворонок, синели в легкой дымке леса. Вечность… Какое ей дело до слез людских?
Но у Аллаха милости много, и он услышал молитвы. Через пару недель новая весть взбудоражила наш маленький переулок: Равиль объявился! Старикам передал собственноручное письмо сына однополчанин Петр Павлухин, заглянувший на родину после ранения. История оказалась жуткая и простая.
Три месяца друзья-земляки томились в запасном полку, где день ото дня хирели и пухли с голода. Думали, думали да и придумали (отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая!): решили убежать на фронт. Убежали, но попали в штрафную роту. После первого тяжелого боя похоронная команда чуть не отправила потерявшего сознание Равиля в братскую могилу. К счастью, солдат пошевелился и попал в госпиталь. Теперь его должны демобилизовать по чистой, и он вот-вот явится. Бывает на войне всякое.
Заметался старый Шарип. Сын вернется, а в доме ни одной пары белья ни на черный день, ни на красный! Татары – народ чистоплотный. Маленькие Шамсутдиновы всегда бегали в латаных-перелатаных, но чистых рубашонках. На подметенном дворе всегда стоял кумган со свежей водой.
Старик ломал голову: что делать?
Вот тут-то и появляется новое действующее лицо этого повествования – моя мать Евдокия Никифоровна, Царство ей Небесное. И у нас в углах избы гнездились горе и нужда, но мама достала из сундука белую косоворотку отца и понесла Шарипу. Старик благодарил, а она, прощаясь, посоветовала:
– Поезжай-ка в Увелку да обменяй у эвакуированных картошку на белье.
– Ярар, – сказал Шарип и спустился в подполье подсчитывать запасы.
Наскреб мешок и стал готовиться к дальней дороге – до станции тридцать километров. Мне было уже девять лет, но паровоза не видел, потому-то и стал упрашивать:
– Дедушка! Возьми меня с собой!
Шарип переговорил с матерью. Та отпустила с Богом.
Весь вечер собирались в путь: постирали и заштопали рубашку, штаны, налили кринку брусничного сока, завязали в узелок лепешку из отрубей, а потом пораньше улеглись спать.
Поутру, едва на лиловом Востоке вспыхнула первая алая полоска, в окно постучали кнутовищем:
– Эй, малай! Киль, айда!
Я мигом вскочил, оделся, схватил узелок с кринкой и, обжигая пятки холодной росой, помчался на улицу. Кобыла фыркала, задирала голову, а Шарип поправлял подпругу. В телеге баем восседал шариповский старший внук – разноглазый Наилька.
Тронулись. Старик молчал, горестно вздыхал и ни разу не присел – жалел лошаденку. Когда рассвело, мы с Наилькой зайцами ринулись по боровым опушкам. Рвали землянику и, измазанные красным соком, почтительно подносили дедушке кружку ягод.
В Поляновке сделали большой привал: подпруга все-таки лопнула. Кинулись в деревню искать дратву. Подошли к крайней, по окна вросшей в землю избенке, кликнули прикорнувшую на завалинке старушку. Молчит. Тронули за рукав – и в ужасе закричали: Божья раба была мертва!
Прибежали соседки – кожа да кости – и выяснили: голодный обморок. Спрыснули горемыку водой и унесли втемную, сырую избу, а мы оставили ей лепешку.
Шарип сам сходил к знакомому конюху, принес толстую просмоленную дратву, починил сбрую. Отправились дальше.
Я во все глаза смотрел на открывавшийся мир, который раньше заканчивался синим горизонтом за городом. Какой он, оказывается, огромный! Потом узнаю, пойму, какой он сложный и прекрасный.
В полдень приехали на станцию. Шарип примостился с мешком у будки на перроне, а мы с Наилькой припустили вдоль железнодорожных платформ, нагруженных искареженными танками, пушками и прочим металлоломом войны. Далекий гул сражений доносился до нашего города слезами о погибших, ранеными и длинными хвостами за хлебом. Теперь он воплотился в залитое кровью железо. Было страшно, и мы опрометью кинулись назад, к Шарипу.
На базарчике царила кутерьма: сновали взад и вперед инвалиды на самодельных колясках, торгуя махоркой и «счастьем» в билетиках, которые вытаскивали морские свинки; здесь же по-хозяйски расположились увельские старухи и солдатки с вареной картошкой, молоком, зеленым луком и первыми ягодами.
Вдруг торжище загудело: дородная баба тащила за ухо цыганенка, вырывая из его рук плюшку, и причитала:
– Ох дошненько! Ох, горько мне! – а затем без всякого перехода начала лаяться на чем свет стоит.
Кто смеялся, кто материл барыгу, пока не подошел милиционер и не увел мальчонку с разорванным ухом. И то: дают – бери, бранят – беги. Не уберегся.
Крики, ругань внезапно смолкли: мимо станции без остановки прогромыхал состав, из столыпинских вагонов которого, через зарешеченные окна, на уральцев глядели печальные, голодные глаза пленных немцев. То были первые. Потом, почитай, чуть ли не в каждом поселке сыновья фатерланда будут работать и тихо умирать. Состав гремел, а люди молчали. И это гробовое молчание давило душу и обливало кровью.
Когда вокзальные часы показали двенадцать по-московски, подошел длинный эшелон, сцепленный из вагонов-теплушек. Поезд остановился, и на перрон хлынула река беженцев, в один миг расхватавших увельский товар.
Шарип стоял в кольце измотанных, голодных людей, тянувших руки с мятыми красными десятками, какими-то тряпками. Седая, хрупкая старушка протянула подсвечник, другая робко предлагала театральный бинокль.
Но что это? Я не верил своим глазам: старик ничего не брал, а налево и направо совал картошку в протянутые руки, котелки, сумки, приговаривая: «Мма», – дескать, на, возьми.
Молодая женщина с ребенком на руках, плоская, как доска, обтянутая материей, снимала с пальца обручальное кольцо, а малютка с жадностью тянул пустую грудь, бросал и заливался плачем. Шарип растерянно развел руками: «Ек», – то есть «нет больше». Морщины на его лице залегли еще глубже, он взглянул на меня просительно. Я все понял. Ветром понесся к телеге, вернулся и отдал беженке серые лепешки, а Наиль – заветную тыкву с пшенной кашей. Мы помогли горемыке забраться в теплушку. Взволнованная движением души старого татарина, она долго махала косынкой.
Свистнул паровоз, снова лязгнули буфера, и западный эшелон, опаленный летним зноем и огнем войны, ушел на Восток.
Бабы молча наблюдали за странным стариком, а потом загалдели. Пуще всех распалялась торговка, порвавшая ухо цыганенку:
– Старый хрен! Всех не накормишь, а нам цены собьешь! – и, напирая на Шарипа пудовой грудью, стала теснить его к коновязи: – Пошел вон! Чтобы духу твоего здесь не было…
Вот уж воистину: рот брюха не выдает, а душу продает. Она еще что-то собиралась ляпнуть, но ее саданул костылем по заднице хромой мужик, торговавший тапочками:
– Ну, ты, курва, замолчи, а не то гляделки враз выколю! – и для убедительности снова замахнулся костылем.
– Да я че? Я ниче… Я так, – и попятилась к своим товаркам.
Стали собираться в обратный путь, но Шарип медлил. Сходил на вокзал, посмотрел расписание поездов, а потом удивил: стал распрягать лошадь.
– Однако подождем московского, – ответил он на наш молчаливый вопрос.
Стали ждать. Заморосил ситничек, и мы укрылись под телегой. Наилька, набегавшись за день, быстро уснул, а я не спал, пытаясь понять этих странных взрослых: и добрых, и странных. Вспомнил прошлое лето.
С той же Увелки добирался раненый, отощавший солдат. Решил подкрепиться и подрыл два-три куста картошки у нашего соседа Продулова. Как разъяренный бык, тот бросился на «вора» и стал молотить суковатым бастриком. Когда мы выскочили на душераздирающий крик, на земле под серой шинелью дергалось что-то черно-кровавое, а рядом валялся котелок с горстью белых горошин картошки…
Вместо шести московский пришел в девять часов вечера. Шарип жадно всматривался в каждого раненого и с завистью смотрел, как их увозили на подводах родственники. Нет. Равиля не было! Отчаявшись, старик вернулся к телеге и снова стал запрягать.
– Бабай! Смотри-ка! – крикнул Наилька и показал на хвост поезда.
По перрону ковылял на костылях одноногий солдат. Он часто останавливался, крутил худой шеей и снова, выбрасывая уцелевшую ногу вперед, двигался дальше.
Шарип с хомутом в руках, подчиняясь зову крови, пошел навстречу. Шел торопясь, боясь вспугнуть надежду, а потом побежал и закричал:
– Улым!
Солдат забыл про костыли, вскинул руки вперед и упал навзничь, успев только выдохнуть:
– Ати!
Отец поднял его, как ребенка, обнял и понес к телеге.
Когда над Увелкой заблистала звездная россыпь, мы тронулись в путь. Равиль лежал в телеге на свежескошенной траве, болтал по-татарски с племянником и улыбался. Где-то там, на Западе, остался мороз, сухая снежная крупа, что шуршала всегда в окопе, и осточертевший куйбышевский госпиталь. Теперь его ласкала родная земля: трепетали, как девушки, и кланялись березки, в темном бору кликали солдата ночные птицы, плакала росой густая зеленая рожь, стеной стоявшая вдоль проселка…
Чудом уцелевший сын старого Шарипа будет долго-долго жить. А когда до последней березки останется несколько шагов, он однажды сядет вечером за стол и начнет писать великую книгу об отце, о бесконечности человека.
2000
Юлька
И снова Петербург. Закончив работу в архиве, я сидел у «Медного всадника», курил, осмысливая день минувший. Со стороны Исаакиевского собора подошла и села рядом со мной седеющая, но еще стройная, как елочка, брюнетка. Тоже закурила и молча сидела, наслаждаясь тихим, задумчивым вечером петербургской осени. Иногда я ловил ее длинный, пристальный взгляд, но не придавал ему никакого значения. И вдруг, заглянув в глаза, она улыбнулась:
– Смотрю на тебя, Андрей, и жду: узнаешь ты меня наконец или нет?
Я впился в нее взглядом, не скрывая удивления, но зрительная память решительно отказывалась работать: чужое лицо.
– А вы не обознались?
Вместо ответа она достала из сумочки старую пожелтевшую фотографию и молча протянула мне. Я взглянул – и обомлел: под яблоней вокруг бабушки сидела стайка внуков, среди которых третьим слева красовался я сам собственной персоной, десяти лет от роду, а в центре, по правую руку от бабушки, стояла коза-дереза – моя двоюродная сестра Юлька!
Фотография скользнула из рук, и я кинулся обнимать с неба свалившуюся родственницу:
– Юлька!
Придя в себя, спросил:
– Как же ты меня нашла? Ведь почти сорок лет не виделись!
– Смотрела твою телепередачу: узнала, позвонила и стала охотиться за тобой. Вот так.
Юлька была дочерью родного брата отца. После войны они уехали на Дальний Восток, и с тех пор о них не было ни слуху ни духу. Я смотрел на милое лицо с лучиками морщинок вокруг зеленых глаз и отказывался верить собственным глазам: неужели это она, Юлька, – та хохотушка и заводила наших детских забав? Та востроглазая девчонка, ласточкой падавшая с утеса в глубокий зеркальный плес Дона? Но сомнений не было: это была Юлька.
Память вырвала из прошлого тихий, зеленый Павловск-на-Дону, грозу и теплый, шумный ливень. Под огромным кустом боярышника сидит девчонка, натянув на острые коленки сарафан, прикрывая козленка. Козленок тычется, гром грохочет – Юлька от страха плачет. Вспомнил и засмеялся.
– Ты чего? – обиделась она.
Я напомнил, и Юлька тоже, сверкая ровным рядом белых зубов, расхохоталась, и смех ее покатился колечком по облитой золотом заката задумчивой Неве.
Потом она взъерошила мои седые волосы и крепко поцеловала:
– Спасибо, Андрей.
Я еще ничего не знал о ее жизни, но понял: так смеются состоявшиеся, исполнившиеся люди.
Когда волнение улеглось, попросил: – Ну, а теперь рассказывай.
– Не знаю, с чего и начинать?
– Ты замужем?
– Второй раз.
– Дети?
– Детей нет.
– Чем занимаешься? Училась?
– Я Юлия Александровна Звонарева.
– Понятно, ноя спрашиваю: какому делу служит Звонарева?
– Не понятно? Тебе подавай степени, звания, а я живу и работаю Юлией Александровной Звонаревой!