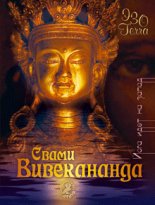Матильда Кшесинская. Любовница царей Седов Геннадий

Ни о какой официальной службе не может быть и речи, стала она перечислять. Танцевать она будет, когда захочет и сколько захочет. («Как Дункан», – чуть не слетело с языка.)
Теляковский беспокойно ерзал в кресле.
– Позвольте, многоуважаемая Матильда Феликсовна, – протянул, – но это ведь… – Она не дала ему закончить.
– Да, да, да! – сказала твердо. – Именно так: гастролерша без контракта! Никакая бумага не может меня связать и никакая неустойка не запугает. – Она чуть смягчила тон: – Вы знаете мою обязательность: театр я никогда не подводила и не подведу. Гарантией моей будет слово артистки…
Оба напряженно глядели друг на друга.
«Дрянь! – говорили его глаза. – Ну, ты и дрянь!» (Случалось, полковник употреблял выражения и похлеще.)
«Никуда, чурбан, не денешься…» – сквозила на ее губах чуть заметная улыбка.
Прозвенел в третий раз звонок, погасли огни в зале. Теляковский рывком поднялся на ноги.
– Не скрою: я разочарован… Будем, однако, считать договор состоявшимся… – Руки он ей не поцеловал. – Ваш покорный слуга, Матильда Феликсовна!
Не переводя дыхания она ринулась в работу. Шли чередой бенефисы: А. Ширяева, Г. Гримальди, московского кордебалета, спектакли в пользу престарелых артистов, помощи голодающим, погорельцам, пострадавшим от эпидемии холеры – всюду она поспевала, каждый раз появление ее на подмостках становилось событием, вызывало шумные толки, подробно освещалось прессой.
«Умеет чертова полячка создать вокруг себя ажиотаж», – неохотно признавался Теляковский.
С возвращением ее в театр вспыхнули с новой силой незатихавшие закулисные битвы. Само присутствие Кшесинской особенным каким-то образом добавляло в атмосферу электричества. Перестраивались в спешном порядке враждующие станы, бушевали страсти вокруг «личных» балетов примадонны, передаваемых другим исполнительницам только с ее согласия, витал повсеместно дух состязательства. Зритель валом валил в театр, в кассах снова был аншлаг.
Главное представление, однако, ожидало публику не на театральных подмостках – на улице: грянуло 9-е января 1905 года.
Она была живой свидетельницей события, вошедшего в историю под названием «кровавое воскресенье», наблюдала его с близкого расстояния, почти в упор. Тщетно, однако, искать в ее воспоминаниях стереотипно-канонического описания случившегося: мирного шествия рабочих во главе со священником Г. Гапоном к Зимнему дворцу с петицией к царю-заступнику (заблаговременно укатившему от греха подальше в Царское Село), картин расстрела демонстрантов войсками и полицией, трупов мужчин и женщин на окровавленном снегу.
«Девятого января 1905 года, – пишет она, – произошло выступление Гапона. В этот день был чей-то бенефис, и я была с родителями в ложе. Настроение было очень тревожное, и до окончания спектакля я решила отвезти своих родителей домой. В этот вечер Вера Трефилова устраивала у себя большой ужин, на который я была приглашена. Надо представить себе, как она была бы расстроена, если бы в последнюю минуту никто не приехал к ней. На улицах было неспокойно, повсюду ходили военные патрули, и ездить ночью было жутко, но я на ужин поехала и благополучно вернулась домой. Мы потом видели Гапона в Монте-Карло, где он играл в рулетку со своим телохранителем».
Для балерины-монархистки, как и для подавляющего большинства людей ее круга, причина случившегося крылась в самих рабочих, послушавшихся попа-провокатора и тех, кто стоял за его спиной. Помилуйте, разве можно вести подобным образом диалог с властью! Эти самые мастеровые ломали, оказывается, на своем пути заборы, опрокидывали телеграфные столбы, баррикады возводили поперек улиц, поджигали киоски, грабили винные лавки. Кухарка, вернувшаяся с пустой корзиной с Сенной площади, видела собственными глазами, как нещадно избивали городовых, шашки из ножен вырывали, револьверы. Кто в действительности в злополучный тот день стрелял и в кого, это еще надо доказать. А то, что житья никакого не стало от невозможных этих людей – факт! Гунны какие-то…
Сказанное выше не свидетельствует вовсе, что коллектив Мариинки остался подобно ей безучастным к революционным брожениям того времени. Вот как описывает умонастроения балетной труппы и общую обстановку в театре тех дней Тамара Карсавина:
«Осень 1905 года, осень, когда была осуществлена попытка революционного переворота, я до сих пор вспоминаю как кошмар. Жестокий октябрьский ветер с моря, холод, слякоть, зловещая тишина. Уже несколько дней не ходили трамваи. Забастовка стремительно охватывала все новые предприятия. С тяжелым сердцем возвращалась я поздно вечером с политического митинга, который мы, артисты, устроили в тот день. Я шла окольным путем, чтобы избежать пикетов. Мои тонкие туфли промокли, ноги онемели от холода, мысли путались. То, что мы, артисты, такие консервативные в душе, настолько преданные двору, скромной частью которого мы себя ощущали, поддались эпидемии митингов и резолюций, казалось мне изменой. Митинги устраивались повсюду; самоуправление, свобода слова, свобода совести, свобода печати – даже школьники принимали подобные резолюции. С полным сознанием дела (хотя у меня есть основания сомневаться в этом) или следуя за несколькими вожаками, наша труппа тоже выдвинула ряд требований и избрала двенадцать делегатов, чтобы вести переговоры. Среди них оказались Фокин, Павлова и я. Нашим председателем был танцовщик кордебалета и одновременно студент университета, человек честный, но ограниченный.
В ту ночь во всем городе погас свет. Я ощупью поднялась по лестнице; наша квартира была, как всегда, освещена керосиновыми лампами. Мама встретила меня довольно агрессивно, она была против моего участия в митинге.
– Не доведут тебя до добра эти митинги, попомни мое слово.
– Дай же ребенку сначала рассказать, что произошло, – вмешался отец, стремившийся примирить нас, дав мне возможность высказаться.
Стараясь по возможности подробно передавать речи ораторов, я объяснила, что было принято решение «поднять уровень искусства на должную высоту».
– Ну и как же вы намерены поднимать его? – задала вопрос мама, сбросив меня с неба на землю.
Во время митинга я сама не могла понять, каким образом выиграет искусство, если мы добьемся самоуправления. Я не только не испытывала полной уверенности в правильности наших мотивов, но всей моей любви к театру, его атмосфере, верности нашему воспитанию была нанесена глубокая рана. Во время митинга у меня возникло ощущение, будто замышляется какое-то святотатство, но дар речи покинул меня. В итоге, проявив малодушие, я подчинилась желаниям остальных. А теперь, словно повторяя заученный урок, я твердила своим домашним, что мы намерены потребовать право на самоуправление, право избрать свой комитет, который станет решать как вопросы творчества, так и вопросы распределения жалованья. Мы намерены покончить с бюрократизмом в организационных делах. Мои слова даже мне самой казались пустыми и бессодержательными.
– Итак, ты выступаешь против императора, который дал тебе образование, положение, средства к существованию. И нечего поднимать какие-то там уровни. Ты поднимешь искусство на высокий уровень, если станешь великой актрисой, – заявила мама.
Она была готова использовать свой родительский авторитет и запретить мне покидать дом, пока все не успокоится. Но тут вмешался Лев. Хотя, по его мнению, все это было глупостью, но тем не менее он считал, что я должна была оставаться с друзьями до конца.
– Ты же не хочешь, чтобы она предала своих товарищей, – сказал он матери. – Где же твои принципы?
Услышав подобный аргумент, бедная либералка-мамочка вынуждена была замолчать. Отец считал, что нужно выиграть время и сделать вид, будто я заболела. Я решила идти до конца, но чувствовала себя несчастной.
Резолюция митинга вырабатывалась на квартире у Фокина. Мне показалось, что привратник, стоявший у парадной двери, бросил на меня неодобрительный взгляд – ни приветствия, ни фамильярной, но в то же время уважительной болтовни, которая составляла кодекс bienseance (приличие) у людей подобного рода. Слегка наигранная веселость присутствующих внушила мне некоторое облегчение; я была почти готова поверить, что правда на их стороне. Мне пришло в голову, что они не стали бы рисковать, не имея на то важных причин; и причиной, очевидно, была справедливость требований. Я продолжала так думать до тех пор, пока не стали обсуждать требование поднять нам жалованье, мне оно показалось отвратительным, сильно напоминающим шантаж. Я все еще верила, что смогу предостеречь товарищей от неверного поступка, и я отозвала Фокина, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. Мы вышли на площадку лестницы. Там, с трудом подбирая слова, чувствуя себя униженной оттого, что он может заподозрить меня в отступничестве, я поделилась с ним своими сомнениями. Он внимательно выслушал меня. Он никак не развеял моих сомнений, но в силе его веры, в пафосе его слов я почувствовала большую искренность.
– Что бы ни случилось, – так закончил он, взяв меня за руку, – я всегда буду благодарен вам за то, что в критическую минуту вы встали рядом со мной.
Один за другим приходили опоздавшие, принося свежие новости: остановились железные дороги; чтобы предотвратить митинг рабочих на Васильевском острове, развели мосты. Фокин снял трубку, чтобы проверить, работает ли телефон, коммутатор молчал. Он продолжал слушать.
– Помехи на линии… Обрывки разговоров… какая-то неразбериха… Больше ничего не слышно.
Два молоденьких танцовщика, почти мальчики, прибежали раскрасневшиеся и возбужденные; они вызвались быть «разведчиками». Их искреннее восхищение нашими действиями не позволяло им сохранять спокойствие.
– Мы видели на улице сыщиков, – взволнованно заговорили они, перебивая друг друга, – наверняка это сыщики: оба в гороховых пальто, а на ногах галоши.
Во все времена было нетрудно определить агентов нашей тайной полиции – галоши, которые они носили в любую погоду, стали объектом всеобщих шуток.
По сведениям «разведчиков», в Александрийском театре собирались прервать спектакль, чтобы актеры могли со сцены обратиться к зрителям. Весь день прошел в волнении, устроили импровизированный обед, а вечером решили отправиться в Александрийский театр, чтобы иметь возможность действовать сообща с драматическими артистами. Там шел обычный спектакль. Режиссер Карпов отвел нас в комнатку за сценой, где хранился реквизит для спектаклей на всю неделю, так что она была завалена сценическими принадлежностями: портретами предков, алебардами, шлемами и мебелью, но никого там не было. Карпов достал для меня курульное кресло древних римлян, а сам отошел к веерообразному окну.
– Драматические артисты будут бастовать до тех пор, пока не удовлетворят все их требования, – быстро проговорил он, посматривая на часы.
Раздался звонок, и он поспешил на сцену, бросив на ходу:
– Помните, мы боремся за почетную свободу. Еще совсем недавно русский актер был рабом. Теперь настал подходящий момент. Там, наверху, давайте небо!
Последняя фраза была адресована рабочим сцены.
На следующий день мы должны были подать свою резолюцию начальству. Придя в назначенный час, я встретилась со своими друзьями-делегатами, расхаживающими взад и вперед по Театральной улице. Пришедший первым нашел дверь вестибюля запертой, находившийся внутри швейцар Андрей отказался ее открыть. Нас это возмутило. Когда все собрались, мы отправились в контору. Теляковский был в Москве, и нас принял его управляющий. Он с огорченным видом выслушал речь нашего председателя. Бывший офицер, он щелкнул каблуками, сухо поклонился и без каких-либо комментариев заявил, что резолюция нашей труппы будет вручена его превосходительству тотчас же после его возвращения из Москвы. На этом аудиенция закончилась.
Следующим нашим шагом была попытка сорвать утренний спектакль в Мариинском театре. Давали «Пиковую даму», где были заняты многие артисты балета. Моя обязанность состояла в том, чтобы обойти женские артистические уборные и уговорить танцовщиц не выступать. Подобная задача была мне неприятна, и мои речи, по-видимому, оказались не слишком убедительными. Несколько танцовщиц покинули театр, но большинство отказались участвовать в забастовке. В течение нескольких следующих дней до нашего сведения довели циркуляр министра двора: наши действия рассматривались как нарушение дисциплины; тем, кто желал остаться лояльным, предлагалось подписать декларацию. Большинство артистов подписали ее, поставив нас, своих делегатов, в затруднительное положение. Теперь мы уже никого не представляли, но продолжали собираться то у Фокина, то у Павловой.
– Ну что, доигрались, – сказала мама однажды вечером. – Вы больше не члены труппы.
Она, как всегда, почерпнула информацию у Облаковых. Я считала, что она права, хотя мы и не получили никакого официального уведомления.
В городе происходили более тревожные, события, чем мятеж нескольких актеров. 16 октября во время массового митинга, состоявшегося на Васильевском острове, была провозглашена республика. Что принесет завтрашний день – аресты или революцию, никто не осмеливался предположить. В тот день мы все двенадцать собрались как обычно. В эти дни мы старались держаться вместе – так было легче переносить неизвестность. Вдруг позвонили в дверь. Фокин пошел открывать. Через несколько мгновений он, шатаясь, вернулся в комнату.
– Сергей перерезал себе горло, – сказал он и разрыдался.
Сергей Легат против воли вынужден был подписать декларацию. Будучи человеком чести, он ощущал себя предателем: «Я поступил как Иуда по отношению к своим друзьям».
В ту же ночь он стал бредить и кричал:
– Мария, какой грех будет меньшим в глазах Господа Бога – если я убью тебя или себя?
Утром его нашли с перерезанным бритвой горлом.
17 октября был издан Манифест об учреждении Государственной думы. В нем объявлялась амнистия всем забастовщикам. В течение нескольких дней жизнь вернулась в нормальное русло, и наша бесславная эпопея закончилась отеческим увещанием. Теляковский вызвал к себе делегатов и снял с нас бремя вины за резолюцию, но подчеркнул, что попытка забастовки явилась актом вопиющего нарушения дисциплины и мы заслуживали бы самого строгого наказания, если бы не амнистия. Он мягко осудил поведение труппы, указав на то, что артисты и без того находятся в привилегированном положении – они получают бесплатное образование и обеспечены до конца жизни; неужели забастовка – это наша благодарность за все полученные благодеяния?
Среди артистов, принявших активное участие в кратковременном мятеже, распространялись смутные слухи о том, что якобы дирекция втайне готовит репрессии против участников октябрьских событий. Однако карьера, сделанная впоследствии Павловой, Фокиным, да и мной, отчетливо показала, что у Теляковского никогда не было подобных намерений. В течение какого-то времени ощущался некоторый антагонизм между двумя фракциями, на которые распалась труппа, но вскоре он исчез. Похороны Сергея объединили нас в общем горе».
3
Словно бы почуяв в воздухе пороховую гарь, в Петербург три недели спустя примчалась с новым любовником, английским режиссером Гордоном Крэгом, мятежная Дункан. Якшавшаяся с радикалами, дочь свободолюбивой Америки открыто выражала в разговорах негодование убийством людей, чья вина заключалась единственно в невозможности прокормить голодные семьи. «Ведет себя вызывающе, допускает возмутительные выпады в адрес властей», – говорилось в рапорте столичного градоначальника генерал-адъютанта В. Дедюлина департаменту полиции. («Чорт с ней, позубоскалит и уедет», – начертана была сверху резолюция.)
Прибывшая с кратковременными гастролями Дункан пожелала в свободное время посетить императорское балетное училище, покататься на санях по замерзшей Неве и познакомиться с очаровательной Матильдой Кшесинской, которую уже успела посмотреть в «Лебедином озере».
– По-моему, она необыкновенна! Похожа более на прекрасную птицу или бабочку, чем на человеческое существо.
С первого взгляда они почувствовали взаимную симпатию. От Дункан исходила необыкновенная какая-то энергия: мимика ее, жестикуляция во время разговора были наполнены страстью, напоминали сценические движения.
Она уговорила милую Кшесинскую сопровождать ее в училище балета.
– Вы ведь его выпускница, не так ли? У меня с некоторых пор мечта: открыть собственную школу танца. Пока для девочек. С шалунами-мальчишками мне, пожалуй, не справиться… – Она задумалась на мгновенье. – А вообще-то… У мужского танца, по-моему, замечательное будущее. Если б нашелся мужчина, который умел хорошо танцевать, то такой мужчина был бы богом!
– Один такой у нас есть, – заметила Кшесинская, – правда, совсем-совсем еще неоперившийся…
– Правда? – Дункан приподняла выразительно брови. – Представьте мне его, хорошо? Как его имя?
– Нижинский.
– Он что, поляк?
– Поляк.
– Кшесинская, Нижинский, Теляковский, – она весело рассмеялась. – А еще говорят, что Россия закабалила Польшу!
Училище произвело на нее удручающее впечатление. Монастырские глухие стены, узкие коридоры, одинаково одетые и причесанные воспитанницы в окружении чопорных классных дам. «Там я увидела всех маленьких учеников, построенных рядами, – напишет она впоследствии. – Они часами стояли на пальцах, похожие на многочисленных жертв жестокой инквизиции, в которой не было никакой необходимости. Огромные пустые танцевальные залы походили на камеры пыток».
Скрестив на груди руки, с непроницаемым лицом, следила она за однообразной муштрой перед зеркальной стенкой, бросала выразительные взгляды на Кшесинскую.
Наспех попрощавшись с училищной свитой, они нырнули одна за другой в санную тройку.
– У-уф!
Откинувшись блаженно на спинку сиденья, Дункан полуобняла Кшесинскую.
– Вам не понравилось, – произнесла та с сожалением. – Я видела: вы мучились…
– Дорогая моя, но это же казарма! – воскликнула американка. – Не могу поверить, что вы провели в ней десять лет!
– Счастливейших лет! – парировала она. – Без этой, как вы выразились, «казармы» я не была бы сегодня тем, кто я есть!
Она с запальчивостью принялась защищать родное училище. Всю дорогу до гостиницы они проспорили.
Прощаясь на ступенях «Континенталя», Дункан прижала ее к себе, поцеловала страстно в губы.
– Я в вас влюбилась… – шепнула жарко. – Не сердитесь на меня, хорошо?
Необузданный ее темперамент требовал очередной жертвы. За время непродолжительных гастролей в России она пыталась соблазнить невиннейшего Станиславского, поэта Михаила Кузмина. Неизвестно, удалось ли ей добиться в тот раз взаимности со стороны искушенной в лесбийстве русской «бабочки», а вот с Петербургом – это точно – любви у Дункан не получилось.
Накануне ее приезда российская пресса, в особенности музыкальные журналы, открыли против гастролерши массированную атаку.
«Является непрошенной гостьей в мир музыки, – негодовал в одной из статей Николай Римский-Корсаков, – включает свое искусство в музыкальные сочинения, авторы которых вовсе не нуждаются в ее компании; да разве ж она когда-нибудь с этим считалась?
Брань, как известно, лучшая из реклам. Зал Дворянского собрания, где она давала «Бетховенский вечер», только что триумфально прошедший в Париже и Берлине, штурмовала возбужденная толпа. Рябило в глазах от обилия знаменитостей: писатели, редакторы газет, прославленные артисты, цвет адвокатуры, дипломаты. Явился даже по-детски улыбчивый критик Дмитрий Стасов, отказывавший балету в праве называться искусством. Обстановка была накалена до предела. Дирижер Петербургского симфонического оркестра Леопольд Ауэр, считавший эксперименты Дункан с музыкальной классикой святотатством, отказывался глядеть на сцену, где измывалась над высоким искусством полуголая блудница, вел партитуру Седьмой симфонии Бетховена «вслепую». Публика шикала, свистела, топала ногами, некоторые демонстративно поднимались с кресел и уходили.
Дункан не выдержала. «Центральная пружина» словно бы выпала из обмякшего ее тела, она выглядела потерянной, механически-безжизненно, подобно крэговской театральной марионетке, дотягивала до конца свой потускневший, вымученный танец…
– Варвары! Такую артистку унизить!
Выпивший уже немало Фокин никак не мог успокоиться.
– Болото, а не театр! Тиной по уши заросли, а туда же – искусство судят! Гоголевские кувшинные рыла! Мир вокруг изменился, а им все пасторальные картинки подавай с амурами и земфирами!
– Го-осподи, Миша, – постукивала пальчиком по диванной спинке синеглазая смуглянка Карсавина, – ну, что вы об одном и том же, в самом деле! Мало ли чего не случается на сцене? Ну, не понравилась нынче ваша Дункан публике, что с того? С нами разве подобного не бывает? Понравится в другой раз. И вообще… Невежливо в обществе двух очаровательных женщин восторгаться посторонней. Правда, Малюша?..
Они сидели втроем в «Дононе» на набережной Мойки – возбужденный Фокин, желая излить душу, завез их после концерта в ближайший по пути ресторан, считавшийся одним из прибежищ уличных проституток. Размалеванные девицы маячили за окнами на тротуаре, некоторые сидели в обществе мужчин за соседними столиками, дымили папиросами. Вокруг было шумно, носились очумело с подносами половые.
– Да не в этом вовсе дело, Таточка! – восклицал Фокин. – Понравилась, не понравилась… Этих господ страшит любая новизна на танцевальном помосте. Их девиз: все должно оставаться как при царе Горохе…
– А кто-то, говорят, по музеям ходит, – Кшесинская меланхолично потягивала из бокала, – античные позы с ваз и рельефов срисовывает…
– Браво! – захлопала в ладоши Карсавина. – Получили, Мишель?
Между ней и Фокиным, кажется, намечался флирт – оба с удовольствием друг друга задирали.
– Ничего не получил! – парировал тот. – Мы не до конца еще оценили, милые дамы, античную пластику. У греков и римлян гармоничные движения были в крови. Возьмите их сатурналии, гладиаторские бои, диспуты трибунов, спортивные состязания. Во всем – ритмика, поза, жест, танец по существу. Бери и переноси на сцену… Дункан это замечательно подметила. Я ей по гроб жизни обязан за урок…
– Какой вы у нас умненький, Мишенька, – притворно вздохнула Карсавина.
– Скорее, Иванушка-дурачок. Вечно лезу на рожон.
Он снова принялся бичевать ретроградов, противящихся любому дуновению свежего ветра на балетной сцене.
– Всюду им видится революция! Даже в цвете панталон под юбкой танцовщицы…
Кшесинская с Карсавиной дружно рассмеялись. Ретрограды с некоторых пор стали постоянным объектом фокинских нападок: честолюбивый молодой танцовщик метил в хореографы, теснил мало-помалу, пользуясь поддержкой Дягилева и его окружения из нового журнала «Мир искусства», балетмейстеров-ветеранов.
Главный огонь своей критики Фокин обратил на Петипа: не сокрушив скалы имперского балета, ни о каких новациях нечего было и мечтать.
Скала к тому времени уже не казалась монолитом: иссеклась трещинами, крошилась под ударами житейских волн. Патриарху русского классического балета шел восемьдесят седьмой год. Жизнь его и творчество были на излете. Выросли, покинули родное гнездо дети: четыре дочери танцевали в балете, четверо сыновей (симметрия – во всем!) стали драматическими актерами. Не осталось рядом старых друзей – ушли в небытие Христиан Иогансон, Левушка Иванов. Молодежь его сторонилась и не понимала, начальство вежливо терпело. Теляковский, относившийся к маэстро как к больному человеку, чье творчество нельзя воспринимать всерьез, называл за глаза взяточником и «старой шляпой». В опубликованных его «Дневниках директора императорских театров» фигурирует запись: «Петипа не может успокоиться. Этот старый, злой старикашка не может простить Горскому, что он сделан балетмейстером, и потому всякую постановку Горского он ругает. Ругает при артистах на сцене и в публике и тем поселяет раздор среди молодежи. Хотя никто серьезно не смотрит на этого выжившего из ума старика, тем не менее его присутствие в балете приносит лишь один вред делу, и в последние года балет в Петербурге не улучшается, а ухудшается. К тому же Петипа все забывает и врет как сивый мерин, а потому с ним совсем нельзя иметь серьезного дела».
Сам Петипа поверяет в это время бумаге собственные переживания:
«В театре репетируют «Спящую красавицу», я на репетицию не иду. Меня не уведомляют. Моя прекрасная артистическая карьера закончена. Пятьдесят семь лет службы. А у меня хватает еще сил поработать».
Ему хочется создать под занавес нечто грандиозное, феерическое. Чтобы сосунки-балетмейстеры с их завиральными идеями и покровительствующий им директор-солдафон рты поразевали. С юношеским вдохновением принимается он за сочинение балета «Волшебное зеркало» по мотивам сказок Пушкина и братьев Гримм. Придумывает в содружестве с И.А. Всеволожским либретто, написание музыки по совету Александра Глазунова поручает композитору и пианисту-виртуозу А. Корещенко, декорации – только что принятому в театр на должность художника-практиканта Н. Головину.
Работа с самого начала не клеится, все идет вкривь и вкось. «Приезжаю в театр, – записывает Петипа 30 января 1903 года. – Мне говорят, оркестра не будет. Пришлось репетировать под рояль». Запись следующего дня: «Провожу репетицию с оркестром до 6-й картины без декорации, без ничего. Всю ночь не спал». Запись от 8 февраля: «Утром генеральная репетиция всего балета «Волшебное зеркало». Все никуда не годится, все плоско, декорации – просто ужас. Вот несчастье для балета!»
Во время генеральной репетиции вынесенное на сцену исполинское зеркало, в которое должна была глядеться по сюжету злая мачеха героини («Свет мой зеркальце, скажи да всю правду расскажи!»), неожиданно трескается, из него серебряными струйками течет ртуть. Петипа потрясен. В случившемся он усматривает знак судьбы. Как покажет премьерный вечер следующего дня – не зря.
Бенефис великого мастера завершился провалом. Не помогло участие балетной элиты: Матильды Кшесинской, Марии Петипа, Сергея Легата, Анны Павловой, Михаила Фокина. В зале во время представления громко смеялись, топали ногами, свистели.
«Публика недоумевала, слушая в течение 4 часов поразительную по бездарности музыку г. Корещенко и смотря на ряд уродливых, размалеванных декораций, на которые «декадентская» кисть г. Головина наложила неотразимую печать художественного безобразия», – писал в балетной рубрике журнала «Театр и искусство» рецензент Н. Федоров.
Еще резче высказался о «Волшебном зеркале» С. Дягилев:
«Вина провала балета не в декорациях и даже не в неудачной, тяжелой музыке… Она в самой затее постановки этого никому не нужного, скучного, длинного, сложного и претенциозного балета».
После двух представлений – одного в 1903 году, другого на следующий год – «Волшебное зеркало» было снято с репертуара…
… – От вас, Малечка, многое зависит, – говорил ей Фокин по дороге домой. – Вы прима, на вас равняются остальные. Если вы по-прежнему с их величеством Мариусом Первым, добра не жди…
Она уклонилась тогда от ответа. Чувствовала: Миша в чем-то прав. Многие постановки Петипа и впрямь обветшали, публика зевает, глядя на набившие оскомину композиции с пастушками на лужайках, длиннейшие перестроения и пантомимы, во время которых балерины успевают уединиться в уборных с любовниками… Как это Фокин выразился? «Мариус Первый». Она усмехнулась: камешек был и в ее огород. Кем, на самом деле, она была, если не фрейлиной в свите оставлявшего трон балетного короля? Живым воплощением его идей, во многом ему обязанной? Фокин по сути приглашал ее к предательству, сулил отступные: заглавную роль в балете «Евника» по роману Генриха Сенкевича «Камо грядеши?», над которым трудился уже несколько месяцев и против которого восставал Петипа, разнесший в пух и прах дилетантскую, как он считал, работу новичка. (Скептически отзывался о затее сверстника и постоянный ее партнер по сцене Николай Легат, исполнявший в последнее время обязанности главного балетмейстера: у него были собственные резоны восстанавливать прима-балерину против чересчур ретивого конкурента.)
На чью-то сторону, подсказывало чутье, следует встать, оставаться сторонней наблюдательницей происходящего не удастся. Главное при любом раскладе – не навредить себе самой…
4
Петипа она изменила с легкой грустинкой, любя, как изменяла одним мужчинам с другими. «Он умный, – сказала себе, – поймет. В конце концов это только театр». (О Легате не стала и думать: зелен еще советы давать…)
С выбором она не просчиталась: дальновидный умница Фокин верно уловил стремление балета к свободе самовыражения, менявшиеся зрительские вкусы. Ожившая античная фреска на музыку А. Щербачева явилась в нужное время, имела шумный успех. Стараниями постановщика на сцене ожил нероновский Рим – с пряной экзотикой быта, необузданными страстями, культом чувственных удовольствий. Из многослойного романа Фокин извлек наиболее выигрышную для хореографии интимную линию – слепую, нерассуждающую любовь рабыни Евники к автору знаменитого «Сатирикона», эстету и эпикурейцу Гаю Петронию, в объятиях которого она принимает в финале добровольную смерть.
Солировали в спектакле лучшие из лучших: Евника – Кшесинская, Актея – Павлова, Петроний – Гердт. Греческого раба исполнил незабываемый лучник из половецких плясок в «Князе Игоре» Александр Ширяев, давший направление целой школе характерного танца, декорации и костюмы создал непревзойденный Лев Бакст. Хореография балетмейстера-дебютанта восхищала живописной красотой, изобретательным стилизаторством: в заключительной сцене Евника плясала среди воткнутых в пол мечей, а Актея под мелодию вальса – томный, сладострастный «Танец семи покрывал», напоминавший импровизации Дункан.
«В действительности «Эвника» стала компромиссом между нашими классическими традициями и возрожденной Элладой, которую олицетворяла Айседора, – вспоминает об этом спектакле Тамара Карсавина. – Главная партия, которую в вечер премьеры исполнила Кшесинская, включала в свою ткань почти весь словарь классического балета. Павлова, напоминавшая фигурку с помпейского фриза со своей утонченностью и изысканностью, придала «Эвнике» определенное чувство стиля. Она также, как и кордебалет, танцевала босиком или, во всяком случае, создавала такую видимость. Они выступали в трико, на которых были нарисованы пальцы. После премьеры Кшесинская отказалась от роли, и ее передали Павловой, я же заменила последнюю».
Наутро после премьеры Фокин проснулся знаменитостью. В газетах – восторженные отклики, не замолкает в квартире телефон, посыльные несут и несут приветственные телеграммы. Но главным сюрпризом была для него, несомненно, короткая записка от Петипа: «Дорогой друг Фокин! Восхищен Вашими композициями. Продолжайте, и вы станете хорошим балетмейстером».
Первый визит он нанес божественной Матильде (не выходил из головы изумительный ее полет через сцену в объятия истекающего кровью Петрония). Как мало, оказывается, он ее знал! Льстил нередко по обязанности, порицал в душе за излишнюю «телесность», манерные позы. Пригласив в силу обстоятельств (попробуй, не пригласи!) на ведущую роль, рассчитывал, по меньшей мере, на четкое, добротное исполнительство. Чуда он ждал от второй солистки – Павловой с ее одухотворенной манерой движения, воздушным изяществом, даром абсолютного погружения в роль. С задачей своей Аннушка справилась прекрасно. Но чудом в «Евнике» была все же Кшесинская. Не покидало ощущение, что за кулисами у нее наготове целый арсенал сценических эффектов: каждый очередной ее выход удивлял находкой, свежей деталью – ей хватало их и для красочно-выверенной хореографии и для выразительного миманса и что-то еще оставалось «на вынос», как выражаются в балете, – мимолетного диалога со зрителем, заранее настроенного на такого рода игру. Как заметил в отклике на премьеру «Евники» один из рецензентов: «От Кшесинской всегда ждешь чего-то необычного. И получаешь всякий раз что-то необыкновенное».
Личную ее жизнь в описываемый период не назовешь безоблачной. Она похоронила недавно отца, волнуется за состояние полупарализованной матери. Не видно просвета в сердечных делах. Безвольный Андрей, похоже, удовлетворен ролью приходящего любовника, под венец не торопится, в минуты объяснений повторяет избитые фразы: «надо набраться терпения»… «папа все еще колеблется»… «маман, к сожалению, непреклонна». Страдает молча живущий с ней и сыном под одной крышей старший по возрасту и стажу любовник, великий князь Сергей Михайлович, обеспечивающий расходы семьи. Брат Юзя преподнес сюрприз: связался с кучкой радикально настроенных молодых артистов, требовавших участия труппы в управлении театром (влияние декабрьских беспорядков в Петербурге), дал во время спора с оппонентами пощечину артисту А. Монахову, оскорбившему Анну Павлову, за что приказом дирекции уволен со службы. Сидит теперь дома, палец о палец не ударил для восстановления, надеется, естественно, на нее.
Обстановка – врагу не пожелаешь. Хочется забыть обо всем, отгородиться от проклятых вопросов китайской стеной, занять душу чем-то по-настоящему значительным. Вовремя приходит спасительная идея: построить дом. В приличном месте, по собственному вкусу. Особняк на Английском проспекте, подаренный Ники, обветшал, сделался тесен, да и район оказался не слишком удачным. Придвинулись чуть не вплотную заводы, дым сутки напролет валит из закоптелых труб. Вечером страшно выйти на улицу: пьяные мастеровые шастают с гармошками, сквернословят по-черному. Разбили намедни стекла у соседа, ночного сторожа избили. Бежать, бежать как можно скорей из зловонной этой дыры!
Закрутилась карусель. Продан в одночасье старый особняк – князю А. Романовскому. Найдено подходящее место на быстро застраивавшемся Петроградском острове – угол Кронверкского проспекта и Большой Дворянской. Стоявшие тут с незапамятных времен ветхие домишки с согласия Городской управы и соответствующей компенсацией владельцам идут на слом, освободившийся участок, купленный за восемьдесят тысяч рублей, переходит в ее собственность. Часами просиживает она вместе с архитектором А.И. фон Гогеном над планом дворца Кшесинской. Дворец – не оговорка. Шаг за шагом описывает она почтительно внемлющему Александру Ивановичу внутреннюю отделку помещений: зал – в стиле русского ампира, маленький угловой салон – эпоха Людовика ХVI, спальня и уборная – в английской манере, с белой мебелью и кретоном на стенах, столовую и соседний салон выдержать в духе «модерна». Стильные гарнитуры, решают оба, следует изготовить у Мельцера, обстановку для хозяйственных помещений и прислуги – на предприятии Платонова, бронзовые предметы и аксессуары: люстры, бра, канделябры, дверные ручки и тому подобное, а также ковры и гобелены заказать французским фирмам.
– У вас замечательный вкус, милая Матильда Феликсовна, – соглашается, выслушивая ее, фон Гоген. – Будет сделано так, как вы предлагаете.
Чуть не ежедневно наведывается она на участок, подгоняет строителей. Не терпится увидеть воплощенной в жизнь мечту давних лет: быть хозяйкой роскошной усадьбы. Утереть нос кичливым владельцам великосветских особняков, превратить свой городской салон в самый модный, самый привлекательный в столице.
Построенный за год с небольшим на деньги любовников петербургский «Малый Трианон», как окрестил его в заметке репортер «Петербургских новостей», и впрямь не уступает ни в чем дворцам столичной знати. Роскошные стильные апартаменты на двух этажах, комнаты для прислуги, два сада, летний и зимний, винный погреб с помещением для интимных пирушек, кухня с ледником и специальной холодной кладовой для сухих продуктов, хозяйственные помещения во втором дворе: прачечная, сараи для экипажей и автомобилей, игрушечная молочная ферма с единственной коровой (свежее молоко для Вовочки), обслуживаемая специально приставленной коровницей Катей. Гуляют на травяном газоне, по-приятельски полизывая друг дружку, ручная козочка, с которой она выступает в «Эсмеральде», и любимая сыночком смешная толстая свинья. Пасторальная картинка, не налюбуешься.
Не дождавшись, пока меблируют все комнаты, она перебирается накануне Рождества 1907 года в свежепостроенный особняк.
«Моей гордостью, – перечисляет она преимущества нового жилья на Каменноостровском проспекте, – были две гардеробные комнаты, одна наверху, для моих платьев, вся обставленная дубовыми шкафами, а другая внизу, для моих костюмов и всего, что к ним полагалось: башмаков, туфель, париков, головных уборов и т. д. В каждом из четырех огромных шкапов имелась полная опись под номером всего того, что в нем находилось, дубликат которой я держала у себя. По этим спискам я всегда могла послать кого-нибудь привезти мне все, что было мне необходимо, это часто приходилось делать, когда я жила на даче, а костюмы нужны были в Царском Селе. Я указывала только номер шкапа и номера требуемых костюмов и относящихся к ним предметов».
Не успев остыть от пышно проведенного новоселья она принимается за подготовку к весенним гастролям во Франции, куда приглашена дирекцией парижской Grand Opera. Партнером ее по танцам в «Коппелии» и «Корригане» должен стать выпускник училища Вацлав Нижинский, только что принятый в труппу и сразу же выделившийся среди молодых танцоров выразительной экспрессивной пластикой и феноменальными прыжками – с двумя-тремя поворотами в воздухе. На скуластого застенчивого мальчика с диковатым разрезом глаз она обратила внимание во время выпускного экзамена, на котором присутствовала в качестве члена жюри. Отыскала среди шумной толпы сверстников, рассаживавшихся в трапезной за праздничными столами, сердечно поздравила. Он был совершенно растерян: краснел, заикался, отвечал междометиями. Милый необыкновенно. Когда Фокин попросил ее станцевать только что сочиненный «Ноктюрн» на музыку Шопена, она вспомнила маленького дикаря, предложила на роль партнера. Одноактный балет, мало что для нее тогда значивший, они показали сначала на родной сцене, а затем в Москве, в бенефис тамошнего кордебалета. Ей самой «Ноктюрн» славы не прибавил – разве что продемонстрировал умение адаптироваться к балетным новациям, а вот для Нижинского дебют в паре с первой балериной России был безусловно выигрышным билетом. Не лишне напомнить, что мужской балетный танец на рубеже XIX–XX веков не шел ни в какое сравнение с женским, в театрах Европы он попросту выродился, задачи танцоров сводились к роли носильщиков партнерш, на подмостках Милана и Парижа мужские партии исполняли переодетые балерины-травести. Исключение составляла только русская сцена с такими мастерами, как скончавшийся к тому времени Христиан Иогансон, нестареющий Павел Гердт, итальянец Энрико Чекетти, «прыгающий демон с каучуковыми конечностями», как его называли, отдавший лучшие годы служению в Мариинском театре. Однако и они с их громкими именами и известностью светили отраженным светом партнерш, целиком от них зависели, танцевали самостоятельно второстепенные невыразительные па, давая возможность балерине отдышаться перед очередной вариацией. Так что уникальный прыжок и прочие достоинства начинавшего карьеру молодого артиста не шли ни в какое сравнение с открыто проявляемым покровительством всесильной примадонны.
Накануне гастролей Вацлав заболел, пришлось срочно заменить его Н. Легатом. Не в пример младшему брату Сергею с его излишней экзальтацией и частыми перепадами в настроении, мешавшими в работе, Коля был надежным партнером. Давным-давно, выпускницей училища, она была чуточку в него влюблена: он рано выдвинулся, танцевал с ведущими балеринами, казался загадочным, необыкновенным. Все это осталось позади, отношения их носили дружески-деловой характер, не более того. Звезд с неба он не хватал, сольные номера исполнял средне, зато в паре был незаменим: легко, без усилий поддерживал, мгновенно откликался на смену движения – вовремя подбросит, вовремя подхватит, вовремя поможет добавочным посылом или вращеньем.
Подкатив в день отъезда к зданию Варшавского вокзала на автомобиле с великокняжеским гербом на дверцах, она угодила в объятья толпы. Наспех с кем-то здоровалась, отвечала на вопросы репортеров, замирала на мгновенье в живописной позе с прижатым к груди букетом цветов, пережидая вспышку магния перед треногой фотографа. В дорогу она отправлялась по обыкновению большим обозом: пятилетний Вовочка с няней, горничная, лакей, театральная портниха, очередная камеристка и напарница, артистка Клавдия Куличевская. Поднявшись в сопровождении старшего кондуктора в вагон и убедившись, что всех разместили как надо, она прошла к коридорному окну. Элегантная в дорожном костюме, с приличествующей моменту грустинкой на лице смотрела сквозь запотевшее стекло на кряжистых носильщиков с медными бляхами, таскавших под реденьким весенним снежком чемоданы, баулы и картонки, на беззвучно что-то кричавших, жестикулировавших, махавших руками людей, на застывших, подчеркнуто не замечая друг друга, по обе стороны вокзального колокола обоих возлюбленных со своими адъютантами, устремивших взоры в ее сторону.
Нервно закричал впереди паровоз. «Норд-экспресс», дернувшись раз и другой, поплыл вдоль перрона. Она не смогла удержаться от улыбки: дядя с племянником как по команде взяли под козырек. Приложив к губам душистую перчатку, она послала им обоим воздушный поцелуй:
«Оревуар, мои милые! До скорой встречи!»
5
Париж той весной завоевать ей не удалось. Дебют на сцене Grand Opera прошел с относительным успехом: отсутствовала реклама, блеснуть по-настоящему в коронных вариациях она не могла – «Корриган» танцевала впервые, партию разучивала на ходу, «Коппелию» попросту не любила, исполняла без должного настроя. Досадным сюрпризом стал здешний театральный распорядок: балеты шли в конце вечерних спектаклей, приложением к операм, пресытившаяся публика досиживала их по инерции, реагировала вяло.
Словно бы в пику ей «гвоздем» оперной программы на этот раз были артисты родной Мариинки: неутомимый Дягилев привез в Париж «Бориса Годунова» с великолепным басом Федором Шаляпиным в главной роли. Болезненным резонансом к собственному полууспеху стал ошеломляющий успех соотечественника. Великодушие, однако, и в этом случае ей не изменило: мелочная зависть стушевалась перед явлением редкого таланта.
«Я никогда не забуду этого спектакля, – вспоминает она. – Что делалось в зале, трудно даже описать. Публика, восхищенная пением и игрой Шаляпина, просто сходила с ума от восторга. В сцене, когда Годунову ночью мерещится тень царевича Дмитрия, наши соседи толкали друг друга, говоря: «Видишь, вон там в углу?», как будто и на самом деле там было привидение… Нас, русских, больше всего поразило то, что холодная публика «Опера», которую вообще очень трудно расшевелить, оказала в этот вечер артистам такой прием, о котором и до сих пор современники вспоминают как о большом событии».
С Шаляпиным она познакомилась несколько дней спустя, на домашнем спектакле с участием гастролеров из России, устроенном богачом и меценатом Н.Д. Бенардаки в фешенебельном особняке в центре Парижа, располагавшем небольшим уютным театриком. За ужином их посадили рядом. Ослепительный на сцене, в жизни Шаляпин оказался простым и компанейским – рассказывал забавные истории, участником которых был сам, изображал смешно знакомых купцов, артистов, писателей. Пил бокал за бокалом ледяное шампанское. На ее замечание, что напрасно он так рискует, горло ведь легко простудить, беспечно ответил:
– Оно у меня, сударыня, луженое. Выдержит.
Расставаясь, она пригласила его заглядывать в гости, и он явился однажды на Каменноостровский в отлично сидевшем фраке, с красной гвоздикой в петлице. Обошел, любопытствуя, дом, разглядывал картины, вертел в руках дорогие безделушки. «Сады Семирамиды, – бормотал, – ступить страшно».
– Не пойму, комплимент вы говорите или колкость, – заметила она.
– Милая моя Матильда Феликсовна! – Он галантно поцеловал ей руку. – На вас такое количество сыплется комплиментов, что, право, нелишне иногда ущипнуть. Для остроты чувств.
– Ну, разве что для остроты. Чаю хотите?
– Чаю хочу.
Он сделался своим в доме. Полюбил богемную атмосферу ее вечеринок, обилие красивых женщин, богатый стол, веселые розыгрыши с переодеваниями, до которых был большой охотник. Услышав как-то в разгар ужина, что посетивший ее когда-то Собинов исполнил над колыбелькой шестимесячного Вовочки «Спи, моя радость, усни», вскочил тут же из-за стола и понесся в детскую – петь. Насилу его удержали, объяснив, что малыш давно уже спит.
Ей везло на друзей-мужчин. С необъяснимой какой-то страстью она множила их число – не обязательно только знаменитых, богатых или сановных, как принято думать. На полуночном маскараде в театре по окончанию спектакля познакомилась случайно с провинциальным поручиком Г.Л. Марром, приехавшим в гости к родному дяде и посвятившим отпуск столичным развлечениям, в частности, балету, который почитал выше других искусств. Чем, непонятно, мог привлечь ее внимание безвестный поручик 6-го Глуховского драгунского полка, бродивший одиноко в фойе, превращенном в буфет, среди танцующих пар и мелькающих масок?
«Должно быть, – размышляет об этом сам Марр в дошедших до нашего времени записках, – у меня был очень скучающий вид, потому что маска в черном домино с голубым бантиком на груди подошла ко мне и сказала: – «Бедняжка. Я вижу, что ты очень скучаешь. У тебя, конечно, нет знакомых, по твоей форме я вижу, что ты провинциал». Берет меня под руку. Я предлагаю ей пойти выпить бокал шампанского, но она предпочитает оршад. Болтали о балете, об опере, о том, о сем». Он просит ее открыть свое имя, она соглашается, однако с условием: пусть явится завтра после представления «Дочери фараона» к артистическому подъезду, взойдет на вторую площадку, она будет там с голубым бантиком на ротонде.
Он несется на другой день в театр. «Опускается занавес, – читаем далее в записках, – я направляюсь к подъезду артистов. А может, правду сказал дядя, что надо мною посмеялись. У подъезда выстроены в ряды санки, кареты, огромные колымаги. Вхожу в подъезд, подымаюсь на вторую площадку. Всюду много ожидающих выхода артистов: пажи, лицеисты, правоведы, офицеры, штатские. Выходят артистки, их встречают почитатели, уходят, проходят мимо меня, и ни на одной нет голубого бантика. Достаю папиросу, чтобы закурить перед уходом. В это время выходит театральный лакей, спускается к выходной двери, открывает ее и кричит: «Карету госпожи Кшесинской!» Прекрасно, думаю я, хотя моей незнакомки нет, я все-таки увижу вблизи, в натуре, царицу балета. Открывается дверь. Раздаются аплодисменты ожидающих. Я вижу это прелестное личико, обрамленное шарфом… Но что это? На ротонде большой голубой бант. Она останавливается, улыбается, делает рукой приветственные жесты аплодирующим, разглядывает их и направляется ко мне. «Я сдержала слово. Здравствуйте. Вот вам награда… – и дает мне бант. – На память обо мне»…
О чем, кажется, еще мечтать? Поручик на седьмом небе, лепечет что-то в растерянности, а царица балета, между тем, зовет его назавтра на чашку чая. И вновь никакого розыгрыша: он является в пятом часу, его радушно принимают, хозяйка сама доброта и сердечность – собственными ручками разливает чай, расспрашивает о семье, о сослуживцах, демонстрирует гостю, как любимый ее черный пудель прыгает через стулья и стоит на часах. Он просит разрешения закурить, она разглядывает с интересом его портсигар, пестрящий монограммами полковых приятелей, изображениями шпор, стремян, погон, бутылок.
«Очень интересно, – говорит. – Я вижу, что еще есть место. Оставьте мне его. Я поставлю на нем свое факсимиле. Ведь вы не уезжаете еще на этой неделе? Я его сегодня же завезу к Фаберже и когда будет готов, то пришлю вам его на квартиру. Дайте мне ваш адрес».
Сон наяву продолжается. Портсигар с монограммой Матильды Кшесинской и ее фотография с дарственной надписью привезены через три дня камеристкой, он едет ее благодарить, она его вновь дружелюбно принимает, говорит на прощанье:
– Если вам когда-нибудь что-нибудь будет нужно, где бы вы ни были – обращайтесь ко мне. Я постараюсь сделать для вас все, что будет в моих силах.
И ведь сдержала слово! Служа на Дальнем Востоке, Марр становится свидетелем драматической истории. На танцевальном вечере в одном из казачьих полков знакомый ему офицер, сотник Люман, вступившись за честь жены, сам, вдобавок, будучи оскорбленным, убивает обидчика, штабс-капитана Афанасьева, за что приговаривается вначале к смертной казни, а затем, при пересмотре дела, к заключению в крепости на два с половиной года. Попытки жены подать через специальную Комиссию прошение на высочайшее имя о помиловании супруга успеха не имеют – по каким-то формальным соображениям просьбу ее отклоняют. Отчаявшаяся женщина умоляет Марра о помощи: в Петербурге у него родственники, дядя-чиновник. Не посодействуют ли? Он вспоминает Кшесинскую, прощальные ее слова. Что, если попробовать? Никакие родственники и дяди, понимает он, тут не помогут, нужна по-настоящему сильная протекция. Минуло, правда, со времени их знакомства два года, не мудрено, если она и имя его забыла. Впрочем, попытка не пытка. Приложив к прошению личную записку, он направляет заказное письмо на домашний ее адрес и через месяц получает ответ. В принесенной посыльным телеграмме всего два слова: «Передано. Матильда». Вечером того же дня он узнает через знакомого штабного офицера: по телеграфу пришло распоряжение коменданту крепости освободить немедленно из-под стражи сотника Люмана и объявить ему, что государь помиловал его без всяких ограничений.
Готовый сюжет в жанре любимой ею мелодрамы…
Ей импонировала роль феи-волшебницы, творящей добро, нравился успех, сопутствовавший предпринимаемым ею актам человеколюбия, счастливые лица облагодетельствованных просителей, собственная манера вести себя по достижению цели: скромно, незаметно стушеваться, дабы избежать ненужных проявлений благодарности – взмахнула волшебной палочкой и словно бы растворилась чудесным образом в окружающем воздухе. Немалое число людей пользовалось этой ее слабостью, и самым искусным среди них, вне всякого сомнения, был милейший Сергей Павлович Дягилев.
Чиновник по особым поручениям при директоре императорских театров, говоривший о себе: «У меня есть известная душевная наглость и привычка плевать в глаза», в умении приобретать покровителей не знал себе равных. В натуре его было много от гоголевского Чичикова: явился откуда-то из провинции, тут же со всеми сошелся, всех очаровал, в первую очередь – дам, что выглядело в силу известных обстоятельств особенно пикантно, окружил себя пестрой толпой оригиналов – художников, музыкантов, литераторов, затевал бесконечные какие-то новшества: то иллюстрированный журнал большого формата, то грандиозную выставку русского портрета от истоков до наших дней, теперь вот – заграничные оперные антрепризы. И на любое начинание незамедлительно отыскивал меценатов. Редкостный дар, что и говорить…
Он ее по-своему восхищал. Рос на глазах как личность. При знакомстве обнаружил достаточно поверхностное знание балета: что-то, там, такое читал, что-то успел посмотреть на сцене, бренчал дилетантски на фортепиано, но через год-полтора делал уже замечания, давал советы, с интонациями мэтра судил-рядил о качестве постановок, уровне хореографии, выставлял безапелляционно оценки, и что самое удивительное – достаточно умно, со знанием дела. В Париже, завершая триумфально оперный сезон с Шаляпиным, поделился очередной идеей: придать гастролям за границей новый размах, привезти на будущий год во Францию цвет русского балета.
– Вы, Малюша, – пел соловьем, – естественно, возглавите список звезд. Мы с вами положим Париж на лопатки.
Ясно было как божий день: рассчитывает на содействие. Он этого и не скрывал. Предприятие по скромным подсчетам требовало 25 тысяч казенной субсидии, одобрения двора. Согласившись ему помочь, она столкнулась неожиданно с непредвиденным обстоятельством: скончался посвященный в затею отец Андрея великий князь Владимир Александрович, обещавший свое покровительство. Верная слову, она тем не менее не оставляла начатых хлопот, когда совершенно случайно узнала: душка Сергей Павлович, оказывается, давным-давно уже составил гастрольную афишу, из которой явствовало, что список отобранных на поездку солисток будет возглавлять вовсе не она, а Павлова, получившая коронную свою «Жизель», ей же предоставили танцевать партию в «Павильоне Армиды», решительно не позволявшую проявить наиболее сильные стороны ее дарования. Объяснение с неблагодарным приятелем ни к чему не привело – Дягилев уперся как бык, стоял на своем.
– Танцуйте в таком случае «Павильон» сами! – оборвала она бессмысленный спор.
В который раз за время знакомства они вдребезги разругались. В пику ему она отправилась на гастроли в Париж в одиночку, очаровала художественного директора Гранд-опера А. Мессаже, разрешившего ей, вопреки существовавшим правилам, вставить в танцуемый балет (все тот же чопорный сухой «Корриган») любимейшую вариацию из «Дочери фараона» Пуни, и имела на этот раз громадный успех, несколько, правда, омраченный. Спустя неделю в том же Париже на сцене неуютного, казенного театра Шатле имели не меньший успех привезенные Дягилевым (чудом раздобывшим где-то необходимые средства) Анна Павлова с Тамарой Карсавиной и в особенности юный ее протеже Вацлав Нижинский, открывший европейской публике, подобно Колумбу, неизвестный доселе материк – искусство сольного мужского танца.
Вчерашний новичок заметно прибавил со времени их знакомства: возмужал, окреп, технически раскрепостился. В облике его, движениях сквозило что-то кошачье: вот-вот, кажется, выгнет ласково спинку, потрется, мурлыкая, о колени, чтобы выпустить затем коготки, заскребет хищно по полу. Удивительная, ни на что не похожая пластика: голова низко опущена, плетьми повисшие или, напротив, резко оттопыренные по сторонам руки, движется отрешенно, на ступнях, пальцами внутрь, а в теле словно бы нарастает скрытая энергия, которая через мгновенье вырвется наружу, неистово забурлит – и все это не измышленно, все от внутренней «органики», безошибочно бьет в цель, играет на образ. Во Францию он уехал на грани увольнения – министр Двора барон Фредерикс строго указал дирекции императорских театров на порочащий звание солиста Его Величества образ жизни Нижинского: замечен в обществе аморальных личностей, состоит в предосудительной связи со скандально известным князем Львовым, который, по слухам, передал его нынче в пользование чиновнику по особым поручениям Дягилеву – возмутительно! позор!.. Чашу терпения переполнила последняя работа танцора в «Жизели» в паре с Анной Павловой: явился перед публикой в придуманном Бакстом укороченном костюме графа Альберта, выделявшем нежелательные анатомические подробности, что вызвало нервный испуг у присутствовавшей на спектакле вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Не веря глазам, она схватила лежавший на бордюре черепаховый лорнет, уставилась на сцену. «Цирк Чинизелли, а не императорский театр!» – произнесла возмущенно. Царская ложа через мгновенье была пуста. Дирекция на следующий день получила очередной разнос, Нижинского предупредили о служебном несоответствии, оштрафовали вместе с Бакстом за непристойность.
Получавший что ни день тычки и затрещины одиозный артист взял реванш в Париже участием в феерической постановке балета-сказки «Петрушка» Михаила Фокина, Александра Бенуа и Сергея Дягилева на музыку Стравинского.
Перед публикой, заполнившей в день премьеры спешно перестроенный Дягилевым, преобразившийся за несколько недель театр «Шатле», открылась картина русской ярмарки в Петербурге – на фоне силуэта знаменитого города. Сцену заполнила пестрая живописная толпа: купцы, кучера, мастеровые, военные, бабы-простолюдинки, цыган с медведем. В обстановке разудалого веселья – контрапунктом – разворачивалась трагедия тряпичного «маленького человека», напоминавшего героя блоковского «Балаганчика».
В роли ярмарочной балаганной куклы Нижинский был великолепен, неподражаем! Петрушка по жизни станцевал самого себя. Отбросив балетный канон, предписывавший чувства сценических героев условно изображать, он их открыто переживал. Странно-ассиметричный, словно бы составленный из острых углов гротесковый его танец был из какого-то еще не ведомого, смутно прозреваемого балета завтрашнего дня, способного заглянуть в потаенные уголки человеческой души, поспорить по глубине проникновения в мир персонажей с театральной драмой…
Увидеться в тот раз им не удалось: Дягилев ни на шаг не отпускал от себя нового возлюбленного, оберегал от нежелательных встреч. Она послала в гостиницу на имя Нижинского цветы с открыткой и не получила ответа – бог с ним, как говорится, мальчик тут был ни при чем, но каковы, однако, бывают мужчины – мстительны, мелочны! – фи, как неблагородно!
Два года между ней и Дягилевым шла позиционная война, закончившаяся, когда нужда обоих друг в друге стала очевидной.
«Наконец, – пишет уже цитировавшийся историк балета Арнольд Хаскелл, – Кшесинская и Дягилев, две наиболее сильные личности в России, помирились. У них часто бывали бурные столкновения, и они бывали то союзниками, то врагами, но они уважали друг друга и обладали редким качеством – отсутствием злопамятности. Когда Дягилев представил меня ей в Монте-Карло, он сказал: «Вот противник, достойный меня».
По окончанию военных действий победителю полагалась контрибуция. Благородно принявший на себя роль проигравшего Дягилев положил к ногам Кшесинской свежий контракт на участие в ежегодных отныне «русских сезонах» за границей – на этот раз в Лондоне. Подарок преподнес с присущим ему артистизмом: молчал, сидя в кресле, протирал неторопливо монокль, пока она подписывала бумаги, вставил аккуратно стекло в глаз, молвил смиренно:
– На поцелуй не надеюсь, но стакан простого вина, думаю, бедный импресарио заслужил.
Она расцеловала его в обе щеки.
6
Гости после обеда разделились: мужчины направились в расположенный по соседству курительный салон, дамы, предводительствуемые князем Паоло Трубецким, – знакомиться в зимнем саду с последним его творением, статуэткой хозяйки дома.
– Медам-с, прошу иметь в виду… – Не знавший ни слова по-русски импозантно одетый скульптор-полуиностранец удерживал толпившихся в проходе женщин. – Работа еще не окончена.
Пройдя по мраморной дорожке к возвышавшемуся среди экзотических растений сооружению на подставке, он изящным движеньем руки сбросил с него простыню. Глазам присутствующих предстала парящая в изящном арабеске глиняная фигурка Кшесинской в половину человеческого роста.
«Необыкновенно!.. Восхитительно!.. Браво, князь!» – раздались голоса.
Пристально вглядывавшийся в собственное творение, Трубецкой явно был чем-то озабочен. Нагнулся, позабыв о зрительницах, к стоявшему у ног корытцу, захватил в пригоршню, запачкав шелковую манжету, изрядный кусок глины…
– Нет, нет, Паоло! – послышался взволнованный голос.
Кшесинская, напоминавшая «Свободу на баррикадах» Делакруа, кинулась ему наперерез, загородила руками скульптуру.
– Пожалуйста, прошу вас!.. Милые дамы, ну что же вы? – обернулась она к гостьям. – Образумьте его! Он все время что-то переделывает. И делает хуже. Я все меньше на себя похожа.
Общими усилиями Трубецкого оттеснили от подиума, повели, окружив, к выходу.
– Насилие над творцом – несомненный признак варварства! – отбивался тот по дороге.
– А насилие творца над моделью? – вопрошала, крепко держа его за рукав, Кшесинская.
Она терпеть не могла позировать художникам. Ужас просто – высидеть неподвижно (тем более выстоять) несколько томительных часов! Отказала после первого же сеанса Константину Маковскому, вознамерившемуся написать ее портрет в домашнем интерьере, с сыном на коленях. Приехавший из Италии Паоло Трубецкой обхаживал ее больше года и уговорил в конце концов поработать недельку-другую – в зимнем саду особняка, где не опасно было, что он в азарте забрызгает глиной ковры и мебель.
Флорентийский русский князь был личностью бесподобной. Памятник его Данте считался в Италии классическим. Друживший с ним Дягилев отзывался о нем: «Чудак, оригинал и невежда». По собственным словам, он в жизни не прочел ни строчки Толстого. Последний пригласил его как-то в гости в Ясную Поляну, обласкал, подарил на прощанье собрание своих сочинений. Уезжая, Трубецкой забыл их в гардеробной. Общение с ним было, по словам Кшесинской, «забавно и несносно». Убежденный вегетарианец, князь, несмотря на несколько случаев холеры в городе, поглощал во время сеансов немыслимое количество сырых фруктов, его неожиданно схватывало и он стремительно исчезал в коридоре, крича, что у него начинается холера.
Лепить ее он начал, завершив фундаментальный труд – конный монумент Александра Третьего, вызвавший уже в процессе создания бурную полемику в обществе. Говорили о политической карикатуре, оскорблении памяти покойного монарха. Тяжеловесный мрачный император восседал на таком же тяжеловесном неповоротливом битюге с обрубленным хвостом. Скульптура, однако, неожиданно понравилась вдовствующей императрице Марии Федоровне, и не любивший перечить матери Николай дал скрепя сердце согласие на установку монумента в центре Знаменской площади.
По Петербургу гуляла эпиграмма: «На площади стоит комод, на комоде – бегемот, на бегемоте – идиот». Раздосадованный Николай собирался даже перенести злополучный памятник в Иркутск, но передумал, услышав очередную остроту, что, мол, государь собирается сослать батюшку в Сибирь.
Мучимая любопытством, она поинтересовалась как-то у Трубецкого: что именно он имел в виду, создавая столь необычную скульптуру? Заключена в его замысле какая-то идея?
Ваятель отделался шуткой:
– Ну, какая там идея, право! Я ведь не Гойя. Посадил конеподобного царя на цареобразного коня. Только и делов…
Она резко в тот раз его отчитала.
– Фи, как вульгарно, Паоло! – произнесла, пылая лицом. – Ужас просто – услышать подобное от человека с вашей фамилией. Не пойму, что за мода нынче в обществе – поливать помоями святыни?.. Вы меня ужасно огорчили…
Набивавшийся в друзья Трубецкой стал ей неприятен. Сославшись на занятость в связи с лондонскими гастролями, она отвадила его от дома.
7
К берегам туманного Альбиона она отбывала внушительным караваном: горы багажа, многочисленная свита: молодой любовник с денщиком и адъютантами, домашний советник барон Готш, сыночек Вовочка с детским доктором и англичанкой мисс Митчел, горничная, театральная портниха, любимый мопсик Джиби. На вокзале в последнюю минуту обнаружили отсутствие сумочки с ключами от сундуков, срочно пришлось отправлять домой автомобиль, отход поезда задержали, время шло, шофер как в воду канул. Начальник станции в конце концов взмолился: ждать далее невозможно, график движения и без того нарушен – ехать пришлось без ключей.
На пароход в Остенде они грузились в ужасающую погоду: мрак, дождь с ураганным ветром, на море шторм. Поев немного в судовом ресторане и выпив красного вина, она отправилась прилечь в каюту. Пробегая на пронизывающем ветру по палубе, увидела поразительное зрелище: в прислоненном к капитанскому мостику кресле сидел, уронив бессильно голову, бедняга Готш в одной пижаме, а стоявший рядом матрос поливал его из ведерка водой.
Измотанные качкой, прибыли они в Дувр, пересели на поезд. На лондонском вокзале их ожидало очередное испытание: чиновники таможни попросили открыть показавшиеся подозрительными сундуки. Им стали объяснять, что выполнить просьбу невозможно: забыты в России ключи, их в скором времени привезут. Таможенники, заподозрив неладное, потребовали либо немедленно взломать замки, либо оставить багаж на складе. До прояснения обстановки.
– Господа! – не выдержали у нее нервы. – Вы что, не видели афиш? Они расклеены по всему Лондону! Там повсюду мое имя! Я прима-балерина русского балета, приехала к вам на гастроли! В сундуках нет ничего запрещенного, только мои театральные костюмы! Завтра мне в них выступать…
Бурный ее монолог возымел действие: таможенники отошли в сторону, стали совещаться. После томительного перешептывания один из них, вернувшись, принялся помечать мелком вещи. Получив паспорта и разместившись в трех таксомоторах, они покатили под моросящим дождиком в отель.
Выходя четверть часа спустя из машины под предупредительно распахнутый зонт гостиничного привратника, она увидела сбегавших по ступеням четырех мужчин в смокингах – то были прибывшие накануне в Лондон после парижского ангажемента Дягилев, Бакст, Бенуа и Нижинский (последний прятал за спиной необъятный букет).
– Боже, как трогательно! – всплеснула она руками. – Но отчего не в вестибюле? Вы же все промокнете!
В холле «Савоя» толпились газетчики. Ответив на несколько вопросов и дав возможность себя сфотографировать, она устремилась к дверцам лифта: