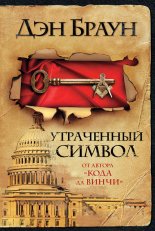Триумфальная арка Ремарк Эрих Мария
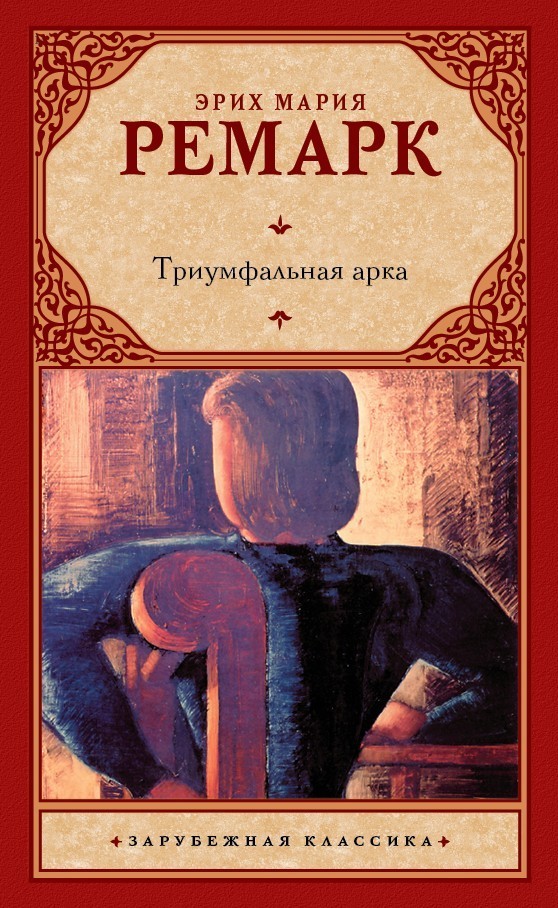
Он отставил микроскоп. Потом закурил сигарету и подошел к окну. На улице платаны уже зазеленели вовсю. А последний раз, когда он здесь был, стояли голыми.
Роланда принесла кофе.
– А девушек у вас изрядно прибавилось, – заметил Равич.
– Да, на двадцать человек больше.
– Неужто такой спрос? Это летом-то, в июне?
Роланда подсела к нему.
– Спрос такой, что мы вообще ничего понять не можем. Люди как с цепи сорвались. Уже после обеда валом валят. А уж вечером…
– Может, это от погоды?
– Погода ни при чем. Я же помню, как это обычно бывает в мае, в июне. А сейчас просто безумие какое-то. Бар торгует – ты не поверишь как. Можешь вообразить, чтобы французы у нас, по нашим-то ценам, шампанское заказывали?
– Нет.
– Ну, иностранцы – это понятно. На то они и иностранцы. Но чтобы французы! Да еще парижане! Шампанское! И не только заказывают – платят! Вместо дюбонне, пива или там коньяка. Можешь поверить?
– Пока сам не увижу – нет.
Роланда налила ему кофе.
– А на девушек спрос, – продолжила она, – просто одуреть. Да сам увидишь, когда вниз сойдешь. И это сейчас, днем! И никаких тебе больше осмотрительных торгашей, которые твоего визита дожидались. Там уже просто орава! Что на людей нашло, Равич?
Равич передернул плечами.
– Океанский лайнер идет ко дну. Старая история.
– Но мы-то совсем не тонем, Равич! Дела идут на загляденье!
Дверь отворилась. В розовых шелковых штанишках вошла Нинетта, красотка двадцати одного года от роду, тоненькая, задорная, немножко под мальчика. При ангельском личике она считалась одной из самых умелых девиц заведения. Сейчас она внесла поднос с хлебом, масленкой и двумя горшочками мармелада.
– Хозяйка прослышала, что доктор кофе попросил, – объявила она с неожиданной басовитой хрипотцой. – Вот, послала вам мармелада попробовать. Собственного изготовления! – Нинетта вдруг подмигнула. Ангельское личико преобразилось в озорную похабную гримаску. Она поставила поднос и, пританцовывая, удалилась.
– Сам видишь, – вздохнула Роланда. – Стыда никакого. Знают, что без них никуда.
– Ну и правильно, – заметил Равич. – Когда же еще им распускаться, как не сейчас? Но как прикажешь понимать этот мармелад?
– Что ты, это же гордость нашей хозяйки. Сама варит. В своем имении на Ривьере. И в самом деле хороший мармелад. Попробуешь?
– Мармелад терпеть не могу. Особенно когда его варят миллионерши.
Роланда открутила стеклянную крышку, зачерпнула пару ложек мармелада, положила на плотный лист вощеной бумаги, добавила ломтик масла и два куска хлеба, завернула все в аккуратный пакет и дала Равичу.
– Потом можешь выкинуть, – сказала она. – А сейчас возьми, сделай ей приятное. Она же потом придет, спросит, ел ли ты, понравилось ли. Последняя радость женщины, у которой на старости лет других иллюзий не осталось. Просто из вежливости возьми, и все.
– Ладно. – Равич встал и приоткрыл дверь. – Да у вас тут дым коромыслом, – заметил он, прислушиваясь. Снизу доносились голоса, музыка, крики и смех. – Это что, все французы?
– Эти нет. В большинстве иностранцы.
– Американцы?
– Что самое странное – нет. В основном немцы. Столько немцев у нас отродясь не было.
– Ничего странного.
– И большинство очень хорошо говорят по-французски. Совсем не то, что пару лет назад.
– Я так и думал. Наверно, и ваших вояк много. Новобранцев и из колониальных войск?
– Ну, эти-то всегда ходили.
Равич кивнул.
– И что, немцы много тратят?
Роланда усмехнулась:
– Еще как! Любого готовы угостить, кто с ними захочет выпить.
– Особенно ваших военных, верно? А ведь в Германии строгие ограничения на иностранную валюту и границы на замке. Выехать можно только с разрешения властей. И денег с собой не больше десяти марок. Разве не странно, что у вас при этом столько развеселых щедрых немцев, запросто болтающих по-французски?
Роланда передернула плечиками:
– По мне так пусть. Лишь бы платили.
Домой он вернулся после восьми.
– Никто мне не звонил? – спросил он у портье.
– Нет.
– И после обеда тоже?
– Нет. Весь день никто.
– Может, кто заходил, меня спрашивал?
Портье покачал головой:
– Абсолютно никто.
Равич направился к лестнице. Поднимаясь к себе, на втором этаже услышал, как ругаются супруги Гольдберг. На третьем орал младенец. Не простой младенец, а французский гражданин Люсьен Зильберман, одного года и двух месяцев от роду. Для своих родителей, торговца кофе Зигфрида Зильбермана и его жены Нелли, урожденной Леви из Франкфурта-на-Майне, он был и свет в окошке, и важный практический резон. Как-никак родился он во Франции, в связи с чем Зильберманы надеялись на два года раньше получить французские паспорта. Не по возрасту сметливое чадо, пользуясь родительским обожанием, мало-помалу превращалось в домашнего тирана. На четвертом этаже дудел граммофон. Он принадлежал беженцу Вольмайеру, бывшему заключенному концлагеря Ораниенбург, большому любителю немецких народных песен. Коридор провонял затхлостью, сумерками и тушеной капустой.
Равич пошел к себе в номер почитать. Когда-то по случаю он купил несколько томов всемирной истории и время от времени погружался в их изучение. Веселого в этом занятии было не много. Единственным, что хоть как-то утешало, давая повод для мрачного злорадства, была мысль, что в происходящем сегодня с общеисторической точки зрения ничего нового нет. Все это уже было, и не один, а десятки раз. Вероломства, измены, убийства, варфоломеевские ночи, подкупы и продажность ради власти, войны беспрерывной и неумолимой чередой – история человечества писалась слезами и кровью, и в образах прошлого, среди тысяч обагренных кровью статуй злодеев лишь изредка проблеском света мелькал серебристый нимб добра. Демагоги, обманщики, убийцы отцов, братьев, лучших друзей, опьяненные жаждой власти себялюбцы, фанатики-пророки, насаждавшие любовь огнем и мечом, – все было вечно одно и то же, снова и снова терпеливые народы позволяли гнать себя на бойню, натравлять себя друг на друга во имя царей, религий и вообще любых безумцев и безумств – и не было этому конца.
Он отложил книгу. Снизу из-за открытого окна слышались голоса. Он их узнал – это были Визенхоф и жена Гольдберга.
– Нет, не сейчас, – говорила Рут Гольдберг. – Он скоро вернется. Через час.
– Так это ж целый час.
– Может, и раньше.
– Куда хоть он пошел?
– К американскому посольству. Каждый вечер туда ходит. Просто стоит и смотрит. Больше ничего. Потом возвращается.
На это Визенхоф что-то еще сказал, но Равич его слов не расслышал.
– Конечно, – сварливо отозвалась Рут. – А кто не сумасшедший? А что он старый, я и без тебя знаю.
– Прекрати, – послышалось немного погодя. – Не до этого мне. И вообще настроения нет.
Визенхоф что-то промямлил.
– Тебе хорошо говорить, – ответила она. – Все деньги у него. У меня вообще ни гроша. А ты…
Равич встал. В нерешительности посмотрел на телефон. Уже почти десять. С тех пор как Жоан утром от него ушла, от нее не было никаких вестей. Он не спросил, придет ли она сегодня вечером. Но был уверен, что придет. И только теперь начал сомневаться.
– Тебе все просто! Тебе лишь бы свое получить, и больше ничего, – ворчала внизу жена Гольдберга.
Равич пошел к Морозову. Но его комната оказалась заперта. Тогда он спустился в «катакомбу».
– Если позвонят, я внизу, – бросил он консьержу.
Морозов и правда был тут. Играл в шахматы с каким-то рыжим. В «катакомбе», кроме них, было еще несколько женщин. С сосредоточенными лицами те сидели по углам – кто с чтением, кто с вязаньем.
Некоторое время Равич наблюдал за ходом партии. Рыжий оказался силен. Он играл быстро и внешне совершенно бесстрастно. Морозов проигрывал.
– Видал, как меня громят? – спросил он.
Равич передернул плечами. Рыжий вскинул глаза.
– Это господин Финкенштайн, – представил его Морозов. – Только что из Германии.
Равич кивнул.
– Ну и как оно там? – спросил он без особого интереса, скорее из вежливости.
Рыжий только приподнял плечи и ничего не ответил. Равич, впрочем, другого и не ждал. Это только в первые годы было: торопливые расспросы, надежды, ожидания неминуемого краха не сегодня, так завтра. Теперь-то каждый давно осознал: избавление может принести только война. И всякий сколько-нибудь способный мыслить человек понимал: у правительства, которое решает проблемы безработицы за счет производства вооружений, только две дороги – одна прямиком к войне, вторая – к национальной катастрофе. Значит, война.
– Мат, – без всякого восторга, скорее буднично объявил рыжий и встал. Потом посмотрел на Равича. – Что бы такое придумать от бессонницы? Не могу спать. Только засну – и сразу просыпаюсь.
– Выпить, – посоветовал Морозов. – Много бургундского или пива.
– Я дам вам таблеток, – сказал Равич. – Пойдемте со мной.
– Только возвращайся, Равич, – крикнул вслед Морозов. – Не оставляй меня в беде, братишка!
Некоторые из женщин вскинули головы. Потом снова принялись за чтение или вязание, словно от этого усердия их жизнь зависит. Вместе с Финкенштайном Равич поднялся к себе в комнату. Когда открыл дверь, волна сквозняка из распахнутого окна обдала его темной ночной прохладой. Он глубоко вздохнул, повернул выключатель и окинул взглядом всю комнату. Никто не приходил. Он дал Финкенштайну таблетки.
– Спасибо, – все с той же непроницаемой физиономией поблагодарил Финкенштайн и удалился, словно призрак.
Только тут Равич внезапно понял: Жоан не придет. А еще он понял, что еще утром знал это. Просто признаться себе не хотел. Он даже оглянулся, словно кто-то другой, у него за спиной, ему это подсказал. Все вдруг стало просто и ясно как день. Она добилась своего, а теперь можно и не спешить. А чего, собственно, он ждал? Что ради него она все бросит? Вернется и будет приходить каждую ночь, как прежде? Какой же он дурак! Конечно, у нее есть кто-то другой, и не только он один, – у нее теперь вся жизнь другая, и она от этой жизни ни за что не откажется!
Он снова спустился вниз. На душе было тошно.
– Кто-нибудь звонил? – спросил он.
Только что заступивший ночной консьерж, сосредоточенно жуя чесночную колбасу, только головой мотнул.
– Я жду звонка. Если что, я пока внизу. – И он отправился к Морозову.
Они сыграли партию. Морозов выиграл и удовлетворенно огляделся. Женщины тем временем бесшумно исчезли. Он позвонил в допотопный колокольчик.
– Кларисса! Графин розового, – распорядился он. – Этот Финкенштайн играет как швейная машина, – заявил он затем. – Противно смотреть. Одно слово – математик. Ненавижу безукоризненность. Есть в ней что-то бесчеловечное. – Он взглянул на Равича. – А ты что здесь потерял в такой вечер?
– Звонка жду.
– Опять готовишься кого-нибудь строго по науке угробить?
– Да я уже вчера кое-кому желудок вырезал.
Морозов наполнил бокалы.
– Сидишь тут, пьешь, – пробурчал он. – А где-то там твоя несчастная жертва в бреду мается. В этом тоже есть что-то бесчеловечное. Пусть бы у тебя хотя бы желудок болел, что ли…
– И то правда, – отозвался Равич. – Все беды нашего мира как раз от этого: мы не ведаем, что творим. И не чувствуем! Но если ты надумал улучшить мир, почему ты решил начать именно с врачей? Политики и генералы, по-моему, куда больше подходят. Глядишь, прямо сразу вечный мир и настанет.
Морозов откинулся на спинку стула и уперся в Равича тяжелым взглядом.
– С врачами лучше вообще не иметь ничего личного, – изрек он. – Иначе трудно им доверять. Мы с тобой сколько раз вместе напивались – ну как, скажи, мне после этого к тебе на операцию лечь? Знай я даже, что как хирург ты сильнее кого-то другого, с кем я не знаком, – все равно лучше к незнакомому лягу. Склонность доверяться неизведанному – исконное, глубинное человеческое свойство, старина! Врачей надо бы безвылазно держать в больницах, не допуская их к прочим смертным. Ваши предшественники, колдуны и ведьмы, прекрасно это знали. Ложась под нож, я должен верить в хирурга-сверхчеловека.
– Да я бы и не стал тебя оперировать, Борис.
– Это почему же?
– Кому охота оперировать родного брата?
– Я тебе в любом случае такого одолжения не сделаю. Умру во сне от разрыва сердца. Как видишь, я усердно работаю в этом направлении. – Морозов посмотрел на Равича глазами расшалившегося ребенка. Потом встал. – Все, мне пора. Стоять при дверях в храме культуры на Монмартре. И чего ради, собственно, живет человек?
– Ради раздумий над подобными вопросами. У тебя еще какие-нибудь в запасе?
– Да. Почему, предаваясь подобным размышлениям и даже сделав из себя на склоне лет что-то толковое, он тут как раз и помирает?
– Некоторые, между прочим, умирают, так и не сделав из себя ничего толкового.
– Ты не увиливай. И не вздумай кормить меня баснями насчет переселения душ.
– Позволь, сперва я тебя кое о чем спрошу. Как известно, львы поедают антилоп, пауки – мух, лисы – кур. Существа какой породы, единственные на земле, непрестанно друг с другом сражаясь, убивают себе подобных?
– Детский вопрос. Понятное дело, человек, венец творения, успевший изобрести такие слова, как любовь, добро, милосердие.
– Хорошо. Существа какой породы, опять-таки единственные в земной фауне, не только способны на самоубийства, но и совершают их?
– Опять же человек – хотя он придумал вечность, Бога и даже его воскресение.
– Отлично, – продолжил Равич. – Теперь ты сам видишь, из скольких противоречий мы состоим. И после этого ты еще спрашиваешь, отчего мы умираем?
Морозов растерянно вскинул на него глаза. Потом отхлебнул изрядный глоток из своего бокала.
– Ты просто софист, – заявил он. – И трусливый двурушник.
Равич смотрел на него. Жоан, простонало что-то в нем. Ну что бы ей сейчас войти, прямо вот в эту запыленную стеклянную дверь!
– Вся беда в том, Борис, – начал он, – что мы научились думать. Сохрани мы себя в блаженном неведении похоти и обжорства, ничего бы не случилось. Но кто-то проводит над нами эксперименты – и, похоже, не пришел пока ни к какому результату. Но сетовать нам не к лицу. И у подопытных животных должна быть своя профессиональная гордость.
– Это мясники пусть так рассуждают. Но не быки. Ученые. Но не морские свинки. Медики пусть так распинаются. Но только не белые мыши.
– Тоже правильно. Да здравствует логический закон достаточного основания. Давай, Борис, выпьем лучше за красоту – эту вечную прелесть мгновения. Знаешь, чего еще, кроме человека, никто из живых существ не умеет? Смеяться и плакать.
– И упиваться. Спиртным, вином, философией, женщинами, надеждой и отчаянием. И знаешь, чего еще, кроме него, никто не знает? Что он неминуемо умрет. Зато в качестве противоядия ему дарована фантазия. Камень существует сам по себе. Растение и животное тоже. Они целесообразны. И не ведают, что умрут. А человеку это известно. Возвысься, душа! Лети! А ты, узаконенный убийца, не распускай нюни! Разве мы только что не воспели хвалу роду человеческому? – Морозов тряхнул чахлую пальму так, что с той посыпалась пыль. – Прощай, мечта в кадке, доблестный символ пленительных южных надежд, комнатная отрада владелицы заштатного французского отеля! Прощай и ты, безродный отщепенец, вьюнок, не имеющий, что обвить, жалкий воришка, обшаривающий карманы смерти! Гордись тем, что ты один из последних романтиков!
Он расплылся в улыбке.
Однако Равич не улыбнулся в ответ. Он смотрел на дверь. Дверь отворилась и впустила ночного портье. Тот шел прямо к их столику. Телефон, застучало в висках у Равича. Наконец-то! Все-таки!
Но он не вскочил.
Он ждал. Ждал и чувствовал, как напряглись руки.
– Ваши сигареты, господин Морозов, – сказал портье. – Мальчишка-посыльный только что принес.
– Благодарю. – Морозов засунул в карман коробку русских папирос. – Пока, Равич! Позже еще увидимся?
– Может быть. Пока, Борис!
Человек без желудка смотрел на Равича в упор. Его тошнило, но не рвало. Нечем было. Это примерно так же, как болят ампутированные ноги.
Больной был беспокоен. Равич сделал ему укол. Шансов выжить у него немного. Сердце не ахти, одно легкое изъедено застарелыми кавернами. Для своих тридцати пяти особым здоровьем этот пациент похвастаться не может. Матерая язва желудка, худо-бедно залеченный туберкулез, а теперь вот рак. В истории болезни значилось, что больной четыре года был женат, жена умерла родами, а ребенок три года спустя от туберкулеза. Других родственников не имеется. И вот он лежит, смотрит на него в упор и не хочет умирать, терпеливо и мужественно переносит страдания и пока еще не знает, что кормить его теперь надо через катетер напрямую в кишечник и одна из немногих оставшихся радостей в его жизни – возможность полакомиться вареной говядиной с горчицей и маринованными огурчиками – теперь навсегда ему заказана. Вот он лежит, весь раскромсанный, воняет, и тем не менее в нем все еще теплится нечто, что высвечивает смыслом глаза и зовется душой. Гордись, что ты один из последних романтиков! Воспеть хвалу роду человеческому!
Равич повесил на место график температуры и пульса. Сестра у койки почтительно встала в ожидании указаний. Рядом с ней на стуле лежал недовязанный свитер. С воткнутыми спицами, с клубком шерсти, что покоился тут же на полу. Тонкая шерстяная нить свисала со стула, как струйка крови, – казалось, это свитер истекает кровью.
«Вот он лежит, – думал Равич, – и даже после укола ночь у него будет не приведи господи – боли, полная неподвижность, затрудненное дыхание, кошмары и бред, а я всего-навсего жду женщину и имею наглость полагать, что, если женщина не придет, ночь у меня тоже выдастся нелегкая. Я знаю, насколько это смешно в сравнении с муками вот этого умирающего или в сравнении с участью Гастона Перье из соседней палаты, которому раздробило руку, в сравнении с тысячами других несчастных, в сравнении с тем, что случится на планете хотя бы одной этой сегодняшней ночью, – и все равно мне от этого ничуть не легче. Не легче, не проще, не спокойнее – мне все так же худо. Как это Морозов сказал? Почему у тебя не болит желудок? В самом деле, почему?»
– Позвоните мне, если потребуется, – сказал он медсестре. Это была та самая, круглолицая, которой Кэте Хэгстрем подарила радиолу.
– Господин такой смиренный, – заметила она.
– Какой-какой? – не понял Равич.
– Смиренный. Очень хороший пациент.
Равич окинул взглядом палату. Ровным счетом ничего, что эта хваткая особа могла бы присмотреть себе в подарок. Смиренный! Эти медсестры иной раз такое сказанут! Бедолага всеми армиями своих кровяных телец и всеми своими нервными клетками из последних сил сражается со смертью – черта с два он смиренный!
Он пошел обратно в гостиницу. У подъезда встретил Гольдберга – почтенного старика с седой бородой и толстой золотой цепочкой карманных часов в жилетке.
– Вечерок-то какой, – сказал Гольдберг.
– Да, – отозвался Равич, а сам лихорадочно соображал, успела ли жена Гольдберга смыться из комнаты Визенхофа. – Погулять не хотите?
– Да я уже прогулялся. До площади Согласия и обратно.
До Согласия. Ну да, именно там американское посольство. Величественный особняк сияет белизной под звездами, заветный Ноев ковчег, где штемпелюют вожделенные визы, пустой, безмолвный, неприступный. Гольдберг стоял там поодаль, возле отеля «Крийон», и, как зачарованный, не сводил глаз с закрытых ворот и темных окон, будто это шедевр Рембрандта или легендарный бриллиант «Кохинор».
– Может, все-таки пройдемся? До Арки и обратно? – спросил Равич, а сам подумал: «Если я сейчас этих двоих спасу, Жоан уже ждет в номере или придет, пока меня не будет».
Но Гольдберг покачал головой:
– Домой пора. Жена и так заждалась. Я больше двух часов гуляю.
Равич глянул на часы. Почти половина первого. А спасать-то и некого. Заблудшая супруга давным-давно вернулась к себе в комнату. Он посмотрел вслед Гольдбергу, чинно поднимавшемуся по лестнице. Потом заглянул к портье.
– Мне никто не звонил?
– Нет.
В номере впустую горел свет. Он вспомнил: уходя, забыл выключить. На столе пятном только что выпавшего снежка белел листок. Он взял эту записку, которую сам же оставил, уведомляя, что через полчаса вернется, и порвал. Поискал чего-нибудь выпить. Не нашлось ничего. Опять спустился вниз. Кальвадоса у портье не оказалось. Только коньяк. Он взял бутылку «Хеннесси» и бутылку «Вувре». Поболтал немного с портье, который доказывал ему, что на предстоящих скачках в Сен-Клу в заезде двухлеток у Лулу Второй самые верные шансы. Мимо них прошел испанец Альварес. Про себя Равич отметил, что тот по-прежнему чуток прихрамывает. Купил газету и вернулся к себе в номер. До чего нескончаемо может тянуться вечер! Кто в любви не способен верить в чудо, тот конченый человек – так в тридцать третьем в Берлине заявил адвокат Аренсен. Три недели спустя его упекли в концлагерь по доносу его возлюбленной. Равич откупорил бутылку «Вувре» и притащил себе со стола томик Платона. Но уже вскоре книгу отложил и сел к окну.
Он не сводил глаз с телефона. У-у, чурка бессловесная! Молчит как утюг. Сам он Жоан позвонить не может. У него нет ее нового номера. Он даже не знает, где она вообще живет. Он не спросил, а она не сказала. Вероятно, неспроста. Зато лишнее оправдание всегда в запасе.
Он выпил бокал легкого «Вувре». «Какая глупость, – думал он. – Ждать женщину, которая только нынче утром от тебя ушла. За все три с половиной месяца, что мы не виделись, я так по ней не тосковал, как сегодня с утра до ночи». Не встреться они снова, все было бы куда проще. Ведь он уже свыкся. А теперь…
Он встал. Дело не в том. Проклятая неуверенность, вот что его точит. Неуверенность и недоверие – закравшись, растут теперь с каждым часом.
Он подошел к двери. Хотя ведь знает, что не заперта, а все равно проверил еще раз. Попробовал читать газету, но строчки плыли перед глазами, как сквозь пелену. Инциденты в Польше. Неизбежные столкновения. Притязания на Данцигский коридор. Англия и Франция вступают в союз с Польшей. Война все ближе. Он уронил газету на пол и выключил свет. Лежал в темноте и ждал. Заснуть не удавалось. Он снова зажег свет. Бутылка «Хеннесси» стояла на столе. Он не стал открывать. Снова поднялся, подошел к окну, сел. Холодная ночь щедро рассыпала в высоком небе яркие звезды. Кое-где во дворах орали кошки. На балконе напротив стоял мужчина в подштанниках и почесывался. Он громко зевнул и ушел обратно в свою освещенную комнату. Равич оглянулся на пустую кровать. Он знал: сегодня ему уже не заснуть. Читать тоже без толку. Он ведь только что читал – и уже почти ничего не помнит. Самое лучшее было бы уйти. Только куда? Не все ли равно? Но ведь и уходить не хочется. Хочется кое-что знать с определенностью. Вот черт – он уже хватанул за горлышко бутылку коньяка, но тут же отставил. Вместо этого пошел к своей сумке, разыскал там снотворное, достал две таблетки. Те же самые, что он дал рыжему. Тот теперь спит. Равич проглотил обе. Все равно сомнительно, что он заснет. Принял еще одну. А если Жоан придет, уж как-нибудь он проснется.
Но она не пришла. И на следующую ночь тоже.
21
Головка Эжени просунулась в дверь палаты, где лежал пациент без желудка.
– Господин Равич, вас к телефону.
– Кто?
– Не знаю. Не спрашивала. Мне телефонистка сказала.
Голос Жоан Равич узнал не сразу. Очень далекий, он звучал как будто сквозь вату.
– Жоан, – сказал он. – Ты где?
Казалось, она звонит откуда-то издалека. Он почти не сомневался: сейчас она назовет какой-нибудь курорт на Ривьере. Да и в клинику она прежде никогда ему не звонила.
– Я у себя в квартире, – ответила она.
– Здесь, в Париже?
– Конечно. Где же еще?
– Ты заболела?
– Нет. С чего вдруг?
– Ну, раз ты в клинику звонишь.
– Я сперва в гостиницу позвонила. Тебя не было. Вот и звоню в клинику.
– Случилось что-нибудь?
– Да нет же. Что могло случиться? Хотела узнать, как ты там.
Голос теперь звучал яснее. Равич выудил из кармана сигарету и спички. Прижав коробок к столику локтем, зажег спичку, закурил.
– Как-никак это клиника, Жоан. Тут что ни звонок – либо болезнь, либо несчастный случай.
– Я не больна. Я в постели, но не больна.
– Ну и хорошо. – Равич двигал спички туда-сюда по белой клеенке стола. Ждал, что будет дальше.
Жоан тоже молчала. Он слышал ее дыхание. Хочет, чтобы он первый начал. Ей так проще.
– Жоан, – сказал он, – я не могу долго разговаривать. У меня перевязка не закончена, пациент ждет.
Она и тут ответила не сразу.
– Почему о тебе ничего не слышно? – спросила она наконец.
– Обо мне ничего не слышно, потому что я не знаю ни твоего телефона, ни где ты живешь.
– Но я же тебе давала.
– Нет, Жоан.
– Ну как нет? Конечно, давала. – Теперь она была в своей стихии. – Точно. Я хорошо помню. Просто ты опять все забыл.
– Хорошо. Пусть я забыл. Скажи еще раз. У меня есть карандаш.
Она продиктовала адрес и телефон.
– Я уверена, что я тебе все это уже давала. Совершенно уверена.
– Ну и прекрасно, Жоан. Мне пора идти. Как насчет того, чтобы сегодня вместе поужинать?
Опять пауза.
– Почему бы тебе меня не навестить?
– Хорошо. Могу и навестить. Сегодня вечером. Часов в восемь?
– Почему бы тебе сейчас не приехать?
– Сейчас у меня еще работа.
– Надолго?
– Примерно на час.
– Вот сразу и приезжай.
Ах так, вечером мы заняты, подумал он и тут же спросил:
– А почему не вечером?
– Равич, – сказала она. – Иногда ты простейших вещей не понимаешь. Потому что мне хочется, чтобы ты пришел поскорей. Не хочется ждать до вечера. Стала бы я иначе в такое время тебе на работу названивать?
– Хорошо. Как только закончу, приеду.
Он задумчиво сложил листок с адресом и направился обратно в палату.
Это оказался угловой дом на улице Паскаля. Жоан жила на последнем этаже. Открыла сама.
– Заходи, – сказала она. – Хорошо, что ты пришел. Да заходи же!
На ней был строгий черный домашний халат мужского покроя. Это было одно из свойств, которое Равичу в ней нравилось: она не носила пышных шелков, кружев и всяких прочих тюлевых финтифлюшек. Лицо бледнее, чем обычно, и чуть взволнованно.
– Заходи, – повторила она. – Посмотришь наконец, как я живу.
И пошла в комнаты первой. Равич усмехнулся. Хитра! Как ловко упредила и заранее пресекла все вопросы! Он смотрел на ее красивые, гордые плечи. Свет золотится в волосах. На какую-то бездыханную секунду он любил ее, как никогда.
Она ввела его в просторную комнату. Это был богатый рабочий кабинет, залитый сейчас послеполуденным солнцем. Огромное окно смотрело на сады и парки между проспектами Рафаэля и Прудона. Справа открывался вид вплоть до Мюэтских ворот, а дальше в золотисто-зеленой дымке угадывался Булонский лес.
Обстановка не без претензии на стиль модерн. Раскидистая тахта синей обивки, несколько кресел, удобных только с виду, слишком низкие столики, каучуковое дерево, в просторечии фикус, американская радиола и один из чемоданов Жоан, приткнувшийся в углу. Ничто вроде бы не режет глаз, но ничто особенно и не радует. Уж лучше либо полное убожество, либо безупречный вкус. Все, что посередке, Равичу не по душе. А фикусы он вообще не выносит.