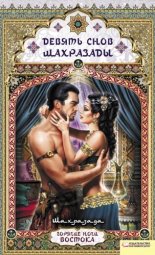Антипсихиатрия. Социальная теория и социальная практика Власова Ольга

Введение: миф об антипсихиатрии
В занятном рассказе Эдгара По под названием «Система доктора Смоля и профессора Перро» описывается один из сумасшедших домов XIX в., отличающийся от других тем, что в нем практикуется «система поблажек». По рассказывает, «что наказания здесь не применяются вовсе, что даже к изоляции стараются прибегать пореже, что пациенты, находясь под тайным надзором, пользуются на первый взгляд немалой свободой и что большинству из них разрешается разгуливать по дому и саду в обычной одежде, какую носят здоровые люди»[1]. Руководит этим учреждением мосье Майар, «видный и красивый джентльмен старого закала – с изящными манерами и тем особым выражением лица, важным, внушительным и полным достоинства, которое производит столь сильное впечатление на окружающих»[2]. Сюжет рассказа разворачивается таким образом, что и это респектабельное заведение, и видный, знающий доктор, и система щадящих методов оказываются обманом. В конечном счете выясняется, что пациенты во главе с сошедшим с ума бывшим директором лечебницы захватили врачей, вымазали их смолой, вываляли в перьях и посадили в изоляторы на хлеб и воду, а сами успешно (так, что на первый взгляд и не поймешь) исполняли их роли, пока врачи все же не вырвались.
Рассказ этот каждый может толковать по-своему, в нем есть место и психиатрическому, и антипсихиатрическому пониманию. Куда важнее сама метафора перевертыша. Волею судеб многие антипсихиатры начинали свой путь с подобной ситуации ролевой двойственности, ролевой обманки и ошибки идентификации сторон. По стечению обстоятельств в истории антипсихиатрии и ее восприятии культурой метафора перевертыша оказывалась одной из центральных: больные романтизировались и становились героями-революционерами, врачи низвергались с пьедестала медицинской власти, психиатрическая больница уступала место коммунам, а антипроекты в конце концов оборачивались лишь расширением и укреплением системы, срабатывая не против, а во благо экспансии.
Сформировавшуюся во времена бурления европейской культуры антипсихиатрию окружает огромное множество противоречивых трактовок. В этом пространстве, по большому счету, вообще понятно не много: тысячи ветвей и течений, тысячи поклонников, тысячи критиков и тысячи внутренних проблем. Погружаясь в антипсихиатрию, ты погружаешься в многоголосицу и споры, и, по всей видимости, выйти из всего этого незаинтересованным, беспристрастным, трезвомыслящим невозможно. Об антипсихиатрии сложно писать, поскольку, не говоря уже о риске быть заведомо обвиненным в ее пропаганде или обличении, сложно найти точку, на которой можно сохранять равновесие и при этом обозревать все вокруг.
Наверное, всякая попытка написать об антипсихиатрии обречена на провал, на непонимание, на критику, на оспаривание позиции. Может быть, судьба этого течения в том бремени маргинальности, которое неизменно препятствует всяким попыткам вписать его в психиатрию или в философию, психологию или социальную критику. Возможно, на антипсихиатрию никогда так и не удастся взглянуть эпистемологически, дистанцировав ее от себя. И все же здесь мы задаемся именно этой целью.
В какой-то мере настоящая книга является продолжением того, что уже было реализовано по отношению к феноменологической психиатрии и экзистенциальному анализу[3], поскольку антипсихиатрия как междисциплинарное движение является их наследницей. Это попытка посмотреть на антипсихиатрию (в идеях ее родоначальников) историко-культурно, историко-научно, может быть, даже эпистемологически, попытка вскрыть основания проекта и представить авторский взгляд, который, как хочется верить, откроет перспективу для ее дальнейшего освоения.
Об антипсихиатрии ходит немало мифов, да и сама ее сущность, смысл ее проекта, в общественном сознании выглядит совсем иначе. По всей видимости, такова судьба популярных теоретических направлений и социальных движений: принадлежа всем и не принадлежа самим себе, в сознании большинства они превращаются в совокупность мифов, причем мифов подчас ложных. Так произошло, к примеру, с постструктурализмом и его пресловутой смертью субъекта, которая была принята многими его адептами буквально, без оглядок на методологический смысл, когда-то вложенный в этот концепт самими его прародителями. Так произошло с марксизмом и коммунизмом, практическая реализация идей которых часто была далека от того, что предполагали сами доктрины. То же произошло и с антипсихиатрией.
Знакомое многим выражение «психическая болезнь – миф», когда-то произнесенное Томасом Сасом, было подхвачено огромным количеством людей и превратилось в лозунг, а цель «психиатрическая больница – это место заточения, поэтому должна быть упразднена», поставленная в качестве основной в реформистском проекте Франко Базальи, породила целый хор голосов, без разбора повторяющих друг за другом: «Закрыть! Закрыть!». Мало кто при этом вдается в подробности, мало кто отделяет изначальное движение от деятельности многочисленных последователей, мало кто разбирается в идеях самих антипсихиатров, читает их и обращается к теоретическим, практическим и социально-экономическим истокам самих теории и практики антипсихиатрии.
Нужно помнить, что человека формирует интеллектуальная среда, в которой он зреет, социальная ситуация, в которой он живет, и во многом образование, которое он получает. Взгляд медика, взгляд психиатра отличаются от взгляда инженера или учителя, философа или химика. Выстраивая проект критики предшествующей метафизики, Кант не перестает быть философом, философами не перестают быть постструктуралисты, деконструирующие кантианскую философию. И точно так же антипсихиатры не перестают быть психиатрами. Поэтому если они и говорят, что психическая болезнь – это миф, а психиатрическая больница подлежит упразднению, это означает лишь, что эти утверждения – не голые красивые фразы, а вводные замечания, которые они еще расшифруют. В конце концов, ведь нужно же думать, чем они собираются заниматься, если болезни не существует; где они собираются работать, если они же все и закроют. Если психиатр произносит то, что произносили антипсихиатры, это не означает, что такие же фразы в устах других будут иметь тот же смысл.
Сознание поклонников масштабных теорий и движений часто ведет себя подобно сознанию нерадивых учеников, выхватывая из глубокой и непонятной мысли преподавателя знакомые слова и яркие связки, с потерей их смысла и часто с перестановкой букв в словах. Для того чтобы понять, что же имели в виду антипсихиатры и какова была исходная цель проекта, нужно смотреть отнюдь не на то, что получилось, а, напротив, на то, что было задумано: нужно смотреть в их книги, на эволюцию их идей и на развитие их проектов. Именно это мы и будем делать.
Особенность антипсихиатрии в том, что, будучи отчасти гуманитарным, философским движением, она ставит больше вопросов, чем дает ответов. Именно поэтому она оказалась настолько продуктивной: не столько потому, что открыла много дверей, а потому, что нашла еще больше закрытых, которые предоставила штурмовать последователям. И именно поэтому она стала настолько уязвимой для критики: поскольку ее практика выбрала своим основанием не медицинскую, а гуманитарную парадигму.
Всякий разговор об антипсихиатрии предполагает выбор ориентации, поскольку слишком о многом можно рассказывать и слишком много можно проповедовать, называя это антипсихиатрией. Сама выступая против социальной мифологии, антипсихиатрия породила вокруг себя столько мифов, что среди них трудно усмотреть истоки. Часто в этой мифологии запутываются и исследователи. Есть антипсихиатрия как движение по защите прав пациентов; антипсихиатрия как движение самих бывших и настоящих пациентов; антипсихиатрия как движение родственников больных; антипсихиатрия как движение против злоупотреблений в психиатрии; антипсихиатрия как движение против института психиатрических больниц и т. д. Словом, об антипсихиатрии еще говорят, если хочется выступить против, поругать (по поводу и без повода) саму психиатрию. Очень метко определяет ситуацию с антипсихиатрией и «антипсихиатриями» Феликс Гваттари. Характеризуя первую, он говорит: «Прежде всего, это литературный феномен, подхваченный массмедиа. Он развился из двух центров в Англии и в Италии, но совершенно очевидно, что он вызвал интерес у публики к таким проблемам в контексте нарождавшейся “новой культуры” <…>. Тем временем во Франции это стало чем-то вроде литературного и кинематографического жанра. Люди зарабатывают деньги, печатая книжонки с названиями вроде “Никогда больше я не буду психиатром”, “Никогда больше я не буду медсестрой”, “Я больше не буду безумным”»[4]. Приставка «анти» только способствует тому, что все, кто называют себя антипсихиатрами, преимущественно критикуют и редко предлагают собственные программы. Все это многообразие протеста описать невозможно, поэтому книги об антипсихиатрии всегда отмечены одной и той же чертой: они всегда что-то упускают.
Нет единства и в самом лагере «антипсихиатров». Практически каждый из них (за исключением Дэвида Купера) отказывался от своей причастности к этому движению. Ничего удивительного в этом нет. Много ли найдется экзистенциалистов, которые соглашались нести знамя «экзистенциализма», или постструктуралистов, публично не отрекшихся от принадлежности к этому лагерю?..
Неоднозначен и вопрос об отношении антипсихиатрии к самой психиатрии. Ряд психиатров и историков психиатрии настаивают на том, что антипсихиатрия является исключительно левым социально-политическим движением и не имеет никакого отношения к психиатрии, что она, напротив, опровергает все ее парадигматические устои и представляет собой ничем не аргументированные псевдонаучные нападки. Эта позиция традиционна для той психиатрии, современницей которой стала антипсихиатрия: тогда она воспринималась как чужеродный элемент, как дискредитирующее психиатрию движение. Однако с того времени произошел постепенный отход от такой трактовки. Исторический и эпистемологический подход, начавший утверждаться в психиатрии, позволяет иначе посмотреть на ее историю. К тому же антипсихиатрия слишком многое черпала из психиатрической традиции и слишком много сделала для ее обновления, чтобы трактовать ее как внешнее и случайное по отношению к ней явление.
Внимательный взгляд на корни антипсихиатрии показывает, что ее практика закономерно вытекает из практической традиции терапевтических сообществ, и многие практические проекты антипсихиатрии построены по принципу коммунарной организации. Теоретическая составляющая антипсихиатрии, действительно, для психиатрии не вполне традиционна и представляет собой скорее социально-антропологический, нежели психиатрический дискурс. Но и ее развитие запускается внутрипсихиатрическими причинами и потребностями. Изначальным толчком служит характерное для всех наук XX в. стремление осмыслить свои методологические и парадигматические основания, а также импульс к гуманизации, нарастающий, как это ни парадоксально, параллельно с развитием психофармакологии. Сама возможность формирования критической социальной теории антипсихиатрии на базе психиатрии – печать того кризиса идентификации и этиологических гипотез, в котором тогда психиатрия пребывала.
Эпистемологически антипсихиатрия – результат закономерного развития психиатрии, критическая точка ее истории, в которой она стремится разрешить достигшие пика собственные противоречия. Антипсихиатрия показывает стадию негации естественно-научной парадигмы психиатрии, стадию радикального сомнения и отрицания теории и практики. Исходный импульс антипсихиатрии – в самой психиатрии.
Это не означает, что внешние причины являются менее значимыми для зарождения антипсихиатрии. Нет сомнения, что послевоенная эпоха, а затем и бунтарские шестидесятые, контркультура, протестные политические настроения сыграли решающую роль в формировании теории и практики антипсихиатрии. Но один лишь социально-культурный климат ни в коем случае не мог породить такое масштабное движение. Оно оформилось на границе самой традиционной психиатрии и стало одновременно и профессиональным, и социально-политическим.
Если посмотреть на итоги антипсихиатрии, то опять-таки нельзя сказать, что она осталась исключительно социально значимым движением. Во многом она способствовала реформированию психиатрии, гуманизации ее практики и развитию программ социальной адаптации. Благодаря своей радикальности она стала своеобразным полем проекции ожиданий и реакций, связанных с функционированием системы психиатрической помощи, объединив множество людей по всему миру, образовав многополярное пространство дискуссий. Это значение антипсихиатрии для психиатрии нельзя игнорировать.
В настоящей книге разговор пойдет о той антипсихиатрии, которая сформировалась до всяких прочих «антипсихиатрий», т. е. об исходном антипсихиатрическом движении, об антипсихиатрическом проекте. Мы объединяем под термином «антипсихиатрия»[5] междисциплинарное движение 1960–1970-х годов, особенностью которого является выработка социального проекта (социальной теории и социальной практики) и которое включает в себя Р. Д. Лэйнга (и его последователей: А. Эстерсона, Дж. Берка, Л. Мошера, Э. Подволла и др.), Д. Г. Купера, Ф. Базалью (и сторонников движения «Демократическая психиатрия»), Т. С. Саса, а также социально-критические, социально-эпистемологические и антропологически ориентированные околоантипсихиатрические идеи.
Мы ориентируемся на сами тексты, идеи, проекты антипсихиатров и их непосредственные оценки, мы говорим скорее не об обобщенном феномене антипсихиатрии, а об антипсихиатрах – тех из них, кто был первым и оставил наиболее заметный след. Мы возвращаемся к исходному смыслу антипсихиатрии как движению профессионалов, специалистов-психиатров, получившему в силу их ангажированности гигантский социально-политический, общественный резонанс. В мире множество литературы об антипсихиатрии вообще, а также антипсихиатрической литературы, и здесь мы практически не затрагиваем ее. Нас интересует прежде всего история антипсихиатрии: творческий путь антипсихиатров, их практические проекты, оформление движения, его итоги.
Говоря об антипсихиатрии, нужно говорить и о единстве проекта, охватывающего столь несхожие фигуры, как Лэйнг, Купер, Базалья, Сас и др. Этот проект опирается на социальную теорию и развивает социальную практику. Социальная теория и социальная практика – интегральные особенности антипсихиатрии как движения. Поэтому антипсихиатрия – это и направление психиатрии, и ее маргинальное пространство, и течение гуманитарной мысли, и направление социальной критики, и практика леваческого активизма.
В антипсихиатрии, подобно многим другим теориям и практикам, всплывает старый психиатрический сюжет исключения, интернирования, социального насилия, игры власти; все ее теоретическое и практическое пространство структурируется вокруг этого сюжета, и антипсихиатрия возникает в духе борьбы, в попытке снять его напряженность. Такая направленность, этот исходный смысл антипсихиатрии как протестного движения, и формирует ее социальный проект.
Однако настоящее, все больше и больше отдаляясь от антипсихиатрии, превращая ее из современности в историю, унося в прошлое фигуры не только идеологов, но и критиков – фигуры Лэйнга и Купера, Базальи и Саса, Фуко и Кастеля, все отчетливее ставит перед нами вопросы другого порядка. Оно превращает антипсихиатрию в пространство проблематизации, в критическую точку, благодаря которой мы можем оценить современность самой психиатрии. Это пространство, невидимое как для современников антипсихатрии, так и для ее ближайших критиков, вырисовывается в эпистемологическом горизонте сейчас, когда наконец настает время подведения первых ее итогов.
Что это за пространство проблематизации, которое открывает антипсихиатрия, что говорит история антипсихиатрии о современности психиатрии, и какие ее итоги мы можем подвести сейчас – все эти вопросы очерчивают конечные точки нашего анализа, к которому мы обратимся в конце книги, когда будем говорить об образе антипсихиатрии. Современная психиатрия, несмотря на новейшие медицинские открытия и многочисленные терапевтические программы, все еще стоит на распутье, все еще пытается разобраться в своем противоречивом происхождении как науки и практики. Робер Кастель открывает свою книгу «Метаморфозы социального вопроса…» замечательной фразой, которая емко передает этот рубеж: «Думается, что во времена неопределенности, когда прошлое уже исчерпало себя, а будущее еще не ясно, чтобы понять настоящее, необходима работа памяти»[6]. Как раз здесь для психиатрии и оказывается как нельзя кстати антипсихиатрия.
I. Слагаемые протеста
1. Психиатрия и экзистенциально-феноменологическая психиатрия
В XX в. психиатрия переживает времена активных трансформаций, и в результате этих трансформаций она обретает свое современное лицо естественной науки, свою методологию, теорию и практику. Именно на прошлый век приходится развитие психофармакологии, разработка основных направлений психотерапии и социальной адаптации больных, а также множество теоретических новаций от инфекционных до философских гипотез происхождения психических расстройств.
Это значимое для самой психиатрии время сопровождается изменениями и в развитии науки как таковой: усилением междисциплинарных взаимодействий, активизацией этической и антропологической проблематики, поворотом к методологии. Наука, сохраняя внимание к своему предмету, обращается и к себе самой, осмысляя свое собственное развитие. «Со времен Эйнштейна и Гейзенберга, – пишет Клаус Дернер, – естествоиспытателей мучает вопрос о легитимности, обоснованности их деятельности перед лицом как безграничных возможностей, так и опасностей современного естествознания. И, быть может, хорошо, что вся наша жизнь более зависит от честности и постоянства этого “самоистязания”, чем от других действий естествоиспытателей. <…> Короче говоря, с тех пор, как в XIX в. естествоиспытатели отпраздновали победу независимости своей науки, разорвавшей оковы философии, в XX в. они пытаются восстановить организующую роль философского мышления. Они мучительно занимаются саморефлексией»[7]. Не становится исключением и психиатрия.
Как со стороны философии, так и стороны психиатрии это движение навстречу друг другу становится отражением характерных для XX в. тенденций междисциплинарности. Философия расширяет свои границы и обращается к ранее маргинальным для нее предметным пространствам, пытаясь их посредством развить проблематику своих традиционных разделов, а также осмыслить собственный статус. Психиатрия начала XX в. переживает кризис объяснительных гипотез и интерпретационных схем. На волне методологических споров она начинает осмыслять себя не только как раздел медицины и естественную науку, но и как науку о человеке, хотя и о человеке психически больном. В такой ситуации философия представляет ей методологическую и концептуальную опору для критики собственных оснований. Так и формируются философские по своему парадигматическому характеру направления психиатрии.
Процесс взаимодействия философии и психиатрии предстает при этом как развитие и смена философских парадигм психиатрии: 1) общегуманитарная парадигма (работы З. Фрейда, Ю. Блейлера, Х. Прицхорна) – до 1930-х годов; 2) экзистенциально-феноменологическая парадигма (феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ) – 1930–1960-е годы; 3) социально-критическая парадигма (антипсихиатрия) – 1960-е – конец 1980-х годов; 4) философия психиатрии – с 1990-х годов.[8]
Постепенная гуманитаризация психиатрии начинается с «малой» психиатрии – той ее обширной части, которая имеет дело с неврозами и личностными расстройствами. Такой гуманизации способствуют психоаналитические и пропсихоаналитические теории и соответствующая практика лечения неврозов: динамическая психиатрия П. Жане, психоанализ З. Фрейда, аналитическая психология К. Г. Юнга, индивидуальная психология А. Адлера и т. д. «Очеловечивание» невротиков становится необходимой предпосылкой гуманизации психиатрии. Многие объяснительные гипотезы и методы, разработанные в психиатрии неврозов и психоанализе, впоследствии начинают использоваться и в отношении больных психозами. Определенную роль на этой ступени сыграют и психохарактерологические исследования. Во-первых, это исследования типов темпераментов и психопатий (Э. Кречмер, У. Шелдон и др.), способствовавшие выстраиванию вектора «норма – психопатия – болезнь». Во-вторых, это исследования творчества одаренных больных, представлявшие болезнь как уникальный, воплощающийся в искусстве способ видения.
Эти тенденции психиатрии неврозов подкрепляются стремительным развитием антропологии и этнологии и полевыми исследованиями нормы и патологии в примитивных культурах. В итоге постепенно оформляется общее для гуманитариев и психиатров пространство интересов и рефлексии. В начале 1950-х годов Грегори Бейтсон и Юрген Рюш пишут: «Сегодня, в середине XX в., специалисты-гуманитарии и клиницисты предпринимают всяческие усилия, чтобы лучше понять друг друга. Отход от догматических концепций и избавление от научной изоляции – это мода нашего времени»[9].
Это гуманитарно-психиатрическое пространство тогда все еще остается пространством общих интересов и пересекающихся проблем. Процесс методологической саморефлексии психиатрии и ее непосредственное обращение к философии будут связаны только с формированием экзистенциально-феноменологической психиатрии.
Экзистенциально-феноменологическая психиатрия – прямая предшественница антипсихиатрии: без первой была бы невозможна вторая[10]. Это традиция, которая объединяет в себе феноменологическую психиатрию и экзистенциальный анализ, или Dasein-анализ. Она изначально базируется на философской парадигме и философской установке, поэтому по своим основаниям это скорее философское, чем медицинское, психиатрическое направление. Ее запускает по преимуществу развитие феноменологии и экзистенциальной философии и экстенсивное распространение их на прикладное пространство психиатрии. Эти философские влияния дополняются описательной психологией В. Дильтея и понимающей социологией М. Вебера, философской антропологией М. Шелера и феноменологией мюнхенского кружка, неокантианством П. Наторпа и интуитивизмом А. Бергсона.
Традиционно к феноменологической психиатрии относят идеи К. Ясперса, Э. Минковски, Э. Штрауса и В. Э. фон Гебзаттеля; к экзистенциальному анализу, или Dasein-анализу, – взгляды Л. Бинсвангера, М. Босса и их последователей: Р. Куна, А. Шторха, К. Куленкампфа, В. Бланкенбурга, Г. Телленбаха, Г. Кондрау и др. Последователи экзистенциально-феноменологической психиатрии есть во всех странах Европы, и оказанное ею влияние поистине революционно: она изрядно способствовала гуманизации психиатрии; стала основным пространством осмысления методологических оснований самой психиатрии, пространством ее философской саморефлексии; и наконец, именно благодаря ей позднее сформировалась гуманистическая психология, одно из трех центральных на сегодняшний день направлений психологии и психотерапии.
Формируется экзистенциально-феноменологическая психиатрия в 1920-е годы, официальной датой ее рождения считается 25 ноября 1922 г. В этот день на заседании Швейцарского психиатрического общества с докладами выступили Эжен Минковски и Людвиг Бинсвангер. Стремительное развитие этого движения (по крайней мере, в работах и проектах основных представителей) происходит в основном в период до начала 1960-х годов, когда оно уступает свои лидирующие позиции на арене философско-психиатрических направлений антипсихиатрии.
Само движение разнообразно как по своим идеям, так и по методологическим установкам, но все его представители объединяются вокруг философской трактовки психического заболевания и рассмотрения его в контексте существования больного. В экзистенциально-феноменологической психиатрии болезнь превращается из медицинского в антропологический и экзистенциальный феномен. Складывается такое понимание на основании обращения психиатрии к идеям феноменологии, экзистенциальной философии и других родственных течений и теорий.
Экзистенциально-феноменологическая психиатрия выводит взаимодействие философии и психиатрии на принципиально иной уровень, представляя первый опыт формирования философско-клинического пространства рефлексии и саморефлексии. Вторым таким опытом станет уже антипсихиатрия. В этом пространстве полученная целостность гораздо больше, чем составляющие ее части и даже больше, чем их сумма. Для самой экзистенциально-феноменологической психиатрии это станет возможно благодаря пяти решающим шагам: 1) методологическая и предметная саморефлексия; 2) реабилитация патологического опыта; 3) очеловечивание больного; 4) интерпретация болезни как существования; 5) конституирование метаонтики.
Традиция экзистенциально-феноменологической психиатрии возникает в общей для всех наук ситуации междисциплинарности. Вот как описывает эту ситуацию Людвиг Бинсвангер: «Проходит то время, когда отдельные науки, страшась, отгораживались от философии, когда они в критической самонадеянности оставляли без внимания непосредственное существование и в позитивистской гордости забывали о проблематичности собственной природы. Сегодня философы и ученые, критики и творцы с полным осознанием границ своего метода обращаются друг к другу для совместного сотрудничества. Развитие неокантианства, исследования Дильтея и феноменологическое движение – все это указало на возможность взаимодействия науки и философии, которое имеет своей конечной целью понимание науками себя самих»[11].
Бинсвангер здесь подмечает основные направления саморефлексии, которые развернет в том числе и психиатрия: осмысление границ собственной методологии, предметной области, исторической ситуации, появления как науки и проч. Во всех этих точках самоосмысления психиатрия не могла сделать и шага без философии. К тому же те философские школы и течения, из которых она черпала свое вдохновение, относились к проблеме соотношения философии и науки, к проблеме методологии с особенным вниманием. От неокантианства, в частности, неокантианства П. Наторпа, экзистенциально-феноменологическая психиатрия переняла интерес к соотношению философии и науки, попытки построения иерархической системы их взаимодействия; от описательной психологии В. Дильтея и всей волны гуманитарных методологических споров – внимание к методологии и разделение методологии объясняющей и понимающей; от феноменологии – установку на редукцию и очищение от предрассудков.
Этот процесс саморефлексии подхлестывает нарастающую антропологическую волна, стремительное развитие новых и старых гуманитарных наук, развитие этнологии и антропологии. Закономерно, что психиатрия начинает идентифицировать себя не только как естественную, но и как гуманитарную науку. И впервые эта гуманитарная идентификация психиатрии развивается в феноменологической психиатрии и экзистенциальном анализе. «Когда объектом исследования становится человек во всей полноте “человеческого”, а не просто человек как биологический вид, психопатология обнаруживает свойство гуманитарной науки»[12], – подчеркивает Карл Ясперс.
Осмысляя себя как гуманитарную науку, психиатрия начинает заимствовать методологию «смежных» дисциплин – социологии, психологии, антропологии – и именно поэтому встает вопрос об отличной от естественнонаучной методологии, и именно так в психиатрию проникает традиция описательной психологии. Наиболее ценным следствием гуманитаризации становится не методология: психиатрия обретает новое мировоззрение и на передний план в ней выходит антропологическая проблематизация. Основной проблемой этой новой, гуманитарной психиатрии оказывается проблема человека, а сама психиатрия начинает осмыслять себя как науку о человеке. «Психология и психотерапия как науки, по общему признанию, заинтересованы “человеком”, но прежде всего не больным человеком, а человеком как таковым»[13], – подчеркивал Бинсвангер.
В рамках экзистенциально-феноменологической психиатрии происходит своеобразное проблемно-методологическое смещение. Если классическая традиционная психиатрия осмысляет себя как науку о психическом заболевании и исследует причины, содержание (симптомы и синдромы) и принципы лечения психических расстройств, то в экзистенциально-феноменологической психиатрии вместе с изменением направленности приходит изменение проблемного поля: начинает исследоваться человек как таковой, человек как целостность, его жизнь-история, и основным предметным пространством становится патологический опыт как полноценное переживание себя и окружающей реальности.
Антипсихиатры продолжат традицию неокантианского вопрошания о статусе собственной науки и будут настаивать на том, что психиатрию нельзя рассматривать по подобию естественных наук и что она имеет дело с человеком и его проблемами. Как будет подчеркивать Томас Сас: «Мы знаем, что человек может обрести личностную целостность только посредством открытого осознания своего исторического происхождения и достоверной оценки своих уникальных особенностей и потенциальных возможностей. Это справедливо и для профессии или науки. Психиатрия не сможет достичь профессиональной целостности, подражая медицине, и целостности научной, подражая физике. Она сможет добиться этой целостности и, следовательно, уважения к себе как к профессии и признания как науки лишь благодаря мужественному противостоянию своим истокам и честной оценке своих истинных особенностей и потенциальных возможностей»[14].
Феноменология приносит психиатрии новую оптику, которая в равной мере влияет как на ее теорию, так и на ее практику. Как писал Гуссерль: «Вместо того чтобы растворяться в выстроенных различным образом друг на друге актах и при этом предметы, смысл которых имеется в виду, так сказать, наивно полагать как существующие, определять их или выдвигать относительно них гипотезы, выводить следствия и т. д., мы должны, напротив, “рефлектировать”, т. е. сделать предметами сами акты в имманентном смысловом содержании»[15].
Психиатры сосредоточиваются не на поведении, не на симптомах, а на внутреннем опыте самого больного. «Само патологическое сознание» становится психиатрическим аналогом «самих вещей» Гуссерля, вокруг устремленности к которому и объединяется лагерь экзистенциально-феноменологических психиатров. Здесь в активное пользование как раз и входит феноменологическая редукция, скорее даже, редуцирующая установка. В психиатрии начала века с обилием теорий и концепций ее необходимость осознавалась как никогда отчетливо. Карл Ясперс, один из методологических родоначальников экзистенциально-феноменологической психиатрии, вспоминал: «Каждая из школ имела собственную терминологию. Казалось, что разговор идет на совершенно разных языках, местные же диалекты этих языков существовали в каждой клинике. <…> Возникало чувство, будто я живу в мире, где существует необозримое множество разнообразных точек зрения, которые можно брать и в любой комбинации, и по отдельности, но все они до невероятия просты и бесхитростны»[16]. Феноменологическая редукция уводит от теорий и многочисленных гипотез, от симптомов и синдромов, от поведения и внешних показателей и открывает для психиатра мир переживания больного. Сам опыт, само переживание – это то, что у экзистенциально-феноменологических психиатров остается в качестве феноменологического остатка после прохождения этапа феноменологической редукции и что приходит на место гуссерлевского сознания.
Отказ от теорий и гипотез приводит к описательной ориентации экзистенциально-феноменологической психиатрии. И здесь влияние феноменологии Гуссерля дополняется описательной психологией В. Дильтея. Вслед за ним Карл Ясперс призывает отказаться от неприменимого в психологии и психиатрии объяснения и обратиться к описанию мира переживаний больного. Основным методом этой описательной психологии становится метод понимания – интуитивное проникновение и постижение взаимосвязи феноменов.
Такое безоценочное понимание ведет к реабилитации патологического опыта: патологические переживания, патологический мир становятся равноправны миру и опыту большинства людей. Феноменологическая редукция Гуссерля снимает вопрос об истинности и фантазийности опыта сознания – для него реальность и фантазия онтологически равны. Феноменологическая редукция экзистенциально-феноменологической психиатрии снимает вопрос о реальности патологического опыта, и он становится онтологически равноправен переживанию здоровых людей. Так, Эрвин Штраус подчеркивает, что всякий непосредственный опыт развертывается в сенсорной, дологической сфере, в которой реально все, что переживается, поэтому реален для больного и патологический опыт. «Реальное, – пишет он, – это то и только то, что затрагивает и захватывает переживающего человека. “Реальное” означает “произошедшее со мной”. При этом оно не обязательно должно соответствовать установленным законам природы. Нереального как возможности или вероятности не существует»[17]. Его поддерживает Я. Х. Ван Ден Берг: «В одной вещи можно быть уверенным: мир, о котором говорит пациент, столь же реален для него, как наш мир для нас. Он даже более реален, чем наш; поскольку в то время как мы в состоянии избавиться от чар депрессивного восприятия, пациент неспособен это сделать»[18].
Переживания психически больных перестают, таким образом, трактоваться как выдумка и продукт больной фантазии и начинают пониматься как полноценная реальность. И эта онтологическая реабилитация патологического опыта – фундаментальное достижение экзистенциально-феноменологической психиатрии. Она ведет к гуманизации отношения к психически больному. В больном, который сидит напротив, психиатры начинают замечать личность. «Те, кто имеет дело с больным человеком, имеют дело с человеком»[19], – говорит французский философ Анри Мальдини. Уже в рамках антипсихиатрии это высказывание в одном из своих интервью словно бы перефразирует Лэйнг: «Если кто-то стоит по ту сторону пропасти, он не перестает быть человеком»[20].
Произошедшая только благодаря философии реабилитация патологического опыта приводит к изменению мировоззренческих ориентиров. Для XIX в. характерной и общепринятой являлась теория дегенерации, а больной, что естественно при такой трактовке его заболевания, признавался недочеловеком. Считалось, что в психическом заболевании он деградировал до животного состояния, эта деградация была необратима, лечение считалось бесполезным, и единственным методом могла стать муштровка. Психически больные, становясь таковыми, навсегда утрачивали свою дееспособность и человеческое лицо, поэтому и обращение с ними по большей части было как с животными, поэтому и содержали их в «не-человеческих» условиях.
В гуманистическом перевороте психиатрии начала XX в. сыграло свою роль множество факторов, и важнейшим из них стало развитие экзистенциально-феноменологической психиатрии. Первая мировая война принесла Европе всплеск случаев военных неврозов и, как следствие, приток психологических техник. Достижения психофармакологии привели к возможности хотя и незначительного, но купирования острых симптомов и замедления процесса деградации. Мощная экзистенциальная волна в культуре и философии заставила задуматься над человеческой жизнью, страданием и отношениями между людьми, заставила признать, что необходимо относиться к человеку как к человеку. Все эти факторы подготовили почву для того, что сделала экзистенциально-феноменологическая психиатрия.
Обратившись к самой реальности болезни, присмотревшись к больному, экзистенциально-феноменологическая психиатрия разглядела в нем человека, хотя и несколько непохожего на остальных. Позиционируя себя как науку о человеке, она ввела новые критерии разделения нормального и патологического. Психически больной, как говорят ее представители, так же как и все, живет в мире, воспринимает его, действует в нем, только делает он это, исходя из другого модуса существования, не похожего на модус существования большинства людей. «…Болезнь в первую очередь является способом человеческого бытия»[21], – подчеркивает В. Э. фон Гебзаттель.
Трактовка болезни как модуса человеческого бытия, способа существования больного, приводит к более внимательному отношению к той личности, «патологическое» существование которой раскрывается перед психиатром. Патологический опыт начинает пониматься не как опыт сам по себе (и здесь экзистенциально-феноменологическая психиатрия отходит от принципов феноменологии), а как чей-то опыт, а мир – как мир именно этого больного. Работы экзистенциально-феноменологических психиатров изобилуют не столько клиническими случаями, сколько историями жизни и исповедями больных о своих переживаниях. «Болезни как таковой не существует, – подчеркивает Медард Босс. – Живот и болезнь живота, мышление и общий паралич – это несуществующие абстракции. Но моя рука, мой живот, наши инстинкты, ваши мысли реальны. Строго говоря, лишь упоминание о моем, вашем или их болезненном существовании отсылает к чему-то реальному. Притяжательные местоимения повседневного языка, используемые для описания реальности бытия больным, все указывают на существование, которое сохраняется и раскрывается в истории жизни»[22].
В мире нормальных людей психически больной поэтому предстает как экзистенциальный чужак, как иностранец. Его переживание мира не похоже на таковое у остальных людей, его образ самого себя отличается от усредненного образа. Именно эта чуждость, по мнению большинства представителей экзистенциально-феноменологической психиатрии, и обозначается в термине «психически больной». Больной, таким образом, признается человеком, но человеком экзистенциально другим. Эрвин Штраус разъясняет: «Устаревшие выражения “психиатр” и “сумасшедший дом” все еще напоминают нам, что инаковость является тем критерием, с опорой на который выстраивают клиническое наблюдение и научное исследование. Психотические симптомы хотя бы косвенно указывают на стандарт, которому пациент не соответствует»[23].
Экзистенциально-феноменологическая психиатрия развивала в пространстве науки о душевных болезнях идеи феноменологии и экзистенциальной философии, поэтому критерием идентификации психического заболевания стала для нее экзистенциальная чуждость. Антипсихиатрия будет продуктом эпохи 1960-х годов, поэтому ориентиром для нее станет не экзистенциальная, а социальная философия, а критерием дифференциации психического заболевания станет чуждость социальная.
Однако представители экзистенциально-феноменологической психиатрии не просто характеризуют патологический опыт как экзистенциально другой, но и подробно описывают основные его векторы. Как отмечает Роланд Кун: «Основная идея этого течения состоит не в том, чтобы расширить психопатологию, но в том, чтобы взять за точку ее отсчета существование и показать, в каком смысле психопатологический подход к больному представляет дефицитарную модификацию существования»[24]. Для каждого из представителей при этом эта картина патологического строится в векторах пространства и времени, но описывается на разных языках, в зависимости от приоритетных философских заимствований.
Эжен Минковски особенностью патологического опыта считает угасание «личного порыва». Творчески развивая концепт жизненного порыва А. Бергсона, он характеризует личный порыв как направленность человеческой жизни вперед, личное становление, устремленность к новым рубежам и новым целям. При шизофрении, на его взгляд, этот порыв угасает, что ведет к замедлению временного потока, к отрыву от него, к утрате контакта с реальностью и с другими людьми. Жизнь и личность при этом теряют свою целостность и распадаются на фрагменты, становление блокируется, и человек уже не может двигаться дальше, проектировать свое поведение и даже просто-напросто жить в настоящем, поскольку вне связи с прошлым и будущим это невозможно.
Эрвин Штраус строит свою концепцию патологического опыта подобно Минковски, называя одной из основных его особенностей блокирование темпоральности и становления. «Так как переживание времени является основополагающим пространством опыта в целом, – пишет он, – существуют трансформации этого опыта, которые определяют другие переживания, мысли, действия и их результаты благодаря зависимости как по форме, так и по содержанию, от этих трансформаций»[25]. Он описывает психическое заболевание в рамках эстезиологии – науки о непосредственном, предлогичном, сенсорном опыте – и характеризует шизофрению как изменение отношений с окружающим миром, а точнее, как утрату границ между «я» и Другим, окружающими предметами и окружающими людьми. Личное пространство вторгается в общее социальное пространство, и так появляются идеи влияния, социальное же переходит границы личного, приводя к идеям воздействия, голосам, вложенным мыслям и навязчивому поведению.
Виктор Эмиль фон Гебзаттель определяет пространство психического заболевания как пространство деперсонализации и ничтожения. Деперсонализация развивается вследствие нарушений отношений с миром, связности с ним: мир как таковой остается прежним, изменяется его данность больному. Гебзаттель отмечает: «Предшествующая отдельной встрече с миром в ощущении, восприятии, переживании всеобщая “целостная взаимосвязь” с миром, обеспечивающая встречу с конкретным содержанием существования, изначально разрушена»[26]. Результатом разрушения этой целостности и связности является то, что существование утрачивает свою направленность и целостность и падает в пропасть, погружается в пустоту, где на арену выходит «не-существование».
Людвиг Бинсвангер объединяет поиски оснований патологического существования вокруг понятия «экзистенциально-априорные структуры», определяя их как пред-формы, матрицу опыта человека, стержень, каркас бытия-в-мире. Так Бинсвангер теоретически завершает все предшествовавшие ему попытки определения экзистенциального генеза патологического опыта. Сам он считает, что психическое заболевание запускается несогласованностью опыта и блокированием возможности непосредственного пребывания среди вещей. В процессе развития заболевания в опыте появляются бреши, и он уже не может развертываться свободно и связно: разрушаются целостность потока времени и целостность пространства. Существование в таком случае словно заходит в тупик: «…Человеческое существование может зайти слишком далеко, может достичь края и сейчас, из которого нет ни отступления, ни движения вперед»[27].
Медард Босс вслед за Хайдеггером говорит о нарушении открытости Dasein, о сужении горизонта существования, его обеднении и уплощении. За психическим заболеванием, на его взгляд, стоит суженный горизонт видения, который и запускает патологические изменения телесности, пространственности и временности, свободы и настроенности. Видоизмененными оказываются все фундаментальные экзистенциалы человеческого существования, они словно образуют новый патологический ансамбль. Босс пишет: «Болезнь приводит к акцентированию по сравнению с другими или отходу на второй план какой-либо характеристики, но даже если возможность их проявления ограничена, все они продолжают существовать как потенции. То, что на самом деле затрагивает болезнь, так это способность больного человека принимать участие в реализации этих специфических потенций в свободном сосуществовании с тем, с чем он сталкивается в мире»[28]. Существование при этом оказывается парализовано, не может свободно развиваться и полноценно реагировать на мир.
Метод понимания, центральный метод этого движения, дополняется в исследованиях патологического опыта феноменологически-структурным анализом и экзистенциальным анализом. Структурный анализ позволяет выделить структуру существования, особенности изменения пространственности и темпоральности. Экзистенциальный анализ, основанный на герменевтике бытия, восстанавливает целостную экзистенцию психически больного человека.
При этом экзистенциально-феноменологическая психиатрия не просто развивает философские идеи применительно к проблемам психиатрии или применяет философские методы и понятия к новым для нее областям. В этом экстенсивном развитии она не просто переносит, но и творчески развивает и, более того, дополняет как философскую, так и психиатрическую теории. Поэтому как феноменологическая психиатрия, так и экзистенциальный анализ, составляющие это движение, могут по праву называться не просто прикладными направлениями, но направлениями философско-клиническими, предполагающими характерные черты, собственную методологию, направленность, предметное пространство, проблематику, понятийный аппарат.
Системообразующей особенностью экзистенциально-феноменологической психиатрии является формирование так называемого метаонтического пространства. Метаонтика при этом – нечто среднее на пересечении философской онтологии и конкретной психиатрической антропологии. Термин этот предлагает использовать Дж. Нидлман по отношению к идеям Людвига Бинсвангера. Он пишет: «…Любая дисциплина, которая занимается трансцендентально априорными неотъемлемыми структурами и возможностями конкретного человеческого существования, не является, строго говоря, ни онтологической, ни онтической, а скорее лежит где-то между ними»[29].
Структурируется это пространство первоначально как прикладное. Онтологические по своей направленности феноменология Гуссерля, экзистенциальная аналитика Хайдеггера, интуитивизм Бергсона и проч. привлекаются для истолкования психической патологии. Философские методы, направленные на работу с сознанием и сферой абсолютных сущностей (феноменологическая редукция, фундаментальная онтология, понимающая психология, герменевтика и т. д.), используются для осмысления самой психиатрии и работы в психиатрической клинике, философские концепты (жизненный порыв, априори и проч.) творчески переосмысляются и переформулируются. В итоге образуется пространство, которое уже является не совсем философским (и по предметной области, и по понятийному и методологическому аппарату), но которое одновременно так никогда и не станет психиатрическим, так и не выработает четкой клинической парадигмы и методов терапии. Несмотря на свою «недо-философскость» и «недо-клиничность», это пространство станет полноценным пространством философской проблематизации.
Метаонтика – это пространство онтологического истолкования антропологической сущности психической патологии, попытка представить психическое заболевание как своеобразный антропологический проект, способ бытия, модус существования. Такое понимание не исключает биологического объяснения причин этого недуга, и обе парадигмы – философскую и биологическую – можно объединить в общий ансамбль. Метаонтика связана с антропологическим пониманием психического заболевания и его онтологическим истолкованием. Именно на пересечении антропологии и онтологии она и вызревает: о болезни говорят с оглядкой на онтологию, а онтологические вопросы ставят, принимая болезнь во внимание.
В рамках метаонтики формируется собственная методология, развитая на основании философской методологии путем адаптации к ее основному предмету исследования – психически больному человеку и реальности его патологического опыта. В качестве определяющей начальной методологической установки используется феноменологическая редукция, которая, по мысли экзистенциально-феноменологических психиатров, позволяет увидеть патологический опыт как таковой, открыть за набором симптомов и синдромов модус существования, а за смущенным и дезориентированным чужаком разглядеть человека. Эта феноменологическая редукция определяет оптику, взгляд, мировоззрение, это начальная настройка, позволяющая четко увидеть все, что необходимо.
Редуцирующая стратегия подкрепляется методами понимающей психологии. Понимание – основная задача феноменологических психиатров и экзистенциальных аналитиков как практиков. Именно понимание позволяет проникнуть в опыт, существование больного и обнажить этот опыт, описать и сохранить его. Принципы такого понимающего исследования разработал Карл Ясперс, и его по праву считают одновременно и родоначальником, и предтечей экзистенциально-феноменологической психиатрии. Практическая работа посредством понимания дополняется исследовательской работой. Здесь в ход вступает феноменологически-структурный анализ. Он позволяет зафиксировать как отдельные феномены патологического опыта, так и связи между ними, воссоздавая целостную структуру психического расстройства. Заключительным штрихом на методологическом пути становится экзистенциальная герменевтика, позволяющая связать структурные особенности патологического опыта конкретного больного с онтологической рефлексией и интерпретировать его в контексте бытия-в-мире.
В результате таких методологических стратегий структурируется предмет исследования – патологический опыт, патологический мир, патологический модус бытия в их тесной связи с онтологическим мироустройством и экзистенциалами существования человека. Для его описания используются промежуточные концепты: «жизненный порыв» Бергсона превращается у Минковски в «личный порыв»: исследуются «проживаемые» время и пространство; не априорные структуры познания, а «экзистенциально-априорные структуры». В этих предметных областях и посредством таких промежуточных понятий структурируется метаонтика.
Психическое заболевание начинает восприниматься как искусственная ситуация, в которой феномены существования человека, благодаря их искаженности, можно увидеть и проанализировать наиболее четко. Как подчеркивает Эрвин Штраус, «психозы и неврозы являются изменениями человеческого опыта и поведения. Они, как уже говорилось, – эксперименты, устроенные самой природой <…> психиатрические палаты можно бы было рассматривать как огромные естественные лаборатории психологии»[30]. Посредством анализа патологического опыта, таким образом, экзистенциально-феноменологические психиатры и приближаются к исследованию горизонтов нормального существования.
Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ представляют первую попытку создания полноценной философско-клинической теории, содержанием которой в их случае является метаонтика. Антипсихиатрия продолжит эту традицию. Только если в случае экзистенциально-феноменологической психиатрии формирующим проблематизацию пространством была онтология, для антипсихиатрии таковой будет социальная философия, что даст возможность сформировать и социальную практику. В этом отношении антипсихиатрия как проект – двойник экзистенциально-феноменологической психиатрии, за исключением того, что ее философско-клиническое совмещение станет не настолько тупиковым для практики. Она, хотя так и не сформирует практики психотерапии, окажется способной развивать социальную практику.
Очень много мировоззренческих моментов приходит в антипсихиатрию именно из феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа: нацеленность на переживание и опыт больного, а также полная их реабилитация, признание полноценности существования психически больного человека. Все это запускает в антипсихиатрии вопрос о том, почему, если мы признаем онтологическую полноценность психически больных, мы изолируем их и содержим в заточении. Именно это формирует исходный импульс освобождения. Онтологическая реабилитация психического заболевания становится поэтому предваряющим этапом для критики психиатрии как социальной институции.
И экзистенциально-феноменологическая психиатрия, и антипсихиатрия начинают свое развитие благодаря междисциплинарному «зазору», эдакой «складке междисциплинарности». Их практика строится в пространстве практики психиатрии, а теория движется философией, социально-критической мыслью, антропологией и прочими гуманитарными идеями и теориями. Неизменно образующиеся при таких сочетаниях внутренние противоречия хотя и приводят к интересным следствиям, но непреодолимы. Метаонтические наброски экзистенциально-феноменологических психиатров – ярчайшая страница в истории философии, но психиатрии сложно использовать их в практике. Социально-критическая теория антипсихиатрии станет повторением этого опыта противоречия.
2. От культурной антропологии к социальной теории психического заболевания
В 1920–1930-е годы этнология и культурная антропология переживает период своего расцвета, проводятся многочисленные полевые исследования, которые затрагивают все аспекты человеческой культуры, включая область девиаций, в том числе психических.
Еще в 1934 г. Рут Бенедикт в своей статье «Антропология и анормальное»[31] предпринимает первую попытку поставить проблему психических заболеваний в культурном контексте. Рассматривая категории нормального и ненормального, она задается вопросом о том, можно ли расценивать их формирование как функцию культуры.
Бенедикт основывает свое исследование на этнокультурном материале и в этой небольшой работе сосредоточивает свое внимание на непосредственных примерах того, как признанное ненормальным в одной культуре может терпимо приниматься или даже активироваться и приветствоваться в другой. Она обращается к явлениям мистических экстазов, экстрасенсорных способностей, которые считаются не вполне приемлемыми для западной культуры, но в традиционных обществах расцениваются как особенный высший дар. Другой пример – гомосексуализм. В западном обществе он наделен анормальным статусом, но в некоторых традиционных культурах окружен почитанием. Так, для многих племен американских индейцев характерен феномен «бердачес»: это мужчины, после наступления половой зрелости менявшие сексуальную ориентацию, одевавшиеся как женщины и жившие с мужчинами. Все эти люди – мистики, бердачес, – как заключает Бенедикт, интегрированы в социальные отношения.
Еще более примечательно, на взгляд Бенедикт, то, что ненормальное для нашей культуры может выступать краеугольным камнем социальной структуры других культур. Здесь показателен пример племен Северо-Западной Меланезии, где те черты, которые для нас являются параноическими, структурируют культуру. Там экзогамные племена расценивают друг друга как непримиримых врагов, каждый из которых живет только посредством черной магии: всякий хороший урожай считается свидетельством кражи урожайности у соседнего племени, всякий подарок расценивается как попытка отравления, и ни одна кастрюля не оставляется без присмотра во избежание дурных последствий, а есть чужую пищу запрещено под страхом изгнания из общины даже в периоды голода. Эти племена ведут непрерывную войну и живут в состоянии постоянной подозрительности, и эти подозрительность и «мистическая война» закладывают основание их жизни. Ссылаясь на исследования Р. Фортун, Бенедикт описывает случай одного из членов племени, совершенно не похожего на других: дружелюбного, радушного, доброжелательного и любящего помогать другим, соплеменники которого никогда не говорили о нем без насмешек и считали его сумасшедшим.
«Эти иллюстрации, представленные лишь очень кратко, – заключает после всех примеров Бенедикт, – показывают, что нормальность детерминирована культурой»[32]. Предпочтительные образцы поведения, на ее взгляд, закрепляются автоматически, без всякого сознательного руководства, на протяжении долгого времени и зависят от множества факторов обособленного существования группы, а также контактов с другими культурными группами. Так вначале еле заметные культурные предпочтения развиваются и закрепляются.
Для Бенедикт норма, в том числе норма психическая – это проблема этики, а не психиатрии. Она подчеркивает: «В общем, нормальность, в самом широком смысле этого понятия, определяется культурой. Во всякой культуре это прежде всего термин для обозначения социально культивируемого сегмента человеческого поведения; а ненормальность – термин для того сегмента, который в данной цивилизации не задействован. То, как мы смотрим на эту проблему, обусловлено тем, что принято в нашем обществе»[33]. Исследования антропологов указывают, что норма не основана на неизменной человеческой природе и что она меняется от общества к обществу, как меняется этика. Это то, что одобряется, принимается обществом.
Утверждая, что каждая культура – это обилие различных возможностей поведения, Бенедикт приходит к выводу о том, что культура всегда предполагает как черты, соответствующие общепринятым, так и те черты, которые не соответствуют предпочтительному типу поведения в этом сообществе. Однако группы людей, которые несут эти два типа поведения, не равны. «Большинство индивидов во всякой группе, – пишет Бенедикт, – скроены по культурному образцу. Другими словами, большинство людей пластичны по отношению к прессующей силе общества, в котором они рождаются. В обществе, где поощряется транс, как в Индии, они будут переживать сверхъестественный опыт. В обществе, которое институализирует гомосексуальность, они будут гомосексуальны. В обществе, которое считает основной целью человека накопление богатств, они будут копить имущество. Девианты, вне зависимости от типа поведения, который институализирован культурой, всегда в меньшинстве… Малый процент девиантов в любой культуре связан не с твердостью инстинктов, благодаря которым общество строит себя на основании фундаментального здравомыслия, а с повсеместным фактом, что, по счастью, большая часть человечества с готовностью принимает любую форму, которая ему диктуется…»[34].
Эту точку зрения разделяли практически все этнологи и антропологи. Так, Мелвилл Херсковиц объяснял статус нормы и девиации в культуре, привлекая понятие «инкультурация». Инкультурация – вхождение в культурную среду, определяющую восприятие реальности, мышление и модели поведения, а также представления о норме и патологии. Именно организация отношений в культуре, по Херсковицу, очерчивает норму и отклонение[35]. Жорж Деверо, основываясь на полевых исследованиях культуры индейцев хопи, папуасов Новой Гвинеи, племени седанг и проч. разработал социологическую теорию шизофрении. Он описывает шизофрению как этнический психоз западной культуры, характеризующийся нереалистичным восприятием окружающего мира, и психозом этим, на его взгляд, страдают и врачи, и пациенты. Восприятие реальности здесь сходно с архаическими формами мышления, заменяющими в случае необходимости ориентацию в реальном мире псевдоориентацией в сверхъестественном. При этом социокультурная реальность является пространством шизофрении: она не может запускать сам шизофренический процесс, но шизофрения предстает как дезориентация в этой реальности. Деверо настаивает, что шизофрения укоренена в западной культуре и именно поэтому западная наука не может определить ни ее анатомические основания, ни этиологию, ни вылечить от нее. Поскольку шизофрения – это феномен культуры, избавиться от нее, по его убеждению, можно только путем культурной революции[36].
Все эти исследования культурных антропологов указывают на тот факт, что «каждая культура создает из болезни образ, характер которого очерчивается всеми вытесняемыми или подавляемыми ею антропологическими возможностями»[37]. Мишель Фуко подчеркивает, что такое понимание болезни представляет ее одновременно в негативном аспекте и в аспекте возможности: в негативном аспекте, поскольку болезнь сопоставляется со средним, и сущность патологического выражается как отклонение, маргинальное, как поведение, которое не включено в культуру; в аспекте возможности, поскольку болезнь задается антропологическими возможностями, которые сами по себе, вне связи с культурой, патологическими не являются.
Фуко, анализируя американскую антропологию, высказывает очень ценную мысль, которая станет поворотной не только для его собственного творчества, но и для развития антропологических, психологических исследований психического заболевания, а также для формирования антипсихиатрии. Он пишет: «…Наше общество не хочет узнавать себя в том больном, которого оно изгоняет или заточает… <…> В действительности общество позитивно выражается через демонстрируемое его членами психическое заболевание, и происходит это вне зависимости от того, каким статусом оно наделяет эти болезненные формы: помещает ли их в самый центр своей религиозной жизни, как это зачастую бывает у первобытных людей, или, располагая за пределами общественной жизни, стремится экспатриировать их, как это делает наша культура»[38].
Культурная антропология приносит в традицию биологической психиатрии свежую струю и вводит новое измерение исследований: оказывается, что психическое заболевание зависит от культуры, и это новое открытие требует теперь связывания его с традиционными представлениями. Более того, открытия антропологов актуализируют новые вопросы о функциях психического заболевания в культуре и о структуре общества, предполагающего психическое заболевание. Эти вопросы подталкивают развитие кросс-культурной психиатрии, существование которой ранее было немыслимо.
Стало быть, культурная антропология, наравне с негативным смыслом, негативным аспектом психического заболевания как отклонения принесла ему и позитивный смысл феномена культуры; и для философии, для социальной теории, разумеется, главным стал вопрос его культурной функциональности. Фуко формулировал эти вопросы так: «…Как наша культура пришла к тому, что стала придавать болезни смысл девиации, а больного наделять тем статусом, который сама же и исключает? И как, несмотря на это, наше общество выражается в тех болезненных формах, каковым оно отказывает в признании?»[39]. Эти вопросы ставила уже антипсихиатрия, и ее социальная теория двигалась в поисках ответов на них.
Своеобразным развитием антропологических и этнологических исследований стали идеи группы в Пало-Альто и Грегори Бейтсона. Бейтсон, ассистент этнолога А. Радклифф-Брауна, в начале научного пути занимался исследованиями обычаев и традиций племени ятмулов в Новой Гвинее. Социальная структура первобытных племен подтолкнула его к исследованию социальной структуры развитых обществ и коммуникативных практик современного человека. Так, в процессе длительной работы он пришел к теории «двойного послания», имевшей центральное значение для формирования направленности и содержания проекта британской антипсихиатрии.
Теория «двойного послания» (double bind) – плод коллективной работы школы Пало-Альто: она разрабатывалась под руководством Бейтсона группой исследователей в 1952–1956 гг. Коллектив много работал с шизофрениками и их семьями, проводя продолжительные сеансы бесед, которые фиксировались на магнитофон. Так, в бесконечных разборах коммуникативных ходов, и формировалась эта теория. Сама идея двойного послания принадлежала Бейтсону, весомый вклад в проработку этого концепта внесли и его коллеги. В совместной статье, являющейся итогом этого проекта, авторы разъясняли роль каждого из них: «Джею Хейли принадлежит идея, что симптомы шизофрении указывают на неспособность различать логические типы. Г. Бейтсон развил эту идею дальше, придя к выводу, что симптомы шизофрении и ее этиология могут быть формально описаны в рамках гипотезы “двойного послания”. Д. Джексон, ознакомившись с этой гипотезой, обнаружил ее глубокое родство с его концепцией семейного гомеостаза. С тех пор Д. Джексон принимал непосредственное участие в разработке проекта. Изучение формальных аналогий между гипнозом и шизофренией было предметом работы Джона Уикленда и Джея Хейли»[40].
Предпосылки этой теории были заложены Бейтсоном еще в 1940-е годы[41]. В конце сороковых Норберт Винер, интеллектуальный наставник Бейстона, познакомил его с теорией логических типов Бертрана Рассела. Винер был студентом Рассела и с легкостью увлек этой теорией Бейтсона. Приблизительно в то же время Бейтсон сотрудничал с психиатром Юргеном Рюшем, и плодом этого сотрудничества стала их совместная книга «Коммуникация: социальная матрица психиатрии», в которой Бейтсон и Рюш пытались выстроить коммуникативную теорию психического заболевания и психотерапии. «Психопатология определяется в понятиях нарушения коммуникации»[42], – подчеркивали они.
Бейтсон и Рюш были движимы той же ситуацией, что и британская психиатрия и психология. В предисловии к изданию 1968 г. они говорят о военном и послевоенном времени, о необходимости лечения военных неврозов и о бессилии перед ними биологической психиатрии. Они констатируют: «В то время, когда эта книга была написана, стало уже совершенно ясно, что эра индивида закончилась»[43]. Если для британцев спасительной ниточкой оказалась теория групп, на основании которой развивается социальная теория групповой работы и практика терапевтических сообществ, то для Бейтсона и Рюша таковой была теория информации Норберта Винера.
В своем предисловии к работе Бейтсона и Рюша Пауль Вацлавик, коллега первого по группе Пало-Альто, указывает на тот факт, что понимание мира в этой книге чисто винеровское. Для Бейтсона и Рюша мир состоит не из отдельных индивидов, он – мириады посланий, как в 1947 г. его определил Винер. «Целью исследования, – подчеркивает Вацлавик, – стал теперь именно мир, интерпретируемый как “мириады посланий”, рождающих послания, которые воздействуют на те, что породили их»[44]. Эти мириады посланий, окрашенные тотализацией Сартра, мы встретим в вводных строках «Межличностного восприятия» Лэйнга: «Человечество есть мириады преломляющих поверхностей, окрашивающих белое сияние вечности. Каждая из этих поверхностей преломляет преломление преломлений преломлений. Каждое “я” преломляет преломления других преломлений преломлений “я” других преломлений… Это лучезарное сияние, это чудо и мистерия, однако частенько нам хочется проигнорировать или уничтожить те грани, которые преломляют свет иначе, чем мы»[45].
Кроме перемещения внимания с индивида на пространство коммуникации, в которое он погружен, Бейтсон и Рюш делают и еще один шаг, который впоследствии окажется принципиальным для антипсихиатрии: они рассматривают психиатра и пациента как равноправные части более сложных систем социальных отношений, т. е. ставят психиатра на один уровень с пациентом, в рамки общей социальной и культурной матрицы. Поэтому теория, которую они развивают, – больше не психиатрическая теория психического заболевания (поскольку психиатр в ней – такой же участник коммуникации, как и пациент), а социальная теория коммуникативных систем, одним из аспектов которой является теория межличностной коммуникации в патологии.
Авторы намечают стратегию исследования коммуникации, которой впоследствии Бейтсон будет придерживаться в исследованиях семей шизофреников: 1) понимает ли пациент правила, роли и природу социальных ситуаций и способен ли он адекватно оценить контекст той системы коммуникации, в которую погружен; 2) адаптирован ли пациент к сети коммуникации, частью которой он является, способен ли он управлять теми коммуникативными сигналами, которые идут к нему и от него; 3) каковы количественные аспекты коммуникации; 4) имеются ли в коммуникации семантические проблемы; 5) доходят ли коммуникативные сигналы пациента до адресатов, и какова эффективность их воздействия.
В этой работе Бейтсон, уже используя теорию логических типов, настаивает на том, что невербальная информация обладает статусом более высокого логического типа, чем словесное содержание. Он называет этот уровень метакоммуникацией – коммуникацией о коммуникации. «Мы будем обозначать как “метакоммуникацию”, – отмечают авторы, – все взаимные сигналы и суждения о (а) кодировании и (б) отношениях между коммуникаторами»[46]. Конфронтация этих уровней, по Бейтсону, и приводит к прагматическим парадоксам, хорошо заметным на примере игры, творчества, юмора и патологии. Здесь Рюш и Бейтсон пытаются определить патологию в зависимости от специфики коммуникативных нарушений: на их взгляд, психоз сопровождается, в основном, нарушением коммуникативных процессов в сфере восприятия, невроз связан с трудностями в пространстве передачи сообщений.
Определенным фундаментом будущей теории двойного послания становится в этой работе теория научения. Бейтсон и Рюш, описывая социальную матрицу коммуникации, говорят о характерном для общества закреплении стереотипного реагирования. Эти реакции становятся пусковым моментом дальнейшего поведения индивида: стереотипные образцы поведения (ответы) детерминируют поиск определенных стимулов. Авторы сравнивают этот процесс с процессом оформления русла реки: течение оформляет берега, которые затем задают течение. Так «стимул и ответ спаиваются в единстве»[47].
Это единство Бейтсон и Рюш называют ценностью, при этом определяя ценности как «предпочтительные способы коммуникации и связи»[48]. Зная ценности общества, культуры, группы или семьи, можно интерпретировать составляющие коммуникацию сообщения, а также оказывать влияние на поведение людей. Таким образом, Бейтсон предлагает формальное, коммуникативное определение ценности, которое не только позволяет ему заложить основания для потенциальной культурной антропологии, но делает возможным исследование ценностей на уровне малых социальных групп. Он превращает ценность в категорию, благодаря которой можно преодолевать границы социальных уровней и переходить с одного уровня исследования на другой. Этой стратегией будет активно пользоваться антипсихиатрия: ценности для нее, как и для Бейтсона, станут категориями научения и воспитания.
Здание теории двойного послания строится на синтезе теории обучения, теории логических типов Рассела и теории коммуникации. При этом теория обучения описывает генезис шизофрении, теория логических типов – ее механизм, а теория коммуникации – пространство реализации. Надо отметить, что первоначально концепт двойного послания разрабатывался по отношению к культурной антропологии, теории обучения, коммуникации животных, а уже потом, в ходе работы в группе Пало-Альто, был развит по отношению к семьям шизофреников. Бейтсон не устает напоминать, что посредством этого понятия могут быть описаны искусство и религия, юмор и сновидения, и шизофрения – не центральный феномен в этом ряду.
Основой развития концепта применительно к шизофрении выступило ее понимание как совокупности формальных характеристик индивидуального стиля взаимодействий. По Бейтсону, структура этого стиля взаимодействия может указывать на совершенно разнородные первоначальные причины. Бейтсон не исключает генетических, органических или иных факторов шизофрении и настаивает на том, что понятие двойного послания характеризует формальный, функциональный, структурный аспект, поэтому само исходное содержание может быть каким угодно. «Теория даблбайнда, – подчеркивает он, – не содержит исходного положения, оценивающего шизофренические проявления как плохие. Эта теория не является нормативной и уж совсем не является “прагматической”. Она не является даже медицинской теорией (если такое вообще возможно)»[49].
Происхождение шизофрении Бейтсон связывает со «слабостью эго», и «слабость эго» понимается здесь в инструментальном, формальном ключе как «затруднение в идентификации и интерпретации тех сигналов, которые должны сообщить индивидууму, к какому типу относится данное сообщение…»[50]. Каждый человек погружен в пространство сложно переплетенных логических типов: языковых связей, имплицитных указаний и наложений, где явные связки уступают место контекстуальным. Мы постоянно намекаем, недоговариваем, шутим, и вся сложность этих логических структур становится понятна только тогда, когда мы пытаемся так же свободно «болтать» на неродном для нас языке. Эта самая сложная, высшая (контекстуальная) ступень погруженности в язык недоступна для шизофреника.
Возможность непонимания контекста укоренена в сущности составляющих язык логических типов, говорит Бейтсон, следуя за идеями Рассела. В языке есть принципиальное различие, разрыв между логическим классом и членами этого логического класса. Понятия, которыми описываются члены класса, принципиально отличаются от понятий, описывающих сам логический класс: они находятся на другом уровне абстракции. На этом разрыве строится множество форм человеческой коммуникации: фантазии и метафоры, ритуалы и игры, юмор и этикет, и что самое важное – на этом разрыве строится обучение от простейших форм выработки условного рефлекса и простейших форм подражания до сложнейших форм научения путем перенесения изученной стратегии в другую модальность и сферу деятельности. При шизофрении это различие нивелируется, и слабость эго приводит к невозможности различения модальностей во внутриличностной и межличностной коммуникации. Страдающий шизофренией не способен идентифицировать модальность: 1) получаемых от других сообщений; 2) сообщений, передаваемых другим им самим; 3) собственных мыслей, ощущений и восприятий.
Путаница с логическими типами всегда возникает в пространстве коммуникации, и Бейтсон с коллегами формулируют необходимые элементы ситуации двойного послания, в которую попадает шизофреник. Их пять: 1) двое или более участников, один из которых обязательно является жертвой; 2) повторяющийся опыт, необходимый не только для появления коммуникативного ответа, но и для его закрепления как устойчивой и единственной реакции; 3) первичное негативное предписание, представляющееся в одном из двух вариантов: «не делай того-то и того-то, иначе я накажу тебя» или «если ты не сделаешь того-то и того-то, я накажу тебя»; 4) вторичное предписание, которое вступает в конфликт с первым на более абстрактном уровне и так же, как и первое, подкрепляется наказаниями или сигналами, угрожающими самому существованию. Обычно оно передается невербальными средствами посредством позы, жестов, тона голоса или речевыми формулировками, описывающими, как следует относиться к первичному предписанию; 5) третичное негативное предписание, лишающее жертву возможности покинуть поле[51]. Таким образом, человек попадает в ситуацию, в которой значимый для него другой передает ему одновременно два взаимоисключающих друг друга сообщения. К примеру, говорит: «Ты мне дорог», позой, интонацией и выражением лица показывая обратное; или лишает его телевизора, мороженого, прогулок, говоря, что это происходит «для твоего же блага».
Эти ситуации двойного послания провоцируются, по Бейтсону, в раннем возрасте в семьях шизофреников. Основной фигурой при этом оказывается мать, которая испытывает тревожность при близком общении с ребенком, либо не испытывает к нему любви. Всякий раз, когда ребенок психологически приближается к ней, у нее возникает тревога, и она отталкивает его, но внешне, видимо, демонстрирует должное отношение и поведение. Классическим здесь является пример, который позднее от Бейтсона заимствует Лэйнг: раздраженная громкой игрой ребенка (или уставшая) мать говорит ему: «Хватит играть, ты устал, иди спать». Мать так демонстрирует ребенку два рода сигналов, которые противоречат друг другу. Ребенок постепенно запутывается и уже не может идентифицировать идущую как к нему, так и от него информацию. Бейтсон и его коллеги разъясняют: «Иными словами, ему запрещается правильно определять уровни сообщений: в данном случае различать выражение симулируемых чувств (один логический тип) и реальных чувств (другой логический тип). В результате ребенок должен систематически искажать свое восприятие метакоммуникативных сигналов»[52].
По Бейтсону, губительность ситуации двойного послания не только в ее лживости, но и в том, что она циркулярна: это тупиковая ситуация. Человек попадает в нее словно в тиски, из которых невозможно выбраться, и при любой стратегии он не найдет выхода. Не случайно Бейтсон и его коллеги определяют эту ситуацию как ту, «в которой человек, что бы он ни делал, “не может победить”»[53].
Теоретически человек может выбраться из ситуации, развивая уровень метакоммуникации, т. е. комментируя свое противоречивое положение. Эта возможность активно используется в психотерапии, и только так человек может освободиться из тисков двойного послания. Однако в реальности мать или другой значимый человек, инициирующий саму ситуацию, будет воспринимать такого рода комментарии как обвинения и настаивать на искаженном восприятии ситуации, т. е. развивать ситуацию двойного послания дальше. Поэтому всякая попытка выйти из ситуации снова погружает в нее.
Такая реакция значимого другого следует за разоблачением, по Бейтсону, в силу того, что само двойное послание является одним из главных способов поддержания гомеостаза группы, в которую включен индивид. Любая попытка вскрыть его только развивает двойное послание, поскольку появляется угроза этому гомеостазу. Таким образом, для Бейтсона и его коллег выбраться из ситуации двойного послания без психотерапии практически невозможно. Есть, правда, еще один выход, который выходом на самом деле не является. Это шизофрения. «Психоз, – пишут исследователи, – оказывается отчасти способом совладания с ДП-ситуациями (ситуациями двойного послания. – О. В.), помогающим справиться с их подавляющим влиянием»[54]. Стало быть, шизофрения – это своеобразная патовая стратегия выживания в ситуации, из которой выбраться невозможно.
По модели шизофреногенной ситуации организована вся окружающая шизофреника среда: как среда семьи, так и психиатрической больницы. На взгляд Бейтсона, господствующая в больницах благожелательность существует не ради пациентов, а во благо врача. В больницах воспроизводится шизофреногенная ситуация двойного послания, поэтому психиатрическая больница с точки зрения коммуникации не лечит пациента, а только усугубляет его состояние. «Сама больничная среда и та обстановка, в которой осуществляется психотерапия больных шизофренией, создают ДП-ситуации»[55], – подчеркивает он.
Со временем Бейтсон несколько изменяет акценты теории двойного послания и шизофреногенности семьи, расширяя ее и включая в понятия системы. Если сначала шизофреник рассматривался как «козел отпущения», жертва семьи, как тот, кто всегда противостоит ей, то впоследствии Бейтсон приходит к выводу о том, что все члены семьи в равной мере являются жертвами ситуации. «…Довольно скоро, – разъясняет он, – выяснилось, что все члены семьи, содержащей шизофрению, в равной степени являлись жертвами, и что изменений требовала сама семья как целое, включая пациента. Слово “против” более не годилось для описания отношений внутри семьи, и ключевым стало слово “часть”. Возникла необходимость видеть каждого индивидуума как часть семьи, которая плохо функционирует как целое» (пер. Д. Я. Федотова)[56]. Можно сказать, что таким изменением ознаменовался переход Бейтсона от линейного понимания шизофренической семьи к ее системному исследованию, от психоаналитически окрашенной теории к теории кибернетической.
Британская антипсихиатрия заимствует ранний вариант теории двойного послания. Именно этот вариант Лэйнг будет развивать в своих исследованиях семей шизофреников и в понятии мистификации. Однако недостаточность линейного понимания станет ясной не только Бейтсону, но и Лэйнгу. Этот своеобразный тупик раннего, линейного варианта теории двойного послания он будет преодолевать благодаря обращению к идеям Сартра и его социальной онтологии. Там он отыщет то системное мышление, ту множественность связей, о которой говорит Бейтсон.
Примечательно следующее: несмотря на то что социальная теория Лэйнга как раз и будет являться органичной взаимосвязью идей Бейтсона и Сартра, в практике приживется исключительно ранний бейтсоновский вариант. Множество теоретических статей говорит о сартрианском характере Лэйнговой социальной онтологии. Исследователи распутывают клубки метакоммуникации, так хорошо представленной и в относительно ранних исследованиях семей шизофреников, и в относительно поздних диалогах Лэйнга с его детьми. Но когда говорят о влиянии Лэйнга на индивидуальную и семейную психотерапию, вспоминают о мистификации в том смысле, в котором ее можно истолковать сквозь призму раннего Бейтсоновского понимания «двойного послания». По-видимому, эта ситуация указывает на линейный характер самой психотерапии.
В рамках системного подхода Бейтсон характеризует шизофреногенную семью как стабильную или даже гиперстабильную систему. При этом появление больного шизофренией поддерживает и регулирует гомеостаз семьи. «Если у идентифицированного пациента, – пишет он, – происходит улучшение, мы можем наблюдать множество видов скрытого давления, направленных на продление его болезни. <…> Как и многие другие сложные гомеостатические системы, патогенная семья способна восстановить потерянную часть подобно тритону, регенерирующему потерянную конечность»[57].
Бейтсон затрудняется определить четкие механизмы идентификации роли шизофреника каким-либо членом семьи и говорит только о шизофреногенности как о системном качестве этой группы, выражающемся в искажении коммуникации всех ее членов. Он подчеркивает: «Члены патогенной семьи имеют определенное распределение ролей и образуют взаимодействующую и самоподдерживающуюся систему, внутри которой едва ли возможно указать на одного члена как на причину характеристик семьи в целом»[58].
Здесь на примере семейной системы можно увидеть то явление, которое наблюдается и в других социальных группах: семья может успешно функционировать и поддерживать свой гомеостаз только при наличии элемента, опровергающего ее мировоззрение, философию, основания. Такую же ситуацию, говорит Бейтсон, мы можем видеть в полицейском государстве, которое нуждается в преступниках, и – можно продолжить его слова – в развитии религии, которая нуждается в еретиках. Подобные шизофреногенной семье группы не могут функционировать без подрывного элемента.
Та ким образом, в шизофреногенной семье существует определенная ролевая ниша шизофреника, которую должен кто-либо занимать. Точно так же существует и ролевая ниша «матери», которая посредством двойного послания формирует коммуникативную стратегию шизофреника. Ролевая структура может быть и менее четкой. Роль матери может играть любой член семьи, или эта роль, как и роль шизофреника, может быть распределена между несколькими членами семейной группы.
Заметно, что Бейтсон переходит от психологической, психоаналитически ориентированной модели к модели кибернетической: определяющими с тановятся свойства системы, а не индивидуальные и межличностные взаимодействия. «Патогенная природа семейной единицы, – пишет он, – может быть результатом ее характеристик как организационной сети. Если мы видим, что машина ведет себя так, словно содержит регулятор, эта внешняя характеристика машины не дает нам права сказать, что внутри системы находится локализованный регулятор. Характерная способность системы к самокоррекции может быть результатом совокупной сетевой структуры»[59].
Пытаясь мыслить кибернетически, Бейтсон предлагает следующую модель.
1. Имеются три системы гештальтов: отдельный индивид, социальная группа (семья) и общество. Каждый из гештальтов наделен гомеостазом, способностью к обучению, внутренней и внешней коммуникацией.
2. Стабильность внутри гештальта может приводить к дестабилизации гештальта высшего уровня: развитие индивида может выводить его из группы и наносить ей урон как системе. Поэтому гештальт более высокого уровня испытывает потребность в регуляции гомеостаза, в навязываемом управлении. Пространство взаимной коммуникации в таком случае размывает индивидуальность. В этом и состоит шизофреногенность как качество системы.
3. Гештальты трех уровней связаны позитивными и негативными связями. Стабильность системы зависит от гомеостатических процессов гештальта более высокого уровня, направленных против нее. Так, развитие индивида часто входит в противоречие с развитием семейной группы, и в ход идут механизмы регуляции гомеостаза.
Такой системный подход для Бейтсона ставит больше вопросов, чем дает ответов. И одним из самых проблемных пространств здесь оказывается культурная антропология, которая, на его взгляд, привыкла к прямым вопросам о культурации: каковы механизмы погружения в культуру, формирования идентичности, нормативного сознания в культуре. Исследования шизофрении ставят антрополога перед обратными вопросами: «“Каким образом предотвращается превращение детей в гиперболизированные версии культурной нормы, в карикатуры на нее?” Мы знаем, что в некоторых культурах время от времени спорадически появляются такие гиперболизации отдельных культурных паттернов. Какие сбои каких предохранительных процессов приводят к этим спорадическим гиперболизациям? И как предотвращается их более частое появление»[60].
Таким образом, для того чтобы прояснить социальные и культурные механизмы шизофрении, необходимо выяснить механизмы взаимосочетания гештальтов индивидуума, семьи и общества, препятствующие конфликтным патологическим гомеостазам. По Бейтсону, антропологи находятся в этом направлении лишь на полпути, поэтому культурно-антропологическую теорию шизофрении развить пока невозможно. Однако сама возможность ставить подобные вопросы – уже большое достижение антропологии.
Так в теории двойного послания Бейтсона формируется специфический взгляд на шизофрению, который впоследствии будет развивать британская антипсихиатрия. В обобщенном виде те положения, которые она будет напрямую заимствовать, можно представить следующим образом.
1. Шизофрения является результатом неспособности ориентироваться в имплицитном контексте коммуникации.
2. Фундаментом этой неспособности выступает ситуация раннего детства, которую можно описать как ситуацию двойного послания, когда мать в силу нелюбви к ребенку или собственной тревоги демонстрирует два рода коммуникативных сигналов, которые противоречат друг другу.
3. Двойное послание является стратегией, поддерживающей гомеостаз семьи.
4. Двойное послание – это тупиковая ситуация, из которой невозможно выйти, поскольку каждая попытка сделать это еще больше затягивает человека в прежнюю ситуацию.
5. Шизофрения как коммуникативная стратегия является попыткой справиться с безвыходной ситуацией двойного послания.
6. Ситуация шизофрении требует не индивидуальной, а системной терапии, когда в центре стоит не сам больной, а вся семья.
Бейтсон всячески настаивал, что теория двойного послания не может быть напрямую перенесена в практику психиатрии, поскольку система и структура теории коренным образом отличаются от системы и структуры эмпиризма, на котором основывается практика: «Сегодня происходит нечто новое и не только в области охраны психического здоровья. Теории становятся доступны для людей, ориентированных на действия, чей первый импульс характерен для эмпиризма: “Принесите это в больницу и испробуйте. Не тратьте годы на попытки понять теорию. Просто применяйте ее, невзирая на последствия”. Такие люди, скорее всего, принесут фрустрацию себе и вред своим пациентам»[61].
Надо признать, что Лэйнг и его соратники начнут именно с самого развития теории, и британские антипсихиатрические исследования начала 1960-х годов буут ориентированы на продолжение идей Бейтсона и их проверку. И в конечном счете их восприятие так и останется на уровне теории. Практика антипсихиатрии станет опираться на совершенно другие посылки.
Антипсихиатрия будет не только активно использовать содержательные моменты идей Бейтсона, но и благодаря им сформирует микросоциальный уровень своей социальной теории, построив мост между личностью и обществом. Семья станет моделью социальной группы, типовой микрогруппой большого общества, где в мельчайших переплетениях и парадоксах двойного послания антипсихиатры будут отыскивать механизмы микрополитики власти.
Антропологические и этнографические исследования будут способствовать и еще одному немаловажному для антипсихиатрии моменту. Несмотря на то что в их локусе стоит традиционная группа, социальная структура, описательный характер представления полевого материала способствует тому, что на сцену выводится человек, причем не просто как элемент этой структуры, а как случай, история. Тем самым социальные по своему характеру штудии несут одновременно и антропологическую составляющую. В будущем для антипсихиатрии это даст возможность построения антропологически ориентированной социальной теории.
3. Движение терапевтических сообществ
Если свою социальную теорию антипсихиатрия заимствует от марксистски ориентированной философии, взгляд на безумие как на онтологическую реальность – от экзистенциальной мысли и экзистенциально-феноменологической психиатрии, то свою социальную практику она разрабатывает на основе «родных», психиатрических наработок. И это одна из причин, почему антипсихиатрию можно рассматривать как историческое направление психиатрии. Ее практика является закономерным продолжением традиции социально-ориентированных психиатрических проектов.
Заглядывая немного вперед, нужно отметить, что только незнакомый с историей психиатрии человек может назвать практику антипсихиатрии полностью революционной. На самом деле она не совершила, да и не могла совершить (наблюдение за историей наук все-таки дает все основания утверждать, что безоговорочно революционных, беспредпосылочных переворотов не бывает) прорывную революцию на практике. Все, что в этом пространстве делали антипсихиатры, имело свою историю и своих предшественников-первопроходцев, и вся эта история вращается вокруг уже родного в настоящее время для западной психиатрии понятия терапевтических сообществ (therapeutic community).
Сама традиция терапевтических сообществ первоначально зарождается в Великобритании в результате интенсивного развития социальной психологии групп и одновременно сложившейся в стране неблагополучной психологической и психиатрической ситуаций. Эксперименты по организации терапевтических сообществ развиваются как практическое приложение теории социальных групп и группового анализа, и неслучайно, что среди пионеров этого движения оказываются У. Бион, З. Фоукс и другие первопроходцы социально-групповых исследований.
Теоретической основой движения терапевтических сообществ становится положение о том, что социальная группа представляет собой своеобразный организм, не сводящийся к сумме входящих в нее членов и именно в силу этого обладающий большой терапевтической ценностью. Группа сохраняет свободу идентификации, моделирования характеров и ситуаций, а также интерпретации, в то время как индивидуальный анализ может подавить в интерпретации терапевтический процесс. Она чрезвычайно продуктивна и тем, что в ее пространстве участники могут учиться устанавливать и поддерживать межличностные отношения, и последнее имело особенно важное значение для социальной реабилитации. Группа становится зеркалом для человека: рассматривая и вовлекаясь в проблемы других людей, он прорабатывает свои собственные[62].
Одновременно с социально-психологической платформой в виде группового анализа оформляется потребность в его практическом приложении. Идет Вторая мировая война, и военное время уже во второй раз за XX в. вносит свои коррективы в теорию и особенно практику психиатрии. Британскую армию захлестывает волна посттравматических неврозов, психиатрия стоит перед необходимостью как-то справиться с этой ситуацией. Перед ней встает задача не только избавить от неврозов львиную долю солдат британской армии, но и адаптировать их к повседневной жизни. После этой адаптации солдаты должны были или вновь отправляться на фронт или приносить пользу в тылу. Традиционные методы не всегда помогали, и возникла потребность в новых социально-ориентированных методах.
Гов оря о Перв ой мир ов ой в ойне, Мар тин Стоун ука зыв ае т, что во енный невроз имел большое историческое значение в двух аспектах. Во-первых, он открыл дорогу психотерапевтическим, психоаналитическим и психологическим теориям невроза, и если до войны к неврозам по сравнению с психозами относились не совсем всерьез, то обилие случаев поставило медиков перед необходимостью признания бессилия биологической психиатрии и необходимости новых концепций. Во-вторых, военный невроз способствовал осознанию необходимости реформы психиатрической системы: солдаты заслуживали лучшего обращения и лучшей медицины[63]. То же самое можно с уверенностью сказать и о военной ситуации Второй мировой войны. Именно она принесла в психиатрию вторую волну психологических теорий и техник, она способствовала обращению к режиму открытых дверей, развитию терапевтических сообществ, появлению практик групповой работы. Гарольд Бриджер говорит об опыте с терапевтическими сообществами: «Это происходило во время Второй мировой войны, в критический период войны, и было неотъемлемой частью военной психиатрии. <…> Воюющая страна всячески акцентировала роль среды, и с этим не могли не считаться персонал и пациенты больниц»[64]. Военная и послевоенная психиатрия допускала даже самые смелые эксперименты. Максвелл Джонс, вспоминая о своих экспериментах по созданию терапевтического сообщества, говорил: «Сомнительно, что такие стремительные трансформации могли допустить в мирное время; традиции больницы очень крепки. Эти общие изменения появились в результате вызванного войной кризиса, зачастую временного характера больницы, сестринской профессии. Мы двигали этот процесс трансформаций не задумываясь, совершенно спонтанно»[65].
Под влиянием указанных факторов и в силу сложившейся ситуации в психиатрии закладываются основания для своеобразной методологической и мировоззренческой революции: сменяется траектория терапевтической работы и взгляд на человека. Обычно эти значимые трансформации называют одной из психиатрических революций XX в. и связывают ее с переходом от индивидуального лечения к социально-психиатрическому подходу, к групповым методам[66].
Пионером практики терапевтических сообществ является Максвелл Шоу Джонс (1907–1990)[67]. Он закончил медицинский факультет Эдинбургского университета и в первые годы своего профессионального пути занимался биологической психиатрией, ферментативной химией и биологией психических расстройств. Позднее, разочаровавшись в биохимической теории, он обращается к психологическим и социальным теориям. С 1938 г. Джонс начинает работать под началом Обри Льюиса в лондонской больнице Модсли, и Льюис, будучи сторонником психоанализа, поддерживает и культивирует его новые интересы. Тогда же в Модсли, наблюдая за персоналом больницы, Джонс открывает для себя, что гораздо больший эффект дает не медикаментозное лечение, а общение больного с группой профессионалов, с командой врачей, сестер и персонала. Так он начинает подозревать, что группа – это основное средство лечения.
Коренной переворот в карьере Джонса происходит в 1940 г., когда на базе больницы Модсли организуются два военных психиатрических госпиталя, призванных лечить военные неврозы и возвращать солдат на фронт. В одном из них – больнице Милл-хилл – он и продолжает свою карьеру. Там в отделении синдрома усилия (так в те времена обозначалась нейроциркуляторная дистония) он работает с 1940 по 1945 г.
Здесь Джонс делает первые шаги по реорганизации социальной структуры отделения и больницы. Он проводит исследование 100 пациентов, в котором обнаруживает, что за их симптомами не стоит никаких органических изменений. Оказывается, что расстройства всех этих больных имеют психосоматическую природу. В раздумьях над тем, как сообщить результаты всем «испытуемым», Джонсу приходит идея собрать всех пациентов и организовать нечто вроде групповых встреч для того, чтобы они совместными усилиями справлялись с общей для всех бедой. Он делится этой идеей с медсестрами и организует своеобразную команду активного персонала, который готов работать по-другому и проводить семинары-встречи с пациентами.
Вначале семинары организуются как пространство работы с болезнью, с телом, но постепенно на них начинают обсуждаться проблемы отделения, современные социальные проблемы, психологические трудности их участников и их жизнь. На первый план начинает выходить не только больной с его проблемами, но и сама группа как активный инструмент преодоления трудностей. Больные начинают проявлять все большую и большую активность, и между ними и персоналом возникает свободная от жесткой ролевой структуры коммуникация.
Как и все подобные эксперименты, этот столкнулся с характерной проблемой: часть медицинских сестер и врачей была недовольна практикуемыми Джонсом методами, тем, что больные могут весьма вольно общаться с персоналом. Возмущение постепенно нарастало. В это время Джонсу как раз подвернулась возможность предпринять вторую попытку.
В 1945 г., уже после войны, Максвелл Джонс начинает заведовать отделением реабилитации бывших военнопленных в Южной больнице Дартфорда, пригорода Лондона. Основной задачей этого специально созданного правительством отделения стала реабилитация солдат и возвращение их к нормальной жизни: многие из них были совершенно растеряны и не знали, как жить дальше.
Временное отделение, функционировавшее в общей сложности около 11 месяцев, насчитывало 300 коек и приняло за время своей работы 1200 пациентов. Большую часть персонала – медсестер, психиатров, социального работника, терапевта и психолога – Джонс привел вместе с собой из Милл-хилла. Основой работы отделения были малые социальные группки больных: он разделил 300 пациентов на шесть групп по 50 человек, каждая из этих групп и была структурной единицей отделения[68].
Как и в Милл-хилле, Джонс делает акцент на командную работу: группы пациентов собирались на встречи ежедневно: две встречи в неделю были посвящены психосоматическим расстройствам, одна – просмотру и обсуждению фильмов и проч. Важное значение имела трудовая реабилитация и включение солдат в жизнь большого общества. Была заключена договоренность с различными магазинами, организациями, фермерскими хозяйствами, расположенными неподалеку от больницы, и солдаты могли подрабатывать, постепенно возвращаясь к привычной жизни.
В отличие от своего первого проекта результаты этого Джонс отслеживал. В исследовании 100 бывших обитателей Дартфорда, поселившихся в Лондоне, было показано, что 22 из них достигли полного восстановления (чувствовали себя так же, как до войны), состояние 66 улучшилось, у 12 улучшений замечено не было, точнее, улучшения были заметны во время пребывания в больнице, а после выписки симптомы невроза вернулись. Джонс отслеживал и показатели занятости: 60 бывших пациентов высказывали полное удовлетворение своей нынешней работой, 16 – надежду на то, что в ближайшем будущем получат работу лучше настоящей.
Все эти результаты – и те, что были зафиксированы во втором проекте, и те, что наблюдались в первом, – привели Джонса к убежденности в эффективности групповой работы, в необходимости реструктурирования социального пространства больницы и смягчения ролевой структуры. «К середине 1940-х годов, – вспоминал он позднее, – я обрел твердую убежденность в том, что мы стоим на пороге открытия новой важнейшей терапевтической модели, но тогда я еще не знал, в каком направлении все это будет развиваться, и как я буду со всем этим связан»[69].
Однако удача благоволила Джонсу. Молва о его смелых и успешных идеях достигла Министерства здравоохранения, и в 1947 г. он получает новое назначение – заведование отделением техногенных неврозов больницы в Бельмонте. Этот третий в его профессиональной карьере проект прославит его на весь мир как пионера движения терапевтических сообществ, а сама больница станет святыней и местом паломничества многих реформистов и радикально настроенных психиатров.
Вверенное Максвеллу Джонсу отделение было призвано лечить и адаптировать хронически больных безработных и неимущих, лиц с личностными расстройствами, дезадаптированных в техногенном обществе. Официальные документы предписывали: «В процессе реабилитации сначала нужно было сделать акцент на медицинские аспекты, а позднее – на трудоустройство и адаптацию к жизни в обществе. <…> Индустриальная реабилитация должна была быть направлена на то, чтобы вернуть нетрудоспособного человека к нормальной дневной работе в обычных условиях труда, а не на исправление нарушений»[70].
Это отделение должно было работать с одной из проблем послевоенной Великобритании – увеличивающимся числом безработных, тунеядцев, алкоголиков. Государственные пособия по безработице, которые позволяли вполне сносно жить, только усиливали эту проблему, и постепенно страна столкнулась с ситуацией, когда огромная масса людей не была включена в общество, не хотела работать и была абсолютно социально дезадаптирована. С этой армией «гангстеров», как их впоследствии прозвали, и предстояло находить общий язык Джонсу.
Отделение было рассчитано на 100 койко-мест. Оно принимало взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, в основном его обитателями были молодые люди с психопатиями (около 60 %) и неврозами (около 20 %), лишь незначительный процент составляли психотические больные (около 10 %)[71]. В основном там находились те, кого принято называть антиобщественными элементами: тунеядцы, мелкие мошенники, алкоголики, проститутки.
Структура отделения основывалась на принципе «эгалитарной демократии»: она должна была быть как можно более свободной. Приветствовалось свободное общение вне зависимости от ролей и иерархии, общение должно было строиться с теми, с кем было интересно и хотелось общаться. Разрушение иерархии и ролевой структуры вело к общинности: сообщество должно было как можно точнее воспроизводить модель общества, поэтому всячески приветствовалось включение пациента в многочисленные группы и объединения: терапевтические группы, трудовые мастерские, социальные группы. Каждый из пациентов мог освоить разнообразие ролей и вернуть себе ролевую лабильность, которая необходима для успешной адаптации в обществе.
Порядки в Бельмонте были достаточно свободными: не было жесткого режима, жестких предписаний, и, несмотря на это, большинство пациентов добровольно участвовали в жизни сообщества. По убеждению Джонса, такие порядки были призваны окружить пациента понимающей средой, в которой он смог бы свободно жить, раскрыться и решить свои проблемы. Все формальные правила были минимальны: «В отделении говорили, что есть только два непреложных правила: каждое утро в 8.30 присутствовать на встречах сообщества и каждый вечер в 21.00 быть готовым ко сну и надеть пижаму»[72]. Если кто-то не подчинялся этим главным правилам, на следующий день на утренней встрече все отделение обсуждало его поведение. Джонс был убежден, что подобная мера гораздо эффективнее обычного наказания.
Основной особенностью организации проживания в Бельмонте было то, что сам процесс лечения, т. е. взаимодействия пациента с врачом, не был центральным и единственным пространством жизни. Джонс считал, что пациент должен стать частью сообщества и жить в нем полноценной жизнью, это, по его мнению, и должно было запустить процесс выздоровления, а также адаптации к большому обществу. Поэтому лечение, конечно, не утрачивало своего приоритета, а становилось одной из сфер, все из которых были равно терапевтическими. Надо признать, что здесь Джонс заложил традицию: подобное смещение акцентов станет основной особенностью терапевтических сообществ.
Для реализации своей цели Джонс располагал многочисленным персоналом, насчитывающим около 30 сотрудников. Кроме психиатров и медсестер были психологи, социальные работники, преподаватели мастерских и проч. Одной из своеобразных, но важных должностей была должность менеджера по трудоустройству, в задачи которого входило возвращение обитателей к трудовой деятельности. Медсестрам платили немного, и Джонс был вынужден нанимать на эти деньги молодых иностранок. Чтобы адекватнее обозначить их важную роль в сообществе, Джонс даже отказался от традиционного наименования этой профессии и предпочитал называть их социальными терапевтами. Наделение властью медсестер выражало убежденность Джонса в том, что ответственность за лечение должна распределяться между всеми членами сообщества. Процесс адаптации и выздоровления не должен был направляться одним лишь врачом-психиатром. Еще в Милл-хилле он получил подтверждение своей идее о том, что более эффективной является групповая работа, эту идею он развивал и здесь.
Основным инструментом групповой работы в Бельмонте были групповые встречи, встречи сообщества[73]. Они делились на несколько типов и охватывали все пространства жизни сообщества и возможные проблемы. Самыми частыми и важными были ежедневные встречи в 8.30 утра, их посещали все пациенты и весь штат. Здесь обсуждались проблемы поведения пациентов, и группа пыталась помочь исправить совершенные ошибки. После 9.00 по будням проводились дискуссии по насущным социальным вопросам – вопросам семьи и брака, воспитания детей и проч. Иногда читались лекции, и лектором мог быть либо кто-то из персонала – социальный работник, психолог или психиатр – либо кто-то из гостей. Так, Джонс стал устраивать лекции приглашенных специалистов, став у истоков еще одной традиции терапевтических сообществ, которая в середине 1960-х годов позволит Лэйнгу превратить свой Кингсли-холл в центр контркультуры.
Еженедельно пациенты вместе с медсестрой и двумя социальными работниками обсуждали функционирование и проблемы отделения, принимая участие в решении многих организационных вопросов. Несмотря на то что в отделении продвигалась идея активного участия пациентов в решении проблем, персонал все-таки имел собственные консилиумы, проходившие ежедневно в первой половине дня, где обсуждались как проблемы и результаты, озвученные на других встречах, так и групповые процессы отделения в целом. Персонал мог обмениваться мнениями и во время ланча, помогая друг другу в профессиональных вопросах, пациенты могли посещать сеансы семейной терапии, уроки танцев и проч.
Если инструментом групповой терапевтической работы были встречи сообщества, то трудовая адаптация продвигалась многочисленными, организованными при отделении мастерскими. Пациенты могли трудиться в них до и после обеда по паре часов: заниматься ручным трудом, рисовать, шить и проч. Джонс считал, что труд должен быть встроен в жизнь сообщества, а не проходить за его пределами, поскольку сообщество воспроизводит модель большого общества. Более того, труд был терапевтическим инструментом, способным изменить поведение пациента. «Сам труд имеет второстепенное значение. Наш основной интерес направлен на поведение пациентов в рабочей обстановке»[74], – признавался Джонс.
Контингент больных начал постепенно меняться: через некоторое время в Бельмонт стали попадать лица с многообразными личностными расстройствами, при этом не обязательно нетрудоспособные. И уже в последние годы своего функционирования Бельмонт стал принимать и больных психозами. Джонс начал интересоваться возможностями перенесения своих методов на психотиков.
Разумеется, в Бельмонте далеко не все шло гладко. Постоянно возникали конфликты со второй частью больницы, на базе которой было учреждено отделение. Она придерживалась более традиционных методов, и персонал был обеспокоен слишком распущенными соседями. С подачи сотрудников этой части больницы сообщество Джонса прозвали «Макс и его гангстеры». Местные жители также не были в восторге от такого соседства. Пиком конфликта стало вмешательство Англиканской церкви, которая была обеспокоена моральным духом общины. Несмотря на все эти мелкие и крупные неприятности, в целом работа была успешной, и сам Джонс впоследствии вспоминал: «Все это было началом того, что позже стали называть движением терапевтических сообществ»[75].
После некоторого периода работы во Всемирной организации здравоохранения Максвелл Джонс в своем деле практических терапевтических проектов двигается дальше. В 1962 г. он становится главным врачом психиатрической больницы Динглтона в шотландском Мелроузе, городке к югу от Эдинбурга, и этот опыт стал его первым опытом заведования больницей.
Больница Динглтона функционировала в традиционном ключе и имела достаточно жесткие устои: она была строго иерархизирована и использовала общепринятые методы лечения. Больница была рассчитана на 400 койко-мест. Штат насчитывал 90 сотрудников: пять психиатров, один социальный работник и 84 медсестры, но это была не совсем обычная больница. В 1949 г., когда ею руководил Джордж Белл, она стала одним из первых психиатрических стационаров, в котором была развита практика открытых дверей. Поэтому, несмотря на жесткие устои и строгую иерархию, больница имела опыт реформирования и была благодатным материалом для того, что в ее стенах собирался сделать Джонс.
Этот проект отличался от всех остальных его проектов. Если раньше он стремился организовать пациентов и усилить их активность, то теперь это предполагалось как само собой разумеющееся. По прошествии определенного времени больница Динглтона стала терапевтическим сообществом в классическом смысле этого слова: были преодолены ролевые стереотипы, пациенты участвовали в своем лечении и принимали активную роль в решении проблем своих товарищей, проводились многочисленные групповые встречи и семинары. Словом, в этом отношении Джонс повторил здесь все то, что уже профессионально делал. Поэтому в этом проекте акцент был сделан на институциональную структуру больницы, которая, по его мысли, должна была быть приспособлена к целям терапевтического сообщества. Позднее он вспоминал: «Я служил там с 1962 по 1969 г. и смог убедиться, что традиционная деспотичная психиатрическая больница может стать открытой системой, поддерживаемой сверху»[76].
Первым преобразованием на этом пути становится учреждение Руководящего комитета сотрудников – управляющего органа больницы. Комитет включал 12 человек – медсестер, врачей, социального работника и секретарей, и в его функции вменялось принятие всех важных решений, касающихся организации работы больницы. Джонс был убежден, что в терапевтическом сообществе все решения должны выноситься коллегиальным путем, и хотя это ставило в зависимость от мнения коллектива и его самого, он считал, что это единственно возможная модель управления терапевтическим сообществом. Параллельно были организованы встречи сестер, на которых функционирование больницы и организационные вопросы обсуждали медсестры. Так, Джонс обеспечил участие всего штата в процессе управления.
На основании этих нововведений Джонс хотел внедрить принцип множественного лидерства, поскольку считал, что децентрация идет на пользу сообществу. «Чтобы быть эффективным, – писал он, – терапевтическое сообщество нуждается в нескольких лидерах, которые хорошо обучены групповой работе и имеют педагогические склонности, а также могут заменить формального лидера, когда он отсутствует или же вовлечен в эмоциональное взаимодействие или конфликт с другим членом группы»[77].
В рамках этого проекта было достигнуто и еще несколько новшеств. В частности, была организована первая группа экс-пациентов, а также общежитие для восьми пациентов-мужчин, работавших за пределами больницы. Взаимодействию с обществом за пределами больницы в этом проекте Джонс уделял большее внимание, чем во всех остальных. С этой целью была собрана специальная команда персонала из психиатра, медсестры и социального работника, задачей которых была организация взаимодействия пациентов и больницы с обществом в целом.
Постепенно структура самой больницы претерпела еще большие изменения. Следуя принципу децентрации, Джонс разделил больницу на три региональных отделения, каждое из которых курировало определенную географическую область. Пациенты попадали в соответствующее населенному пункту отделение, и за каждым отделением был закреплен определенный персонал. Штат отделения преимущественно занимался своими пациентами, обязанности по гериартрическому, приемному отделению и отделению для пациентов с трудностями в обучении были разделены между персоналом трех отделений поровну.
Одновременно с новшествами в организационной структуре терапевтического сообщества Джонс начинает обращаться не только к практике, но и к теории, разрабатывая теоретический фундамент своих ранее исключительно практических идей. Основным понятием этой теории становится понятие социального научения. Социальное научение – это поступательный процесс взаимодействия между людьми в доверительной среде. В процессе социального научения большую роль играет координатор, помощник, который направляет человека или группу в их развитии, помогает преодолеть кризисные ситуации и иногда выступает в качестве зеркала в ходе терапевтического процесса. Роль помощника подобна роли акушерки, и здесь в понимании этой фигуры заметно влияние Сократа и его метода сократического диалога. Часто социальное научение проходит через процесс болезненной коммуникации, в которой человек или группа возвращается к более ранним стадиям и стремится преодолеть болезненные комплексы и конфликты, поэтому оно представляет собой трудный и неоднозначный путь, пройти через который гораздо легче в сопровождении опытного и знающего человека.
Несмотря на определенные теоретические достижения, в истории психиатрии Джонс остался как практик, и залогом его популярности стала удачно разработанная структура терапевтических сообществ. Во второй половине шестидесятых интерес к его работе начинают проявлять не только радикально настроенные психиатры, но и университеты.
Практически параллельно с деятельностью Джонса и независимо от нее развивается вторая ветвь движения терапевтических сообществ, которая получила название «эксперименты Нортфилда». «Легенда о Нортфилде, – пишет Том Харрисон в книге-летописи этой больницы, – сродни мифу о творении. Все, кто работает в групповой психотерапии, в терапевтических сообществах, арт-терапии, терапевтических социальных группах или любом другом близком пространстве, знают об этих истоках. В начале 1940-х годов военный госпиталь Нортфилда стал Олимпом психологии и психотерапии. Теперь мы дорожим этим легендарным прошлым и знаем, что мы – потомки богов»[78].
Оба эксперимента, «Нортфилд-1» и «Нортфилд-2», организуются по инициативе британского Министерства здравоохранения. Проект «Нортфилд-1» стартует в 1943 г. в Бирмингеме в военном госпитале Нортфилда под руководством Уилфреда Биона и при участии Джона Рикмена. Он задумывается как проект реабилитации фронтовиков, которым не помогали обычные методы.
В основе программы лежало переструктурирование пространства больницы. Госпиталь был разделен на две части: восточная часть с отделениями, названными именами британских королев и насчитывающими около 200 койко-мест, стала медицинским, лечебным крылом. Западная часть, насчитывающая около 600 койко-мест и с отделениями, названными именами королей, стала тренинговым крылом. Начальную реабилитацию солдаты проходили хотя и в смягченном, либеральном, но армейском режиме, с военной дисциплиной и военной охраной. Когда они шли на поправку, их переводили в тренинговое крыло, где распорядки уже были «гражданскими». Там за порядком следили социальные работники, задачей которых была адаптация солдат к жизни в обществе и окончательная минимизация их неврозов.
Бион как бывалый воин (он служил командиром танка в Первую мировую войну) решил применить здесь свой армейский опыт. Он считал, что необходимо изменить структуру ролевых отношений между солдатами и врачами, уподобив ее структуре отношений в армии в военное время: психиатр должен добиться включенности солдат, основанной на их интересе, чтобы лечение и реабилитация стали их общим делом. Он должен добиться не подчинения посредством силы, а взаимоуважения; он должен эмоционально сблизиться с ними и не бояться их реакций и эмоций.
С самого начала работа основывалась на идее групповой терапии как «управляемой попытки культивирования групповых сил, воплощающихся в успешной групповой деятельности»[79]. По мнению Биона, малая группа была наиболее полезна в плане терапии: она обеспечивала невротику признание, поддержку, и работа в такой группе вела в конечном счете к катарсису и излечению. Невроз каждого из солдат должен был стать общим врагом группы, против которого они должны были бороться сообща с психиатрами. Целью терапии стала подготовка «мужчин с чувством собственного достоинства, социально адаптированных в обществе и готовых взять на себя ответственность»[80]. Поэтому в ходе групповой работы необходимо было понять, как невротическое поведение и невроз каждого из солдат и всех их вместе влияли на их повседневную жизнь, на их поведение и общение, чем они мешали их счастью и продуктивной деятельности.
Жизнь солдат в больнице определялась следующими правилами: 1) ежедневно час должен быть посвящен групповой работе; 2) каждый должен войти как минимум в одну (или более) образовательную, ремесленную или управленческую группу; 3) любой человек мог сформировать вокруг себя новую группу, отвечающую его специфическим увлечениям и интересам; 4) тот, кто чувствовал, что не может посещать группу, должен был находиться в комнате отдыха, где в спокойной обстановке и при надлежащем сестринском уходе он мог расслабиться или провести время за настольными играми. Одним из первых новшеств стали групповые встречи: пациенты были разбиты по группам и встречались, чтобы обсуждать свои проблемы. Постепенно после первых успехов (именно благодаря им некоторые солдаты были успешно реабилитированы и отправлены обратно на фронт) было решено собираться не только отдельными группами, но и всем вместе. Встречи обычно длились около 30 минут и проходили после полудня.
Гарольд Бриджер выделяет следующие основные принципы проекта:
• цель каждой группы состоит в исследовании внутригрупповых отношений и возникающего в них напряжения, а также влияния невротического поведения, являющегося следствием невротического расстройства, на возникающие в группе проблемы;
• проработка всякой проблемы должна происходить только после того, как ее характер и масштабы станут понятны большей части группы;
• средство разрешения проблемы обязательно должно быть предложено и осмыслено группой;
• исследование проблем напряженных внутригрупповых отношений должно проходить без перерывов, в течение всех суток;
• предложенные и внедренные в жизнь стратегии совладания с проблемой нужно практиковать не только во внутригрупповых отношениях, но и в других сферах жизни и проч.[81]
Такая интенсивная групповая работа дала свои плоды и способствовала развитию самокритики у солдат. В скором времени солдаты стали замечать, что в отделении грязно, и была организована группа, которая следила за чистотой. Такая простая проблема способствовала развитию сплоченности и совместной деятельности. В скором времени у каждого из солдат появилось свое дело. Это отвлекало от проблем и возвращало их к повседневной жизни, способствовало развитию морального духа и отзывчивости.
В итоге грамотно организованной работы через несколько недель большинство пациентов были реабилитированы и вернулись на фронт, но ослабление больничных порядков привело к анархии и нарушению дисциплины. Слухи об этом дошли до Министерства обороны, была организована внезапная проверка, которая только подтвердила нарушения. В итоге через шесть недель проект был закрыт.
Второй проект, «Нортфилд-2», стартовал в 1944 г. в той же больнице Нортфилда, но возглавлялся уже Гарольдом Бриджером. Проект разрабатывали также Эммануэль Миллер и Альфред Торри, в его реализации принимали участие Том Мэйн и Зигмунд Фоукс.
По мысли Бриджера, сам проект должен был предполагать следующие шаги: 1) семинары персонала для уяснения мишеней социальной терапии и ее возможных результатов; 2) независимые профессиональные дискуссии с участием психиатров, медицинских сестер и др.; 3) встречи отделения с целью исследования результата «внешних воздействий» – от внутренних стрессов до широкого окружения; 4) акцент на супервизию при изменении паттерна отношений с пациентами с предписаний и распоряжений на инициативу с их стороны и ответственности за них; 5) развитие клуба госпиталя как пространства для раскрытия индивидуальности пациента и залатывания социальных брешей его жизненного пространства[82]. В ходе проекта стали явными следующие изменения акцентов: 1) от человека, избегающего лидерства, к группе; 2) от центрированности на человеке к центрированности на группе; 3) от разговоров к действиям; 4) от управления и директив к спонтанности; 5) от прошлого к ситуации настоящего и др.[83]
Одним из нововведений второго проекта становится образование так называемого клуба госпиталя – переоборудованной, освобожденной от кроватей палаты для встреч групп пациентов. Многие из солдат до мобилизации на фронт были людьми творческих профессий: художниками, музыкантами, актерами. В Нортфилде образовалось множество творческих групп: свой журнал, музыкальные ансамбли и театральные труппы. Кроме того, была учреждена газета госпиталя, имевшая собственную редакцию и отдельное для нее помещение, функционировали группы танцев, садоводства, плотницкий кружок и теннисный корт.
Пациенты помогали детским домам и поликлиникам: мастерили и делали игрушки, развлекали детей. В Нортфилде была полная свобода для активности и творчества, пациенты могли почувствовать себя востребованными, по договоренности с компаниями они могли работать и за пределами госпиталя: в гаражах, фермерских хозяйствах, различных конторах и фирмах. Налаживались связи с местными жителями – устраивались совместные катки и игры в гольф.
Постепенно, ближе к концу войны, армейская традиция уступает место демократическим порядкам набирающего обороты эксперимента. Уже после 1944 г. больница стала двигаться по пути терапевтического сообщества в полном смысле этого слова. Представители от каждой палаты принимали участие в собраниях персонала, и некоторые из них вошли в состав управляющих органов больницы. Таким образом, активность пациентов поощрялась и в организационных вопросах. Два крыла больницы объединили, и военное командование дало разрешение на преобразование больницы в самоуправляемое сообщество.
Эти два течения – проекты Максвелла Джонса и эксперименты Нортфилда – заложили основания теории и практики коммунарного движения в «большой» психиатрии. В теоретическом отношении появление терапевтических сообществ было закономерным развитием английской психологии и психоанализа. Как подчеркивает Гарольд Бриджер, «Винникот говорил, что в развитии ребенка важную роль имеет преобразующее и помогающее окружение. Нортфилд показал, что помогающая среда может привести к неожиданному преобразованию и у взрослых»[84].
Современные терапевтические сообщества продолжают эту традицию. При этом необходимо отметить, что, в то время как движение терапевтических сообществ выступило системообразующим для практики антипсихиатрии, сама антипсихиатрия для его последующего развития имела не такое большое значение. В этом отношении ее практические эксперименты были вполне традиционны.
В настоящий момент движение терапевтических сообществ интенсивно развивается: действуют всемирная и европейская федерации терапевтических сообществ, издается международный журнал «Terapeutic Communities», проводится международная конференция, и в ноябре 2012 г. была проведена уже 25-я ежегодная встреча. Практика терапевтических сообществ широко распространена и в Америке.
Американская традиция имеет, правда, несколько иные истоки: Оксфордская группа, Анонимные алкоголики и «Синанон»[85], основанные на групповой реабилитации людей с алкогольной зависимостью. Общими для всех трех проектов были те характеристики, которые потом стали основными для всех терапевтических сообществ: активная позиция самого человека, понимание выздоровления как результата терапевтических отношений с другими, вера и установка на изменение и самосовершествование, групповая работа[86]. Зависимость, как и любое бедствие, рассматривалась не как изолированное личностное расстройство, индивидуальная проблема, а считалась комплексной проблемой, в которую втянуты другие люди и окружающая человека среда. Поэтому эта комплексная проблема требовала комплексной социально ориентированной работы. Более того, зависимость рассматривалась не как патология, расстройство, которое нужно лечить (а по сути, удалить), а как проблема, от которой невозможно избавиться просто так, работа с которой требует перестройки ценностной системы, отношений, жизни человека. Все эти установки заложили основания для развития метода терапевтических сообществ.
Все многообразное движение терапевтических сообществ, как говорил Максвелл Джонс, отражает ситуацию современности: «Их жизнеспособность как модели изменений, их позитивное влияние на здоровье вовлеченных в них людей, их ответ на злоупотребления властью посредством делегирования ответственности и полномочий тому уровню системы, которым необходимо управлять, их концептуальный фундамент множественного лидерства, социального научения, развития и творческого потенциала отражает один из подходов к культурной дилемме нашего времени. Общие принципы, выработанные в больнице как микромире общества, если они, как они того требуют, будут адаптированы к культурным и социальным условиям, могут быть применены ко всем уровням нашего общества»[87].
Антипсихиатрия заимствует эту практику не только в ее терапевтическом смысле, но и как практику перестройки микрообщества, как революционную подрывную практику реальной борьбы на микроуровне. Если для традиции терапевтических сообществ – это пространство, «организованное как сообщество, в котором, как ожидается, каждый способствует общей для всех цели создания социальной организации с лечебными свойствами»[88], то для антипсихиатрии такая организация приобретает и политический смысл, где каждый способствует перестройке не только пространства своего сознания и своей жизни, но и пространства общества и его идеологии.
4. История антипсихиатрического движения: регионы и смыслы
Само движение антипсихиатрии развивалось преимущественно в трех странах: Великобритании, США и Италии. Именно в них были осуществлены первые антипсихиатрические эксперименты и достигнуты самые масштабные результаты деинституализации, именно они стали прообразами и образцами антипсихиатрических теорий и реформ по всему миру.
Разумеется, невозможно свести все под одну гребенку и писать о единых истоках по одной простой причине: исходная ситуация в системе здравоохранения, в системе психиатрической помощи имела свою специфику, а иногда была и совершенно различной. Америка была не похожа на Великобританию, и ни на ту, ни на другую была совершенно не похожа Италия.
Некоторые общие черты, в особенности для англо-американского мира, выделить все-таки можно. Майкл Доннелли в своей работе «Политика психического здоровья в Италии» называет две тенденции психиатрической системы послевоенного времени: 1) расширение психиатрического пространства за счет расширения охватываемых расстройств, разнообразия услуг и числа клиентов; 2) реорганизация работы психиатрической больницы – появление психиатрических амбулаторий, дневных стационаров, психиатрических отделений в больницах общесоматического профиля[89].