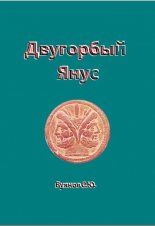Война все спишет. Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941-1945 Рабичев Леонид

Комиссар вспоминает о высоте в трех километрах от города, где у немцев была более выгодная позиция, но у нас не было выхода, и мы трижды пытались взять ее штурмом. Выясняется, что капитан-артиллерист тоже участвовал в штурме, потерял двух лучших своих друзей, а после того, как высота стала наша, своими руками хоронил их, и столбики поставил, и на дощечках написал, кем они были.
Утверждал он, что только благодаря поддержке его батареи немецкая часть отступила. Однако я и Маша слушаем, что рассказывает Иоселиани.
Рассказывает он, как его, бывшего чемпиона СССР по бегу, в 1939 году пригласил погостить на две недели Сталин и как две недели прожил он на даче вождя народов, как в декабре 1941 года Иосиф Виссарионович вызвал его из Тбилиси вторично и назначил командиром десанта, как его с пятьюстами автоматчиками ночью сбросили в окрестностях Борисова для поддержки и организации партизанского движения в Белоруссии, как, однако, никакого движения, никаких партизан они не нашли, а население встретило их враждебно. Мужики в 1942 году ждали от немцев закона о роспуске колхозов и раздаче земли в частную собственность.
Иоселиани с автоматчиками пытаются укрыться в лесах, но предатели и доносчики со всех сторон. Десант почти полностью уничтожен, а сам он ранен, и спасают его врачи городского госпиталя. Там они лечат раненых немецких офицеров, но в потайной комнате – и его, и несколько его автоматчиков.
Я потрясен.
В 1942 году я попадаю в действующую армию на Центральный фронт. Ранней весной 1943 года перехожу линию обороны.
На десятки километров все деревни и села сожжены, только печные трубы торчат, а все поля и дороги между ними заминированы. На Центральном фронте в Калининской области немцы сожгли прифронтовые деревни за их связь с партизанами, однако оказывается, что партизанское движение в Белоруссии возникло только в середине 1943 года, после массовых, проведенных в деревнях реквизиций, после того, как женщин и детей начали угонять на принудительные сельскохозяйственные работы в Германию.
Только тогда население городов и сел Белоруссии вспомнило о патриотизме.
Я слушаю этот трагический, неожиданный для меня рассказ, а награжденная двумя орденами Славы Маша мне на ухо говорит:
– Помоги мне, меня поместили в общий гостиничный номер, и я в панике. Я не хочу, чтобы все знали, что у меня нет двух ног, не люблю снимать протезы, когда на меня смотрят.
– Маша! Что ты сочиняешь? Я же сразу обратил внимание на тебя. Гордая женщина с решительной походкой, ты шутишь?
А Маша чуть приподнимает юбку, берет меня за руки и силой прижимает к своей ноге ниже колена и выше колена. Одна нога и другая нога – деревяшки и металлоконструкции.
– Господи! – говорю. – Ты же герой и зачем и что скрывать. – И говорю полковнику и капитану, и мы все к администратору, и вопрос с комнатой решается мгновенно.
Мы много ходим эти четыре дня, ходим по городу, на заводы, вокруг памятников, и Маша не показывает виду, что устала, улыбается, шутит. Вот и померк в моих глазах подвиг Маресьева.
Часов в десять вечера приезжает сотрудник горкома. В наше распоряжение на сутки предоставляется машина ГАЗ-69, чтобы мы могли посмотреть на места боев 1944 года – те овраги, высоты, поляны и болота, где в результате боев была прорвана немецкая оборона…
– Вот здесь был штаб дивизии, – неуверенно говорит полковник, – блиндажи и окопы, а метров пятьсот левее хоронили мы своих однополчан, а где-то здесь мы проползли по дну оврага и выбивали немцев из блиндажей.
Но ни тех блиндажей и окопов, ни той высоты, ни того оврага мы не находим, ничего мы найти не можем. За тридцать лет изменились не только границы селений, но и границы лесов, полян, полей, болот и березовых рощ, и каждая из дорог заводит нас не туда, и воспоминания никак не согласуются с тем, что проносится у нас перед глазами. Все узнают только разрушенный мост через Березину, который в 1944 году при отступлении взорвали немцы.
- О Березина, земли граница,
- Мост на дне, а новый не готов,
- Танков и повозок вереница,
- «Юнкерсов» пикирующих рев.
- Мост на дне, воронки у причала,
- Два десятка взорванных машин.
- Кто за кем и чей черед сначала —
- Не разнять майоров и старшин.
- Время, словно пробка, сердце бьется,
- Люди тонут, глохнут, говорят,
- А в кювете, несмотря, что топко,
- Кое-где уже костры горят,
- Смех и страх, а под ногами глина,
- Горький дым и сладкая конина.
Старого моста нет.
Минское шоссе поворачивает и подходит к новому.
Но я о старом, взорванном, над которым в воздухе кружились «Мессершмитты», за которым на воде саперы пытались соорудить понтонный мост и перед которым на шоссе образовалась трехкилометровая пробка: танки, самоходки, тяжелая артиллерия, моторизированная пехота, «Доджи», «Студебеккеры», «катюши».
Одного взгляда было тогда достаточно – нам на него не попасть.
Я прекрасно помню, как мы правее взорванного моста, вместе с десятками и сотнями немеханизированных подразделений, переправлялись через Березину вброд.
Смотрю направо – какие-то корпуса дореволюционного завода, вдоль берега – покрытая вековым слоем ржавчины колючая проволока. Значит, это было подальше.
Усталые и разочарованные подъезжаем к гостинице. А там нас уже ждут представители городского начальства.
В восемь часов вечера в честь нас будет устроен в городском клубе «Голубой огонек».
«Голубой огонек». А была ли переправа?
В том, 1974 году по радио с утра до вечера, впервые после окончания войны, гремели слова новой песни: «Фронтовики, наденьте ордена!» – и все мы надели не на мундиры уже, а на пиджаки свои ордена и медали.
«Голубые огоньки», видимо, были тогда голубой мечтой каждого студенческого или заводского клуба выходного дня, каждого республиканского, городского, районного центра. Имитировали они праздничные «Голубые огоньки» московского телевидения.
Но в городе Борисове ко дню освобождения готовились не формально. К московским ветеранам присоединили ветеранов борисовских.
В свадебные, из белого шелка, платья одели двадцать самых красивых девушек города. Все городские оркестры свели в один. Действие происходило в огромном клубном зале, вдоль стен которого были расставлены столики с закусками и винами, каждый столик на четырех человек, за каждый усадили по два ветерана и по две девушки.
Сводный оркестр подготовил к празднику репертуар из фокстротов, танго и вальсов времен до и после войны. И началось действо.
Последовательно к каждому из столиков подносился микрофон, и молодой красивый конферансье предоставлял слово каждому из ветеранов, и каждый рассказывал, что запомнилось ему. Но не актеры они были, не литераторы. Было несколько интересных выступлений, а больше говорили газетным языком и о роли генералиссимуса. Каждое выступление заканчивалось тостом, ветераны чокались с девушками, а девушки – поклон, реверанс, и приглашали каждого на очередной танец: «Риориту», «Дядю Ваню», «Бабочки под дождем». Я же сидел, ждал своей очереди и очень волновался, я решил рассказать борисовцам о неописуемой переправе вброд через Березину тысяч голых артиллеристов, минометчиков, пехотинцев и связистов…
Остановился и не могу писать дальше. Видимо, начинать надо было с чего-то другого.
С весны 1943 года? С весны и лета 1944 года? С деревни Старая Тухиня?
В конце апреля просохли глинистые, прежде почти непроходимые грунтовые дороги. Структура же армейских подразделений резко изменилась в результате поставок по ленд-лизу. Пытаюсь вспомнить, как это было, и, возможно, в чем-то ошибаюсь.
25 июня 1944 года на шести повозках остановились мы на Минском шоссе перед трехкилометровой пробкой, о которой я уже писал, состоявшей из тяжелой артиллерии, танков, «Студебеккеров», самоходок, штабных полуторок. Над пробкой кружилось несколько «Мессершмиттов» и «Юнкерсов».
Мост через Березину был взорван, а понтонный по мере возведения разрушался пикирующими немецкими самолетами, между тем в полутора километрах от реки, справа от шоссе, на столбе перед уходящей в поля грунтовой дорогой, увидели мы указатель: «Брод через Березину».
Помню, как мы обрадовались, съехали на обочину шоссе, выехали на грунтовую дорогу вслед за минометчиками, остановились, отдышались. Дело в том, что над шоссе на всем его протяжении стояло густое облако пыли. Жара, пыль, грохот, ругань экипажей застрявших машин, перемешанная с густым командным матом, потерявших контроль над своими подразделениями майоров и полковников – все осталось позади. «Мессершмитты» – позади, «Юнкерсы» – позади, впереди холм, а за холмом спуск, пологий берег реки, но что за картина?
Верещагин – «Шипка» или другая – с черепами?
Но здесь что-то другое – никем никогда не виданное и ни в какие рамки разума не укладывающееся.
Тысячи голых черных мужчин и женщин вперемешку с черными сопротивляющимися лошадьми, с черными минометами, автоматами, пушками, повозками от берега к берегу, несущие на руках телеги с грузами, плывущее в воздухе обмундирование. Черные потому, что черная грязь, водоросли, глина и тина превратили воду в жижу, подобную сметане. Крики, свист, ржание и голые, похожие на зверей, орангутангов. Ругающиеся, скользящие, что-то теряющие, ныряющие, а наверху, на противоположном берегу, катающиеся по траве – не на грязь же надевать свои кальсоны, юбки и гимнастерки.
И еще было у меня впечатление, что это черти в адском котле или вакханалия, впрочем, кто черти, кто грешники и кто праведники, разобраться было нельзя.
А фыркающие лошади напоминали мне драконов.
Помню, как сбросили мы с себя всю одежду, как мы распрягали лошадей и переводили их одну за другой на противоположный берег, как, голые, на руках переносили разгруженные телеги, радиостанции, катушки кабеля, автоматы, ящики с гранатами и патронами, телефонные аппараты, ноги скользили, задыхаясь, оступались, захлебывались попадающей в рот, нос и уши черной грязью и никак не могли откашляться.
Туда – обратно, туда – обратно.
Как и где отмывал я с себя грязь, не помню.
Помню, как я уже на берегу, мои люди одеты, шесть телег с катушками кабеля, телефонными аппаратами, рациями, гранатами, патронами, автоматами.
Мы подъезжаем к городу, и на дороге счастливые мужики, женщины, бабки, и у всех в руках бутылки с вином, стаканы и куски сала, и никак невозможно отказаться от угощения. Целуемся, пьем и постепенно пьянеем.
Откуда итальянские вина и немецкие сигареты? Ими нас заваливают. Это население набрасывается на пакгаузы, расположенные вдоль железнодорожных путей. А у нас фураж на исходе, овса и сена нет, нечем лошадей кормить.
Приказываю освободить одну телегу, завожу взвод во двор, вернее, в сад одного из двухэтажных домов на Петровской улице. На пустой телеге я, ординарец Гришечкин и два моих сержанта.
Пакгауз. Четыре мешка овса, сено, но голова слегка кружится, и я посылаю сержанта узнать, как доехать до Петровской улицы. Сержант заходит в дом, потом в другой, потом исчезает. Ждать не могу, ехать куда, не знаю, посылаю другого сержанта, заходит в дом, в другой. Ждем. Подбегает старик с бутылкой вина и стаканом, отказаться невозможно. В доме напротив кричит женщина. Я спрыгиваю с телеги, добираюсь до дома, вижу незнакомого солдата, срывающего с женщины юбку, вытаскиваю из кобуры наган. Солдат замечает меня, отпускает женщину и со злобой покидает дом. А меня совсем разобрало. Чтобы устоять, держусь за стенку, за забор, выхожу на улицу.
Телега моя с лошадью есть, а Гришечкина нет. С трудом взбираюсь на мешки с овсом и все более и более пьянею.
Сержантов нет, Гришечкина нет, куда ехать, не знаю, и внезапно такая обида охватывает меня, что я начинаю рыдать. Я пьяный, меня бросили мои солдаты. Первый и последний раз на войне я плачу. Что было со мной дальше, не помню.
Кто-то трясет меня за плечо. Просыпаюсь. Командир роты капитан Рожицкий смотрит на меня с презрением. А я смотрю вокруг. Я на дворе, в саду, на Петровской улице, вокруг мои солдаты. Ничего не понимаю. Но и Рожицкий ничего не понимает.
Я, командир взвода, выпил и заснул, окруженный своими солдатами. Вина не большая. Он и сам не удержался от угощений.
Но как я попал к своим? Кто меня нашел в безумном хаосе освобожденного города?
Рожицкий уезжает, спрашиваю у Пеганова.
– Лейтенант, – говорит он, – у тебя хорошая лошадь, это она сама тебя привезла.
– А где Гришечкин?
– Гришечкина нет.
Конферансье просит меня рассказать что-либо аудитории. Я рассказываю:
– Не доезжая полтора километра… Пробка… «Мессершмитты»… Указатель на брод. Тысячи голых, черных, напоминающих чертей людей, напоминающих драконов лошадей, минометы, пушечки, плывущие по воздуху телеги, катающиеся по траве голые солдаты… И вдруг из зала вопрос:
– О чем вы нам рассказываете? Нет у нас никакого брода!
– Как нет, – говорю я, – полтора километра, не доезжая…
Весь зал хором:
– Нет такого брода! – и задыхаются от смеха.
– Полтора километра…
Девушка обнимает меня, и мы танцуем довоенное танго «Бабочки под дождем».
Я ей говорю:
– Валя! Все, что я рассказывал, – правда!
А она:
– Леонид Николаевич! Ничего страшного, немного перепили, – целует меня и подводит к моему месту за столом, и уже другой ветеран что-то говорит о Великом Генералиссимусе, а про меня забыли. Полная чепуха.
На следующий день я встал в шесть часов утра, подошел к мосту, прошел километра три по шоссе, по сельской дороге попытался спуститься к реке, но сделать это оказалось невозможно: вдоль реки на несколько километров протянулись кирпичные стены довоенных заводских цехов. Никакого брода действительно не было. Но ведь не сошел же я с ума?
И брод был, и черные лошади-драконы. Неужели это была другая река, другой город? Не приснилось же мне все это?
Вспоминаю.
Дома в Москве в ящике письменного стола лежит подшивка писем, которые в годы войны посылал я своим родителям, письма 1942–1944 годов. В одном из них я описывал эту переправу.
Цело ли оно?
Я в Москве.
Включаюсь в работу, но мысль о несуществующем броде не дает мне покоя. И вот, наконец, я добираюсь до этой подшивки, нахожу то свое письмо, и все становится ясно. Время сыграло со мной злую шутку. Указатель был, но не в полутора километрах от взорванного моста, а в восьми километрах. Был большой объезд, и переправа происходила не на окраине города, а вероятно, километрах в десяти от него. Подъехали мы к мосту вечером, всю ночь ехали сначала по Минскому шоссе, потом по проселочным дорогам, к переправе подъехали утром следующего дня, а до города ехали еще часа три.
А как попал в город на «Виллисе» Рожицкий? Вероятно, со всей техникой, по восстановленному за ночь понтонному мосту. Да, переправа была, да, ничего я не придумал.
Глава 9
Снова в Москве
Лирическое отступление
Память уводит меня назад. Юридический институт, Осип Максимович Брик, Лиля Брик, Катанян, Вертинский, Револь Бунин.
Летом 1940 года я подал документы на редакционный факультет Института повышения квалификации редакционно-издательских работников и одновременно сдал экзамены и был принят в Московский юридический институт.
И вот десять дней подряд я утром бежал в юридический институт, а оттуда мчался в полиграфический, и душа моя разрывалась на части, потому что в юридическом я познакомился с девочкой. После первого экзамена она просила меня посмотреть, как сидит на ней новое платье, я стеснялся, а она затащила меня в примерочную ателье, в кабинку, где переодевалась, расстегнула лифчик, просила меня застегнуть его.
Я расстегивал и застегивал пуговицы на ее новом платье, потом она пригласила меня к себе домой, но там кто-то был, с кем-то она меня знакомила. Мне очень хотелось учиться на редакционном факультете, но я никак не мог с ней расстаться, а на десятый день на стене раздевалки юридического института я увидел объявление о записи в литературный кружок, руководителем которого был Осип Максимович Брик.
Брики
На первом занятии прочитал свои летние стихи студент четвертого курса Борис Слуцкий, потом читали свои стихи Борис Цын, Игорь Лашков, потом очередь дошла до меня. Волнуясь и почти шепотом, я прочитал три своих последних заумных стихотворения. Вот фрагменты одного из них:
- …Были – были.
- Видите ли, вылетели,
- Лишь спросили:
- – Водители вы ли те ли?..
В общем – белиберда.
Но Осип Максимович оживился, что-то ему там понравилось, пригласил меня в гости.
И вот я вечером у Бриков в их квартире в Старопесковском переулке. Там Борис Слуцкий, Семен Кирсанов, незнакомые мне молодые поэты.
Осип Максимович представляет меня Лиле Юрьевне и Катаняну, и я по его просьбе снова, волнуясь, читаю свои «Были – были…». Какие-то слова говорил Осип Максимович, какие-то междометия – Лиля Юрьевна. Потом долго и восторженно все говорили о Володе. Я думал, что это о ком-то из присутствующих, но речь шла о Володе Маяковском.
На бюро или буфете стояла белая гипсовая голова Володи. Кто-то объяснил мне, что это Лиля его вылепила. Я любил гениального поэта, но смущала меня какая-то ритуальность в виде придыханий и закатывания глаз. Люди, окружавшие меня, были причастны к нему, я гордился тем, что оказался среди них, и в то же время чувствовал себя лишним.
Мне странно также было, что никто не осудил плохие мои стихи. Осип Максимович, которого я уже боготворил не меньше, чем Володю, сказал что-то сложное. Лиля Юрьевна кивнула и сказала что-то вроде: «Ах! Да!» Катанян сказал просто: «Да». Одним словом, я как бы был признан всеми своим.
Вечер кончился, и моя судьба определилась.
Девочка, имени которой я не помню, плюс стихи на кружке, плюс квартира Бриков разрешили мои сомнения. Я забрал свои документы в отделе кадров РИФа и перенес их в отдел кадров юридического института.
Юридический институт для меня был чем-то вроде временной передышки. На лекциях я болтал, знакомился то с одной, то с другой девчонкой. С трудом, с третьего захода, сдал экзамен по судоустройству. Подружился с Шурочкой Цеткин, она была года на два старше меня.
Вместе мы по вечерам ходили в Историческую библиотеку. Она читала «Форсайтов» Голсуорси, а я за себя и за нее выполнял домашние задания – сочинения на одну из тем по теории и истории государства и права. Пригодился опыт докладов в кружке античной истории Московского дома пионеров. Возникли друзья. Юра Эрлих, из немцев Поволжья, дядя его был миллионером в Аргентине, и он мечтал уехать из России. Игорь Лашков, Борис Цын, Дориан Белкинд. А вот та девочка первая.
– Что же ты не здороваешься со мной, Леня! – сказала она как-то в Быкове, на Октябрьской улице.
– А кто ты? – удивился я и, как ни всматривался, не мог узнать, а она смеялась и разыгрывала меня. – Покажи свою карточку тех лет, – просил я, а она так и не показала.
Еще я познакомился с мальчиком, который хотел свести меня с группой студентов, по вечерам читавших сочинения Фридриха Ницше. Он не знал, что всех их по анонимному доносу еще за неделю до этого арестовали. Исчез самодеятельный кружок, и на комсомольском собрании единогласно осудили «врагов народа».
И моя рука была там.
Всей группой мы неоднократно ходили на слушания уголовных дел в республиканский суд на улице Воровского. Нас пускали на закрытые заседания по сложным уголовным делам, в том числе и на заседания, связанные с преступлениями сексуальных маньяков. Защищали преступников знаменитые адвокаты.
Зимой 1940 года по приглашению Осипа Максимовича я несколько раз бывал у Бриков на чтении стихов. Кроме того, кружок наш в полном составе выступал в совместном общежитии студентов МГУ и юридического института в тупике за Елисеевским магазином.
Мы покупали несколько бутылок водки и какую-то элементарную закуску. Сначала читали стихи, а потом пили и танцевали до утра.
Юридический институт, с его жесткой и догматичной системой преподавания, с будущей судебной карьерой, мне все более и более не нравился, это было не мое призвание. Я не умел врать, не умел быть гибким и совсем не владел даром красноречия. Мне было семнадцать лет, я влюблялся в девочек, трепался с ними на лекциях. Перед экзаменами, просидев над учебниками двое-трое суток, кое-как их сдавал.
Настоящими моими друзьями оставались занимавшийся в консерватории Револь Бунин, поступившие на исторический факультет МГУ Виталий Рубин и Лена Огородникова, студентка второго курса ИФЛИ Лена Зонина. Воля Бунин увлекался полифонистами, теперь самым великим композитором считал он Стравинского. С Виталием и двумя Ленами я ходил то в музей западной живописи, то на лекции по истории искусства в коммунистическую аудиторию МГУ, то на концерты в Большой зал консерватории. В этот год я очень сблизился с Димой Бомасом, мы вместе гуляли по Москве и читали друг другу свои новые стихи. Кое-как сдав экзамены, я перешел на второй курс.
В конце мая 1941 года мы переехали в Быково.
Всей быковской компанией вечерами ходили по просекам, пели песни, играли в волейбол. Все были влюблены в девочку Тамару и по очереди целовались с ней. Память изменяет мне. Прошло шестьдесят пять лет. Прочитал книгу Аркадия Ваксберга о Лиле Брик. Прочитал о семействе Бриков много всякого. И о конформизме, и о гэбистах. Но Лиля Брик? Живая поэзия! Но Осип Максимович? Как много людей до конца жизни его любили, как волновало меня то, что он говорил о стихах, как забывал он обо всем и, как ребенок, радовался любой удачной строчке или метафоре, умный, живой, добрый человек.
Однажды он сказал мне, что я поэт, и я поверил ему.
22 июня началась война.
В сентябре занятий почти не было. Институт взял шефство над Московским речным портом. Студенты переносили грузы с прибывающих барж. Кружок наш получил задание выпускать по несколько раз в день боевые листки и сочинять плакаты вроде «Окон Роста».
Я придумывал к плакатам стихотворные тексты. Не могу вспомнить ни одного из них, но юристам моим они нравились.
16 октября 1941 года институт эвакуировался в Алма-Ату, а я с родителями эвакуировался в Уфу, подал заявление в военкомат, что хочу быть летчиком. Романтическая идея возникла в связи с тем, что мой брат Виктор учился в бронетанковом училище.
– Будем бить врага – ты на земле, а я с воздуха!
В военкомате меня минут пятнадцать крутили в кресле на шарнирах. Видимо, что-то у меня с вестибулярным аппаратом не подошло, и 20 ноября 1941 года меня направили в бывшее Ленинградское училище связи, которое после эвакуации располагалось в ста двадцати километрах от Уфы, в городе Бирске. Там мне было не до стихов, учился я год, и об этом я уже написал. Мне присвоили звание лейтенанта. В конце ноября 1942 года я прибыл в штаб 31-й армии, расположенный близ города Зубцова, Калининской области, в деревне Чунегово, где поблизости не то река Вазуза в Волгу впадала, не то Волга в Вазузу. В конце весны написал пять стихотворений и послал их Осипу Максимовичу. Неожиданно для меня ответила мне Лиля Юрьевна. Писала, что стихи и Осипу Максимовичу, и ей, и Катаняну понравились и чтобы я присылал им все, что напишется, но еще не писалось.
Вместо стихов я послал Брикам подробное письмо о том, как проходило весеннее наступление, какие-то общие слова о фашистах и конкретные о бойцах моего взвода. Для пометок на топографических картах о расположении линии обороны и дислокации моих постов мне выдали трофейный красно-синий карандаш.
Этим карандашом я нарисовал портрет одной из штабных телефонисток. Мне очень понравился мой рисунок, я решил подарить его Лиле и вложил в конверт.
Недели через три я получил второе письмо от Лили Брик. Она писала, как мое письмо Осип Максимович читал вслух, чтобы я еще писал письма и посылал стихи, но чтобы я ни в коем случае никогда никого больше не рисовал, потому что к рисованию у меня никаких способностей нет, рисунок ужасный, и Осип Максимович, и Катанян, и она уничтожили его, чтобы не позорить меня.
Между тем началось новое наступление.
Был освобожден город Смоленск. Но в конце лета, потеряв множество людей и израсходовав боеприпасы, 3-й Белорусский фронт на девять месяцев перешел в оборону. Я внес два рационализаторских предложения, благодаря которым моя рота вышла на первое место по фронту, и мне лично от командования фронта была объявлена благодарность.
8 февраля командование части предоставило мне третий отпуск в Москву на одиннадцать суток. Провожали меня торжественно, командир части приказал выдать мне две бутылки водки, а интендант наш Щербаков насыпал мешок картошки и сухой паек удвоенный, и еще офицерский дополнительный паек, и в рюкзак еще насыпал картошки. Это был февраль, мороз градусов 10–15.
Одет я был довольно тепло: белая пушистая ушанка, белый меховой офицерский полушубок, но на ногах кирзовые сапоги, хотя и с портянками. Ноги замерзали.
Из части до контрольно-пропускного пункта на Минском шоссе меня подбросили на ротной машине. Проблем никаких не было.
По шоссе в направлении Москвы шло много порожних грузовиков.
Минут десять – и машина остановилась, и сержант-водитель помог мне забросить мешок. Я залез в кузов и, спасаясь от встречного ветра, лег на дно. Самому мне было тепло, а вот ноги стали стремительно замерзать, и я понял, что больше часа не вытерплю.
Машина шла на предельной скорости, мы подъезжали к повороту на Смоленск, я увидел тот самый указатель и тот самый свой дом, и сердце у меня забилось.
Маша!
Та, что пять месяцев назад плакала и целовала меня и упорно преследовала меня взыскующим взглядом, которую я глупо и бессмысленно потерял.
Я постучал по кабинке. Сержант остановился.
И вот дверь, и открывает Маша, и бросается ко мне, и целует меня, и я ее целую. Мир переворачивается, но открывается вторая дверь. В доме какая-то наша воинская часть.
И старая история повторяется.
Сижу на скамейке, отогреваюсь, смотрю на Машу. Она сидит рядом и улыбается, ноги отошли, выпил стакан кипятка и с ужасом понимаю, что время мое истекло. Маша провожает меня.
Голосуем. Останавливается полуторка, в кузове шесть солдат-казахов, я седьмой. Мороз усиливается. Скоро ноги опять начинают замерзать.
А казахи ведут себя странно: стали на четвереньки, уткнулись голова к голове и заунывно воют.
Но водитель и сам замерз, и километров через сто останавливает машину напротив большого дома рядом с КП. Заходим, греемся, пьем кипяток, и снова – ветер и холод. Так, с несколькими остановками и пересадками, добираемся наконец до Москвы. Это уже утро.
У въезда в Москву девчонки с автоматами проверяют наши документы. Казахи вылезают. Я договариваюсь с водителем.
За два килограмма картошки он завозит меня во двор моего дома на Покровском бульваре и помогает втащить мешок в лифт.
Кнопка 4, квартира 87, одни сутки – и я попадаю из войны в детство. Мама открывает дверь, не верит своим глазам. Я раздеваюсь, а мама, как завороженная, смотрит на мешок картошки.
В квартире холодно, паровое отопление выключено, на кухне ледник, а в комнате с балконом тепло, градусов двенадцать, там буржуйка и труба наружу. Папе в наркомате выдают дрова.
Вынимаю банки с тушенкой.
Мама варит обед, а я звоню Осипу Максимовичу Брику. Он и Лиля Юрьевна приглашают меня. И вот я на Старопесковском.
Квартира Бриков не изменилась, только, как и везде в Москве, холодновато. Я ставлю на стол бутылку водки – это жуткий дефицит и окно в довоенный мир – банку американской свиной тушенки, угощаю литераторов фронтовыми ржаными сухарями.
В семь утра поехал в военкомат отмечать отпускное предписание, и комиссар, едва ознакомившись с его текстом: «За проявленные мужество и отвагу…» – поставил печатку: «Отпуск аннулирован», в течение сорока восьми часов прибыть в свою часть. Потрясенный, спрашиваю: почему? Капитан сочувствует мне и показывает приказ начальника Московского гарнизона.
Я едва успеваю вернуться домой. Звоню Брикам. У них занято. Прощаюсь с родителями, бегу на Белорусский вокзал. Через час отправляется поезд на Вязьму, дальше еду на попутной машине, вижу указатель на Смоленск, но не останавливаюсь и проезжаю мимо Маши.
Однако вскоре мне суждено было еще раз посетить Москву. Эта история была связана с нашим военфельдшером Тамарой.
У Тамары был не на жизнь, а на смерть роман с одним из моих начальников, подполковником Степанцовым. О романе этом ходили легенды. Степанцов под Оршей приказал для себя и Тамары построить огромный блиндаж.
Голый, бегал он по своему блиндажу, ожидая прихода Тамары, срывал с нее одежды, и какие игры устраивали они там, знали все в армии. В блиндаже, чуть выше уровня земли, было устроено несколько окошек из битого стекла, и днем и ночью обычно кто-нибудь из солдат и офицеров подползал по-пластунски к одному из окошек и смотрел это кино. Почему-то ни Степанцов, ни Тамара ничего против этого не имели. Потом, кажется, Тамара забеременела и уехала в Москву. А Степанцов стал тосковать и много пить. И вот в апреле 1944 года вызывает он меня, наливает кружку водки, расспрашивает, как я проводил время в Москве. Я рассказал, как через два дня комиссар города выдворил меня из города. А он:
– А не поедешь ли ты, пока оборона, еще раз в Москву? – Вызывает начальника штаба, и приказывает: – Пиши командировку на семь дней.
Я балдею от водки и неожиданности, а он говорит:
– Привезешь мне Тамару, документов у нее не будет, но есть форма, а ты постарайся. Буду встречать тебя на вокзале в Вязьме. Главное, довези до Вязьмы. – И наливает мне вторую кружку водки.
Я выпиваю ее до дна и еле добираюсь до роты. А в шесть утра меня будит его ординарец, вручает рюкзак со всякими штабными жирами и консервами и несколько бутылок водки – половину для Тамары, половину для меня, – вручает командировочное удостоверение и полупьяного, полусонного втискивает в кабину «Виллиса».
– Степанцов приказал довести тебя, лейтенант, до КП перед поворотом на Смоленск, а дальше сам доберешься.
И вот я опять возле указателя, а напротив дом Маши, и опять Маша бросается мне на шею, а в доме полно военных – солдаты из КП обосновались. И хочется остаться, и времени мало, и пью молоко, а у Маши слезы на глазах и у меня тоже, но делать нечего, Маша провожает меня до КП.
Через двенадцать часов я в Москве.
Со своих работ прибегают мама и папа, нахожу Тамару. Она уже студентка института, ей надо оформить отпуск. В моем распоряжении четыре дня. Вызываю по телефону Волю Бунина. Встречаюсь с Эрной Ларионовой, Таечкой Смирновой, вечером звоню Брикам. И снова с бутылкой водки перед белым Володей с Осипом Максимовичем, Лилей и Катаняном пьем за победу. Читаю стихи, слушаю стихи, договариваюсь, что завтра приду к ним не один, а со своими друзьями – композитором Револем Буниным и молодым поэтом Вадимом Бомасом.
Осип Максимович предлагает Револю Бунину написать оперу на его либретто.
4 марта 1944 года
«Дорогие мои! Простите за длительное молчание. Я вот уже дней десять живу на необитаемом острове. Во всяком случае, от почты меня отделяют добрых сорок километров пути, да еще и со смоленским «гаком»…
…А у нас кончается зима – самая трудная пора для солдата. Уже нет опасности отморозить себе нос на переездах. Уже дороги покрыты грязью по колено, а на речках под ногами потрескивает лед. Подземное существование кончается. Скоро вода из всех блиндажей и нор выгонит людей на поверхность.
Будьте здоровы! Леня».
13 марта 1944 года
«…У нас борьба на два фронта: с немцами и с весенними водами. Немцев мы побеждаем, а вода штурмует все наши землянки и в конце концов выгоняет нас наружу. Все-таки до весны еще далеко».
11 июня 1944 года
«…Стоит посмотреть по сторонам, как становится ясно, что второй фронт открыт. Вы, наверно, верить перестали и в шутку превратили, а он вдруг и открылся…»
18 июня 1944 года
«…Сижу на одной из белорусских высот и жду, когда откроется дорога на Оршу. Что еще? Немцы варварски разрушили железную дорогу Москва – Минск, даже шпалы они увезли с собой, а рельсы подорвали на каждом пролете».
- Она заводит патефон,
- и крутит, крутит грампластинки,
- а он танцует вальс-бостон
- и слезы льет на вечеринке.
- Любовь врасплох застала их
- между воронок и ухабов,
- где красный вермут на двоих
- и белая коробка крабов.
- Гниет «Победа» в гараже,
- стоят на пьедесталах танки,
- в осыпавшемся блиндаже
- на бочке сушатся портянки.
Глава 10
Прорыв обороны под Оршей
Девять месяцев продолжалась наша оборона под Оршей. С самого начала немцы заняли выгодные позиции на высотах по всему переднему краю армии, а пехота наша окопалась в болотистых низинах. Зимой еще ничего, а осенью и весной по пояс в воде. И в блиндажах была вода, и в ходах сообщения, а вокруг – чахлый березняк и болота. Однако несколько выгодных позиций и господствующих высот находилось и в наших руках.
Шесть месяцев на высоте близ Минского шоссе и деревни Старая Тухиня находился узел связи и наблюдательный пост старшего сержанта Корнилова. Приезжал я к нему по чувству долга, днем проверял состояние вооружения и аппаратуры, рассказывал о положении на фронтах и в тылу.
По вечерам читал «Ромео и Джульетту» и «Короля Лира», и много было ассоциаций по этому поводу. А вокруг падали мины, разрывались снаряды. Бойцы мои не обращали на них внимания, а я невольно вздрагивал и, так как это веселило их, задерживался на посту на двое-трое суток.
Однако в конце мая получил я приказ перейти на самый гребень высоты, где в пятистах метрах от немецкой линии обороны находился построенный за несколько ночей непробиваемый железобетонный наблюдательный пункт командующего артиллерией армии гвардии генерал-майора Семина. Кажется, в 1812 году на этой высоте перед одним из сражений сидел в кресле и смотрел в подзорную трубу Наполеон Бонапарт.
За две ночи рядом с дотом была выкопана квадратная яма глубиной метра четыре, в которую заехала полуторка с фанерным кузовом без окон, но с дверью и ступеньками до земли, в углу была буржуйка. Сверху машину для маскировки закидали до уровня земли еловыми ветками, внутри машины был довольно большой стол с коммутатором и телефонными аппаратами, кипами топографических карт, бумаг и рацией РСБ.
В распоряжении моем были один радист и один телефонист. К коммутатору моему были подведены все армейские линии связи, линии командующих корпусами, дивизиями и полками, отдельных артиллерийских бригад.
Но главная моя задача состояла в обслуживании наблюдательного пункта командующего артиллерией армии. В любой момент я мог соединить его с командармом, с политотделом, с любым из армейских подразделений.
От дверей моей машины шел глубиной четыре метра ход сообщения на наблюдательный пункт. Оттуда немцы в окопах были видны простым взглядом, а через подзорную трубу мощного увеличения можно было разглядеть лица и даже, при знании языка, читать их письма. Наблюдательный пункт, да и вся высота непрерывно обстреливались немецкой артиллерией и немецкими минометами, но дот был для них неуязвим, а в нашу замаскированную яму они просто не попадали.
То справа, то слева от нас разрывались снаряды, падали выпущенные из минометов болванки.
Справа от машины была выкопана яма-туалет. Выходить из машины было страшно. На самом деле кузов с фанерным потолком не представлял никакой преграды для мин и снарядов. Но такова психология – в освещенной двумя гильзами комнатке мы чувствовали себя в полной безопасности. Принимали и отправляли донесения и приказы. Я был в курсе всех переговоров и вообще всего, что происходило на территории армии. Но о главном я не написал.
Наблюдательный пункт был сооружен для коррекции и непосредственного управления воинскими частями, приготовленными для прорыва глубоко эшелонированной мощной линии обороны немцев на Борисовско-Оршинско-Минском направлении, то есть на пути наступления 3-го Белорусского фронта.
В мае все северные Прибалтийские и все южные Украинские фронты наступали. Украинские фронты приближались уже к границам Польши, Венгрии, Румынии.
Настроение было восторженное, уверенность в победе полная. По ночам бронетанковые и артиллерийские подразделения продвигались к линии обороны. Все линии связи были полностью загружены. Я в зашифрованном виде передавал приказы номеров первого, второго и т. п., получал ответы. Некогда было даже поесть. А днем, видимо чтобы немцы ни о чем не догадывались, линии были наполнены лирическими объяснениями, фантазиями и добродушным матом.
Мой голос знали все телефонистки армии, и я полушутя-полусерьезно объяснялся им в любви. То и дело эти разговоры носили общий характер. К ним подключались все, кто хотел. Вслед за телефонными поцелуями шли телефонные обнимания и телефонные совокупления со всеми деталями и всеобщими комментариями.
19 мая с утра началась артподготовка, снаряды разрывались в окопах и блиндажах немцев и сравнивали их с землей. С воздуха бомбили вражеские укрепления наши бомбардировщики.
Шестерками, одни за другими, пролетали наши штурмовики Ил-2. Но с ними творилось что-то странное: когда они долетали до третьей линии немецкой обороны, выполняли задание и пытались развернуться, ничего из этого не получалось, и один за другим они взрывались и падали.
Назад возвращался один из шести. Еще во время артподготовки мы вышли из своей подземной машины, стояли во весь рост на высоте и в недоумении наблюдали за этими катастрофическими воздушными атаками.
Через два часа пошла в атаку наша пехота. Две первые линии пробежали, а у третьей залегли и подняться на ноги уже не смогли. Заработали, и совсем не с тех позиций, которые бомбила наша авиация, немецкие пушки и пулеметы. Жуткий перекрестный огонь совершенно не пострадавших немецких пулеметных и минометных позиций. Появление немецких бомбардировщиков, гибель тысяч наших пехотинцев, пытавшихся вернуться на исходные позиции. А на линиях связи, на земле, в окопах, в штабных блиндажах и в воздухе, с гибнущих наших самолетов – отчаянный, путающий все указания мат перемешивался с нервными выкриками штабных телефонистов.
Наступление полностью провалилось. Множество тысяч убитых. Раненые бойцы ползком возвращались на исходные позиции. В контрнаступление немцы не пошли. Перед моими глазами догорали подбитые наши танки и самоходки.
Восемь ночей затем медленно двигались по Минскому шоссе и проселочным дорогам новые наши танковые и моторизованные пехотные дивизии.
29 мая наступление наших войск снова провалилось. Дальше третьей линии немецких укреплений не прошли и понесли огромные потери.
А через день перед строем читали нам адресованное командующему 3-м Белорусским фронтом маршалу Черняховскому страшное письмо Ставки Верховного главнокомандования о том, что 3-й Белорусский фронт не оправдал доверия партии и народа и обязан кровью искупить свою вину перед Родиной.
Я не военный теоретик, я сидел на наблюдательном пункте и видел своими глазами, какими смелыми и, видимо, умелыми были наши офицеры и солдаты, какой беззаветно храброй была пехота, как, невзирая на гибель своих друзей, вновь и вновь летели на штурм немецких объектов и безнадежно погибали наши штурмовики, и мне ясна была подлость формулировок Ставки. Мне ясно было, что разведка наша оказалась полностью несостоятельная, что авиация наша, погибая, уничтожала цели-обманки, что и количественно и качественно немецкая армия на этом направлении во много раз превосходила нас, что при всем этом и первый, и второй приказы о наступлении были преступны и что преступна была попытка Ставки Сталина свалить неудачи генералитета и разведки на замечательных наших пехотинцев, артиллеристов, танкистов, связистов, на мертвых и выживших героев.
Все это наверняка понимали и Сталин, и Жуков, и Черняховский, угробившие несколько десятков тысяч людей. Но при общем наступлении 1944 года наш оставшийся на важнейшем направлении фронт должен, обязан был переходить в наступление, ошибка должна была быть исправлена не смертью и кровью ослабленных подразделений, а стратегией и тактикой штаба Главнокомандующего.
И вот началось.
Каждую ночь по Минскому шоссе и по всем параллельным большим и малым трактам и проселочным дорогам из резерва Главнокомандования двигались свежие корпуса, дивизии и бригады, тысячи танков и самоходок.
На «Доджах» и «Студебеккерах», полученных по ленд-лизу, десятки тысяч вооруженных автоматами, пулеметами и минометами частей, колонны «катюш», бесконечные колонны машин с боеприпасами и продовольствием, хлебом, крупами, комбижиром и американской тушенкой. Непрерывный ночной гул днем замирал, и, сколько я ни смотрел, ничего вокруг не было видно.
24 июня началось новое наступление.
Я сидел в закопанной в землю машине перед топографическими картами от Смоленска до Кёнигсберга. Принимая и передавая лаконичные, непонятные мне телефонограммы, я на этот раз чувствовал, что повторения того, что было, не будет, что впереди Берлин, Кёнигсберг.
Все было грандиозно.